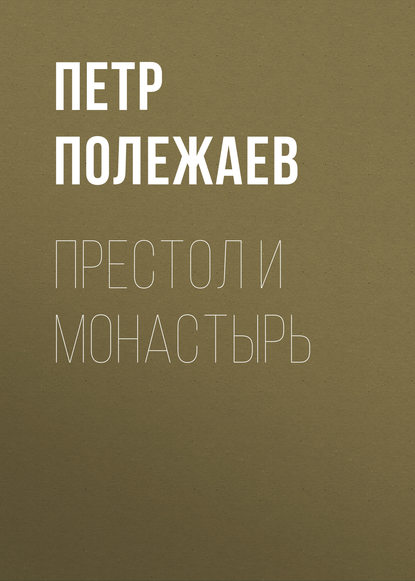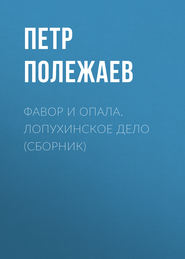По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Престол и монастырь
Автор
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Молодая женщина переживала переворот. Вся занятая, всей своей плотью и кровью, важностью совершающихся событий, она круто высвобождалась из-под обаяния чувственности, и как мелок, как ничтожен показался ей тогда вчерашний любимец, ничего не давший ей, кроме страстных ласк.
– Мавра! Позови ко мне, как только явится, Турку.
– Воротился он, государыня, и ждет твоего приказа.
– Узнал? – спросила она, оборачиваясь к входившему стрельцу.
– Узнал, государыня. Царь Петр Алексеевич уехал из Преображенского верхом в полночь к Троице, вслед за ним отправились туда обе царицы и князь Борис Алексеевич с потешными и налетами, а на рассвете выехал туда ж и весь боевой снаряд.
– Как? И огненный бой перевезли?
– Перевезли…
– И я об этом узнаю только теперь, когда нет возможности… нет средств. Ступай вон! – крикнула она стрельцу.
«К Троице… конечно, туда… сама же показала дорогу… сама научила… Семь лет князь Василий…»
– Мавра! – позвала она снова постельницу. – Пошли за Василием Васильевичем.
И теперь в новую критическую пору своей жизни молодая женщина снова обратилась к забытому старому другу, к тому, кто первый научил ее правилам политической мудрости. С нетерпением она ждала его.
В дверях появился князь Василий. С лихорадочным волнением бросилась к нему навстречу молодая женщина и – остановилась.
– Князь Василий, – прошептала она, – я ждала…
– Поздно, государыня, – отвечал он тихим, но не прежним ровным, а надорванным голосом.
Глаза их встретились, и многое прочитали они друг у друга, многое, что не высказывается словами. Страшно изменился князь Василий с возвращения из Крымского похода, стал почти неузнаваем. Загорелый, но все еще мягкий и приятный цвет лица принял желчно буроватую черствую тень, черты сделались резкими, нос заострился и выдался, глубокие складки избороздили лоб и очертили рот, сжатый в холодную усмешку, а из полуопущенных век вырывались не прежние бархатные ласкающие лучи, а какой-то пристальный, тревожный и всеподозревающий взгляд. Этот-то стальной взгляд и остудил порыв молодой женщины, бросившейся было к нему, правда, под влиянием чувства самосохранения, но не прежнего сердечного увлечения, которого не было да и не могло быть. Человек не отрыгает, не пережевывает дважды одного и того же чувства.
– Я позвала тебя, князь, для совета… и как ми… постоянного, верного слугу… – начала снова Софья Алексеевна, овладев собой.
– Государыня, Голицыны всегда были верными слугами… никогда не изменяли.
– Ты знаешь, – продолжала царевна, как будто не замечая едкого упрека, – все, что случилось… из Преображенского бежали в эту ночь… Что теперь делать? Да садись сюда, князь, к столу… подумаем, как бывало прежде…
И опять они сидели так же близко, как в былое время. Та же женщина с таким же доверием обращалась к нему, и недавнее тяжело пережитое стало уходить из памяти князя. Теплое, ласкающее что-то облило его, и в голосе его ответа зазвучала прежняя сердечная мягкость.
– Ты напомнила, царевна, о прежнем, и я начну говорить с прежнего, говорить правду, какую ты давно не слыхала, да может, и не услышишь больше никогда. Только о себе ничего не скажу…
После покойного братца твоего, Федора Алексеевича, ты помнишь, какое осталось во всем нестроение, а из всего царского семейства, кроме тебя, никого не было, кто бы мог управлять всем царством. Ты по разуму своему и по образованию могла заправлять всеми делами, и ты стала царствовать – каким путем, мне до этого дела нет – лишь бы царство не теряло да народу легче стало. Многое ты сделала, но еще больше не могла успеть – подготовки не было прочной, надо было начинать. Но твое царствование было временное, царевна, только до возраста царя. Так все думали, так думала и ты сама. Во время отлучек моих в Крым ты изменилась… Тебе стали нашептывать преступные мысли. Люди недостойные из желания угодить, а может, и из своей корысти потворствовали твоей слабости, но, поверь, царевна, людей этих немного, и они только зачернят тебя в рознь с братом, в такую рознь, что нет вам общей дороги… А так как ты не в силах брату переступить дорогу, то лучше, по моему мнению, царевна, тебе самой отказаться… Поезжай куда-нибудь, хоть в Польшу например, я за тобой поеду… и можешь ты быть там спокойной и счастливой…
Софья Алексеевна задумалась, но не надолго… Она слишком втянулась в самовластную сферу, в ту сферу, откуда почти нет добровольного выхода.
– Бежать! От кого? От пьяного конюха? От женщины, мучившей меня с детства? И ты советуешь мне… оставить царство и мой народ, для которого я столь сделала и сделаю, на руки всякому сброду… никогда! Лучше борьба на жизнь и на смерть…
– Поверь, государыня, и борьбы не будет, – продолжал князь упавшим голосом. – У тебя нет силы. Тебя принудят сделать то, что теперь ты бы сделала добровольно и в чем были бы тебе благодарны.
– Ошибаешься, князь, я не одинока, и принудить меня нелегко… Ну а другого средства, по-твоему, вовсе нет?
– Есть… Только это все одно что броситься в пропасть… Если веришь в свою силу, то собери рать и поди открыто на осаду к Троице. Только в этом я тебе не слуга, да и мало их будет, кроме пьяных… И их, и себя погубишь…
– Лучше гибнуть, чем бежать… а может, еще и уладится… подумаю… Если бы у меня были только твердые руки, на которые могла бы положиться… а то одна… и всегда буду одна… Неужели ты, князь, думаешь, что, отстраняясь от меня, ты спасешься, что тебя пощадят?
– Не знаю, что со мной будет, государыня, да для меня теперь все равно…
Разговор оборвался.
– Прощай, Василий, увидимся ли мы? Спасибо за прежнее… – и Софья протянула ему руку.
Горячо поцеловал протянутую руку Василий Васильевич. Сердце говорило ему, что это было последнее целование.
Сколько ни думала правительница, но ни к какому выводу не пришла. На другой день утром (9 августа) прискакал гонец из-под Троицы от царя Петра, и, как есть, запыленный с дороги, приведен был прямо в покои правительницы.
– Здоров ли брат мой? – спросила царевна с тем самообладанием, с тем видом наружного спокойствия, которые она так умела брать на себя при приемах в минуты самого тревожного волнения.
– Царь и государь-батюшка Петр Алексеевич Божиею милостью жив и здоров и приказывал мне, рабу своему, спросить у братца своего, царя и государя Ивана Алексеевича, и у тебя, государыня: для какой надобности собрано было такое множество ратных людей в Кремле в ночи третьего дня? – говорил гонец, отвешивая обычный земной поклон.
– В разъездах своих да превеликих трудах и заботах царь, видно, забыл, что я, по обычаю, ночью хаживаю помолиться святым угодникам. Днем бывает недосужно. Так вот и третьего дня я собиралась на богомолье в Донской монастырь, а ратные люди снарядились сопровождать меня ради опаски. Недавно и так при моих глазах человека зарезали на Девичьем. Людей было снаряжено не много… верно, братцу вести перенеслись неверные. От кого такие вести?
– Не ведаю, государыня, и твой наказ передам в точности. Теперь увидать бы мне позволь государя Ивана Алексеевича.
– Увидеть нельзя, – отвечала царевна, – голова у него болит – допускать к себе никого не велел.
– А отчего братец с такой великой поспешностью вдруг собрался к Троице? – продолжала царевна после небольшого молчания. – Его внезапный отъезд привел в смущение все государство и Москву…
– Не ведаю, государыня, ничего не ведаю. Государь ничего наказывать не изволил.
Видя, что от гонца ничего добиться нельзя, правительница поспешила его отпустить.
«У Петра люди есть… они решились действовать и пробуют силу, – думала она по уходе гонца, – а я… надобно же на что-нибудь решиться… Не идти ль на Троицу? У Петра только потешные конюхи, а у меня восемнадцать стрелецких полков. Да и в самом монастыре разве не найду пособников? Неужто отец Викентий забыл мои благодеяния! Посмотрим еще…»
Но это были только мечты, разлетевшиеся от суровой действительности. В соседней комнате послышались торопливые шаги, и к ней, без доклада, почти вбежал Федор Леонтьевич. На бледном, встревоженном лице его ясно можно было читать испуг и отчаяние.
– Спаси, государыня, спаси… о твоей пользе радел я…
– Что с тобой, Федор Леонтьич, чего испугался?
– Беда над моей головой, государыня, денщики мои, на верность которых я надеялся, которым верил, перед которыми не скрывался, убежали к Троице… к царю Петру…
Как ни была испугана сама правительница таким серьезным известием, но не могла удержаться от презрительной улыбки и едкого слова:
– Хорош ты воин, Федор Леонтьич, коли своих денщиков растерял до брани. Ступай и успокойся. Царевна Софья не выдает своих слуг.
Известие действительно могло заставить растеряться и не такую голову, какая была у Федора Леонтьича. Побег Елизарьева, Капранова, Троицкого и Турки, с одной стороны, выказывал, как шатка была преданность стрельцов, как мало можно было полагаться на них в открытой борьбе, а с другой стороны, доставлял противной стороне все сведения, все подробности планов и действий Шакловитого и царевны.
Не успела опомниться Софья Алексеевна от этого удара, как доложили ей о прибытии нового гонца из-под Троицы. С этим гонцом Петр уже требовал присылки к себе полковника Стремянного полка Ивана Цыклера с пятьюдесятью стрельцами.
Немало удивило это требование царевну Софью. Она помнила услуги Цыклера в деле 1682 года и считала его за одного из самых преданных себе людей. «Погубить хочет его», – подумала она, и первым движением ее было не выдавать полковника, но не значило ли это подтвердить все доносы на нее? И она решилась лучше спросить самого Цыклера.