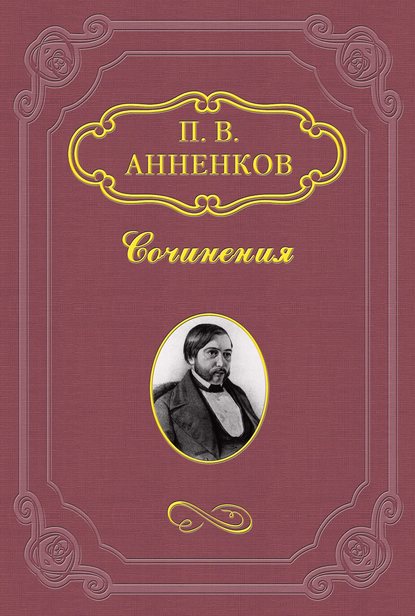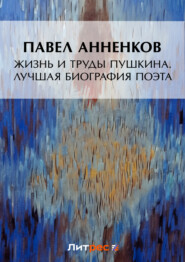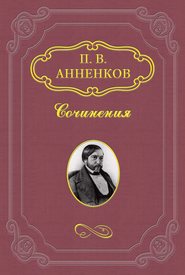По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Шесть лет переписки с И. С. Тургеневым. 1856–1862
Жанр
Год написания книги
1885
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Любезнейший П. В. Ваше умное как день письмо получено мною вчера – я спешу отвечать вам; чтобы не сбиться и все сказать, что следует и на своем месте, разобью мое письмо на пункты. 1) Литература. Вероятно, вы, по получении этого письма, уже будете знать, что я нарушил мое молчание, то есть написал небольшую повесть, которая вчера отправлена в «Современник». Я и Панаева и Колбасина просил о том, чтобы до напечатания повесть эта была прочтена вами и напечаталась не иначе, как с вашего одобрения. Не стану вам говорить о ней – лучше я послушаю, что вы о ней скажете. В ней решительно нет ничего общего с современной пряной литературой, а потому она, пожалуй, покажется fade[2 - пресной (франц.)]. Повесть эту я окончил здесь. Я чувствую, что я здесь мог бы работать… (см. ниже пункт: жалобы на судьбу). Кончивши эту работу, я засел за письмо Коршу, которое оказывается затруднительнее, чем я предполагал. Впрочем, непременно одолею все затруднения – и дней через 5 или 6 надеюсь выслать это письмо на ваше имя. 2) Жалобы на судьбу. Если здоровье вообще нужно человеку, то в особенности оно нужно ему тогда, когда он подходит к 40 годам, то есть во время самой сильной его деятельности. Под старость болезнь дело обычное, в пору молодости – интересное. Как же мне не пенять на судьбу, наградившую меня таким мерзким недугом, что по милости его я превращаюсь в вечного жида. Вы из одного слова поймете мое горе: после двухмесячной борьбы я с сокрушенным сердцем принужден оставить милый Рим и ехать черт знает куда – в поганую Вену советоваться с Зигмундом. Здешний климат развил мою невралгию до невероятности, и доктор меня сам отсюда прогоняет. Ну, скажите – не горько это? Не гадко? Я всячески оттягиваю и откладываю день отъезда, но больше месяца от нынешнего числа я не проживу здесь. Ведь надобно же, чтобы ко мне привязалась такая небывалая болезнь. Поверьте, никакие ретроспективные соображения тут не утешат. Однако, если вы будете отвечать мне тотчас (а это было бы очень мило с вашей стороны, потому что мне хочется поскорее узнать ваше мнение о моей повести), пишите еще пока в Рим. 3) Рим. Рим – прелесть и прелесть. Зная, что я скоро расстанусь с ним, я еще более полюбил его. Ни в каком городе вы не имеете этого постоянного чувства, что Великое, Прекрасное, Значительное близко, под рукою, постоянно окружает вас и что, следовательно, вам во всякое время возможно войти в святилище. Оттого здесь и работается вкуснее и уединение не тяготит. И потом этот дивный воздух и свет! Прибавьте к этому, что нынешний год феноменальный: каждый день совершается какой-то светлый праздник на небе и на земле; каждое утро, как только я просыпаюсь, голубое сияние улыбается мне в окна. Мы много разъезжаем с Боткиным. Вчера, например, забрались мы в Villa Madama – полуразрушенное и заброшенное строение, выведенное по рисункам Рафаэля. Что за прелесть эта вилла – описать невозможно: удивительный вид на Рим, и vestibule такой изящный, богатый, сияющий весь бессмертной рафаэлевской прелестью, что хочется на коленки стать. Через несколько лет все рухнет – иные стены едва держатся; но под этим небом самое запустение носит печать изящества и грации; здесь понимаешь смысл стиха: «Печаль моя светла». Одинокий звучно журчавший фонтан чуть не до слез меня тронул. Душа возвышается от таких созерцаний – и чище и нежнее звучат в ней художественные струны.
Кстати, я здесь имел страшные «при» с русскими художниками. Представьте, все они (почти без исключения – я, разумеется, не говорю об Иванове), как за язык повешенные, бессмысленно лепечут одно имя: Брюллов, а всех остальных живописцев, начиная с Рафаэля, не обинуясь, называют дураками. Здесь есть какой-то Железнов (я его не видал), который всему этому злу корень и матка. Я объявил им наконец, что художество у нас начнется только тогда, когда Брюллов будет убит, как был убит Марлинский: delenda est Carthago, delendus Brulovius
(#c_17). Брюллов – этот фразер без всякого идеала в душе, этот барабан, этот холодный и крикливый ритор – стал идолом, знаменем наших живописцев! Надобно и то сказать, таланта в них, собственно, ни в ком нет. Они хорошие рисовальщики, то есть знают грамматику – и больше ничего. В одном только из них, Худякове, есть что-то живое, но он, к сожалению, необразован (он из дворовых людей), а умен и не раб – не ленивый и самонадеянный раб духом, как другие, хотя и он молится Брюллову.
Удивили вы меня известием о лесных затеях Толстого! Вот человек! С отличными ногами непременно хочет ходить на голове. Он недавно писал Боткину письмо, в котором говорит: «Я очень рад, что не послушался Тургенева, не сделался только литератором». В ответ на это я у него спрашивал, что же он такое: офицер, помещик и т. д.? Оказывается, что он лесовод. Боюсь я только, как бы он этими прыжками не вывихнул хребта своему таланту; в его швейцарской повести уже заметна сильная кривизна. Очень бы это было жаль, но я все-таки еще крепко надеюсь на его здоровую природу. Resume: а) напишите мне тотчас мнение об «Асе» сюда; b) высылайте сюда же Пушкина, Гоголя непременно; с) я вам через неделю пошлю письмо Коршу; d) любите меня, как я вас люблю. Боткин благодарит и кланяется вам. И. Т.».
Как ни откладывал Тургенев свой выезд из Рима, сперва на месяц, а потом на 1(13) марта 1858 (в январе 1858 года он еще был на месте), но только 9 апреля успел свидеться с доктором Зигмундом в Вене. Вообще он медленно отрывался от насиженного места, и никогда нельзя было верить срокам, назначенным им для своего выезда. Зато он не останавливался отдыхать на дороге и пролетал большие расстояния, не выходя из вагона, даже и в припадках одной из своих болезней. Нужно еще удивляться, что он так скоро разорвал свои связи с Римом. Кроме недуга, игравшего тут, конечно, важную роль, но под конец уже и ослабевшего, как увидим, – тут была еще причина психическая. Тургенев не мог быть жильцом Италии, как ни любил ее. Он представлял из себя европейски культурного человека, которому нужен был шум и говор большого, политически развитого центра цивилизации, интересные знакомства, неожиданные встречи, прения о задачах настоящей минуты – даже анекдоты и говор толпы, конечно не ради их содержания, а ради того, что они отражают настроение людей, их создавших или повторяющих, и рисуют столько же их самих, сколько и тех, которые сделались предметом их злословия. Чуткость Тургенева к красотам природы, к памятникам искусства, к остаткам древнего величия не подлежит сомнению; свидетельством тому может служить только что приведенное письмо: в нем есть описания высокопоэтического характера и верности почти фотографической. Ему недоставало только мужества заключиться в себе самом и довольствоваться анализом великих ощущений и мыслей, навеваемых Италией. Этой ценой только и покупалось право жить в Италии и репутация мудрости, полученная некоторыми лицами, сделавшими себе удел из блаженного созерцания. Но в натуре Тургенева не было пищи и элементов для долгой поддержки созерцания: он искал событий, живых лиц, волн и разбросанности действительного, работающего, борющегося существования, Правда, в 1848 году, в эпоху «resorginato»[3 - возрождения, обновления (итал.)], пульс умственной и общественной жизни в Италии бился сильнее прежнего, но бежать из Франции (Тургенев находился тогда в Париже), которая давала тон всему европейскому движению, было бы нелепостью, кроме разве с специально агитаторскими целями, а Тургенев, что бы ни говорили нынешние клеветники поэта, агитатором никогда не был, да по развитию своему и не мог им быть. Замечательно, что с 1858 года он уже более никогда не возвращался в любимый им Рим, в превозносимую им Италию.
Сам Л. Н. Толстой распустил тогда слух о том, будто он предполагает заняться лесоразведением в южной России. Я передавал только его слова, когда сообщал Тургеневу такой слух. Гораздо важнее этого обстоятельства, которое могло бы сделаться очень важным предприятием, если бы не возникло оно у Толстого из странного отвращения к писательству, к роли, играемой у нас авторами; важнее, говорю, другое явление: усиленное беспокойство Тургенева об участи своего прелестного рассказа «Ася». Трудно сказать, что заставляло его домогаться с настойчивостью отзывов о такой малой вещице, как «Ася». Вероятнее всего предполагать, что основа «Аси» взята из биографического факта, дорогого почему-то самому автору. Он боялся, что слабая передача его уничтожит или извратит его значение. Я успокоил его, передав ему мнение многих его почитателей, что недостаток «Аси» заключается в одном. Такая поэтическая и вместе реальная характеристика героини, не часто встречающаяся и в более богатых литературах, чем наша, заслуживала бы большего развития, рамки, например, романа, которую она совершенно наполнила бы собою
(#c_18). Тургенев остался доволен отзывом, как это видно и из последнего письма его в Риме, которое теперь и приводим здесь.
«Рим. 19(31) января 1858.
Я виноват перед вами, как нельзя более, – не отвечал на ваше письмо от 21 декабря и не переписал совсем конченные два письма (№ 2 и 3) для Корша. С нынешнего дня засел я за эту работу, и через 4 или 5 дней они отправятся к вам. Мысль, что первое письмо вам понравилось, меня ободряет и развязывает руки. Я не хочу только откладывать ответ мой на ваше письмо от 8 января. Причины моего замедления были двоякие: некоторые рассеяния и довольно серьезная и для меня не совсем привычная работа, о которой я поговорю с вами лично и которая касается вопроса, занимающего теперь всю Россию
(#c_19). Очень вам благодарен за доставленные сведения и проч. В ваших письмах наш брат, живущий в отдалении, щупает пульс своей страны и общества.
Отзыв ваш об «Асе» меня очень радует. Я написал эту маленькую вещь, только что спасшись на берег – пока сушил «ризу влажную мою», а потому я бы вовсе не удивился, если б моя первая – после долгого перерыва – работа не удалась. Оказывается, что она вышла изрядная – и я искренно этому радуюсь.
Рассеяния, о которых я упомянул выше, состоят во множестве новых знакомств. Из них упомяну великую княгиню Елену Павловну, с которой я уже имел несколько длинных разговоров. Она женщина умная, очень любопытствующая и умеющая расспрашивать и – не стеснять; на конце каждого ее слова сидит как бы штопор – и она всё пробки из вас таскает: оно лестно, но под конец немного утомительно. Сошелся я очень близко с кн. Черкасским (Владимиром) и его женой; очень они милые, живые люди. Видаю часто князя Д. Оболенского, г-жу Смирнову… иногда Бакуниных, также Ростовцева, сына Иакова. Трудно выразить, что это за милый, симпатический, честный и откровенный человек. Из художников, после Иванова, самый приятный Сорокин как человек; таланта у него, к сожалению, нет. Изо всех здешних художников талант есть только у одного Худякова, но сам он… необразован, завистлив и надут. Молодой живописец Никитин сделал мой акварельный портрет; все находят его чрезвычайно схожим.
Известия об обеде в Москве и т. д. меня радуют
(#c_20) и в то же время несколько пугают. Я не думаю, чтобы теперь такое время, когда нужно шуметь. Вы прочтете в «Nord» небольшое письмо, написанное мною в ответ на статью, помещенную об этом обеде; там была несправедливая выходка против славянофилов – как будто они не желают освобождения крестьян, между тем как они-то больше всех и хлопотали о нем. Я в этом письме заступаюсь за них с этой только точки зрения. Я это сделал в угоду Черкасскому, письмо которого не было бы принято. Впрочем, и мое, пожалуй, не примут.
Пушкина (то есть издания) еще нет здесь. Гг. «Современники» также не выслали свой декабрьский номер. О свадьбе Ол. Алекс. ничего не слыхал. Она в Ницце, и здоровье ее хорошо. Жаль мне очень бедного Дружинина. Боткин только на днях получил письмо от него (оно провалялось месяца два на почте) и тотчас отвечал ему. Наружность Дружинина мне весьма не понравилась уже в Занциге. Знаете ли, мне почему-то кажется, что у него должен быть diabete sucre (моча с сахаром), весьма быстро изнуряющая и опасная болезнь. Нельзя ли шепнуть об этом Шипулинскому? «Иногда и слепая свинья набредет на желудь», – гласит немецкая пословица, и, может быть, моя мысль справедлива.
Погода у нас здесь стоит чрезвычайно ясная и холодная. Говорят, в Венеции выпал сильный снег, и лагуны замерзли. Боятся, как бы в карнавал не пошли дожди. Здоровье мое если не хорошо, то по крайней мере удовлетворительно. Мучений нет, а уж ormalais'a[4 - недомогания (франц.)], я и не надеюсь отделаться.
Ждите двух больших пакетов через несколько дней. Да непременно вышлите сюда «Атеней». Если увидите Д. Колбасина, напомните ему, что я жду от него ответа на некоторые мои запросы. Пишите мне пока в Рим, poste restante. Я отсюда окончательно выезжаю только 1(13) марта. Жму вам дружески руку и остаюсь И. Т.
Р. S. Поклонитесь от меня кн. Вязем. да сходите наконец к графине Ламберт и попросите ее написать мне свое мнение об «Асе», – нужды нет, выгодное или невыгодное».
* * *
В 1858 году предпринял и я поездку в Европу, после десятилетнего безвыездного пребывания в России. Любопытно было узнать новые порядки, воцарившиеся на Западе в течение этого времени. Перемен, и нравственных и материальных, было много. За исключением Берлина, где строительная горячка началась только с франко-прусской войны 1870 года, старые города. Европы, как Париж, Вена, Дрезден, сделались почти неузнаваемы. Стремление к роскоши существовало и до Второй империи, поддерживаемое громадным торговым производством и обогащением буржуазии; но с Наполеона III оно забыло все приличия. Повсюду возникали великолепные, как общественные, так и частные здания, опрокидывались памятники старины, уничтожались исторические дома и улицы; по примеру Парижа, каждая столица, каждый значительный пункт населения (за исключением, повторяем, Берлина, остававшегося до поры-времени старым и грязным городом) как бы решились отделаться от своего прошлого, смыть с себя последние остатки средневекового быта и начать для себя новую эру существования со вчерашнего дня. Одобрение со стороны многочисленных рабочих и мещан, заинтересованных в постройках, поддерживало общее одушевление; но когда наступил кризис, капиталы скрылись в банкирских конторах, а фабричное производство, превзошедшее потребности рынков и населения, остановилось; явились для всех – предпринимателей и исполнителей – разочарование и нищета. До тех пор на улицах европейских городов шел постоянный пир и праздник. Увеселительные заведения множились со всех сторон ежедневно, принимая тоже громадные размеры, и в уровень с ними разрастались вкусы и требования рабочих и мещан, которые уже составляли их верную статью дохода. Вид общего благосостояния на Западе обманывал туристов и заставлял их думать, что средства каждого посетителя этих волшебных замков увеличились по крайней мере в десять раз за последнее время. Зрелище общего ликования было, действительно, увлекательное.
В Берлине я получил венскую телеграмму Тургенева, которая, в отмен прежних требований явиться в столицу Австрии для свидания с ним, приказывала не трогаться с места и ждать новых инструкций. Как горячо звал меня Тургенев в Вену, видно из следующего письма:
«Вена. 7 апреля 1858.
Милый А. Сегодня в 5 час. вечера я приехал сюда, получил ваше письмо в седьмом и отвечаю в 8. Нечего говорить, как я рад нашему скорому свиданию, – все это само собою разумеется – приступаю к делу.
Не стану вам повторять моей плачевной истории: вы знаете, что вот уже скоро полтора года, как бес в меня вселился в виде болезни пузыря и грызет меня день и ночь. В Италии в течение зимы мне не было облегчения, я не лечился, потому что махнул рукой; однако я теперь хочу попытаться в последний раз, а именно хочу прибегнуть к совету здешнего врача-специалиста по этой части – Зигмунда (для этого я приехал в Вену) и по крайней мере месяц лечиться, то есть дать время этому доктору узнать наконец, что у меня такое, и не ограничиться советом ехать на воды или чем-нибудь в этом роде. Вы видите, что мне теперь из Вены выехать невозможно. Я не видал еще Зигмунда – я увижу его завтра и тотчас напишу вам, что он мне скажет, но я знаю наперед, что он потребует моего пребывания здесь… Остается вам приехать сюда; разница всего несколько часов, положим даже целые сутки, но я надеюсь, что вы пожертвуете ими для меня. Я так был бы рад свидеться с вами! Вы видите, что я прикован здесь; мне уже наскучило попусту советоваться с знаменитостями; я хочу, я должен лечиться – или уже примириться с мыслию, что жизнь моя отравлена. Батюшка, П. В.!.. Приезжайте! А отсюда ступайте в Лондон – я сам вслед за вами поеду. (Я должен 15 мая присутствовать в качестве шафера на свадьбе Орлова и в начале мая на несколько дней буду в Лондоне, куда приедет и Боткин.) Одним словом, я вас жду здесь. Вы должны приехать. Это невозможно, чтобы вы не приехали; умоляю вас приехать. Остановился я в гостинице Matschakerhoff, Seiles Gasse, № 33. Я жду вас… Боже, что мы переговорим! Завтра от меня еще будет письмо. Весь ваш Ив. Т.».
Инструкции и явились через два дня в форме письма из Вены от 9 апреля 1858 года, где он описывает свое свидание с доктором Зигмундом и прибавляет, чтобы я тотчас же укладывался и направлялся в Дрезден, так как он сам, после отсылки своего письма, едет туда и будет ждать меня в Hotel de Saxe. Известие было очень приятное. На другой же день, через 5–7 часов, я был уже в Дрездене и в отеле и изумился, встретив цветущего пациента в человеке, чуть не приговоренном к смерти. Особенно поразительна была у опасно больного его речь, исполненная юмора, образности и меткости. Я заметил ему это и получил ответ:
«Вот видите ли! Организмы людей, пораженных хроническим, опасным недугом, каков мой, кажутся в спокойные минуты свои более крепкими, чем те, которые не испытывали никаких потрясений. Болезнь тут отдыхает, оставляя природе насыщаться и здороветь для того, чтобы на подготовленной почве разыграться еще с большей силой. Я даже полагаю, что и умру так, что удивлю всех неожиданностью». Пророчество, однако же, не сбылось. Он умирал долго и слишком ощутительно для своих друзей и образованной части России и Европы. Прилагаем венское его письмо. Это, как увидит читатель, – скорбный лист Тургенева, продиктованный одною из тогдашних ученых знаменитостей.
«Вена. Пятница, 9 апреля 1858.
Любезный А. Сейчас от Зигмунда. Осмотревши меня весьма подробно и сзади и спереди, он объявил мне, что у меня какая-то железа распухла и левый с… канал (извините все эти подробности) поражен; что если я не займусь серьезно этой болезней, худо будет; что я должен в нынешнем же году провести 6 недель в Карлсбаде и 6 недель в Крейцнахе, а здесь должен остаться еще дней 5, в течение которых должен каждое утро к нему ездить, и он будет учить меня ставить себе «bougies». Это, кажется, я на первого доктора наткнулся, который серьезно мною занялся, но какая милая перспектива… Приходится начинать старческий период жизни, то есть заниматься возможным предупреждением или замедлением окончательного разрушения. Что делать… А скоро все выгорело!
Но теперь что предпринять? Ясно, что вам сюда незачем ехать; боюсь только, как бы вы уже не выехали из Берлина. Обдумавши свое положение, я решаюсь на следующее.
Отложить свое возвращение в Россию до конца августа. На лечение употребить 3 месяца – от половины мая до половины августа. Съездить теперь в Париж и Лондон, так как раньше половины мая лечение водами невозможно. Все это мне, как кол в горло, но необходимость – не своя сестра. А потому, если мое письмо еще застанет вас в Берлине (оно вас застанет, потому что я сейчас посылаю к вам телеграмму), то знайте, что я во вторник выезжаю отсюда и в среду утром буду в Дрездене, в Hotel de Saxe, куда и вы приезжайте; мы там сговоримся, что нам делать и как ехать. Может быть, я даже в понедельник выеду, но во всяком случае в среду утром я в Дрездене. И потому до свидания. Ваш И. Т.».
«А скоро все выгорело!» – воскликнул Тургенев, сообщая диагноз доктора Зигмунда, – однако же не так скоро, как думал сам пациент и его эскулап. Еще целых 26 лет горела трудовая лампа на письменном столе Тургенева и освещала возникновение один за другим многих и многих капитальных произведений. Но о них не было еще и помина в Дрездене. «Дворянское гнездо» зрело в уме Тургенева, но к нему он еще и не приступал
(#c_21). Разговор наш обращался к проектам вояжей и встреч, из которых ни один не осуществился, как и большая часть таких проектов, не принимающих в соображение случайностей и непредвидимых помех. Ни слова не было сказано также и о том, о чем хотел переговорить со мною лично, о проекте обучения и воспитания народа. Взамен литературные новости интересовали Тургенева в высшей степени, и анекдотов о людях и событиях из этой области было множество. Три дня с их обедами и ужинами пролетели незаметно. Тургенев отправился в Лондон, как хотел, а я уехал в Киссинген, а оттуда, по окончании курса, в Мюнхен, Тироль и Зальцбург
(#c_22). Из Зальцбурга через Берхтесгаден, Кенигзее и Линц, праздновавший тогда рождение австрийского кронпринца Рудольфа, далее по Дунаю, в Вену; из Вены я скоро достиг Бреславля, потом Варшавы, а оттуда, сопровождаемый великолепной кометой, не сходившей с неба почти всю ночь, прибыл в Петербург в августе месяце. Тургенев явился туда же почти вслед за мной
(#c_23).
Он привез с собой новинку, именно – «Дворянское гнездо», которую начал еще за границей, а доканчивал уже всю осень в Петербурге на своей квартире – Б. Конюшенная, д. Вебера, – посреди шума и говора приемов и массы посетителей. Тургенев обладал способностью в частых и продолжительных своих переездах обдумывать нити будущих рассказов, так же точно, как создавать сцены и намечать подробности описаний, не прерывая горячих бесед кругом себя и часто участвуя в них весьма деятельно. Мы не имеем, к сожалению, чернового подлинника «Гнезда»; но вот какую отметку встречаем на следовавшем за «Дворянским гнездом» романе «Накануне»: «Начата в Виши, во вторник 28 (16 июня) 1859; кончена в Спасском в воскресенье 25 октяб. (6 ноября) 1859; напечатана во 2-й книжке «Русского вестника» за 1860 г.» – срок вдвое больший, чем тот, который потребовал для себя «Рудин» в первоначальной редакции (7 недель), но тоже не очень значительный, если принять в соображение время, употребленное на переезд из Виши в Париж, оттуда в Берлин и Петербург, а оттуда через Москву в деревню Орловской губернии и еще неизбежные остановки в городах. Но что такое было само «Дворянское гнездо», явившееся в январской книжке 1859 года «Современника»?
В один зимний вечер 1858 года Тургенев пригласил Некрасова, Дружинина и нескольких литераторов в свою квартиру с намерением познакомить их с новым своим произведением. Сам он читать не мог, нажив себе сильнейший бронхит и получив предписание от врача своего, доктора Шипулинского, не только не читать ничего для публики, но даже и не разговаривать с приятелями. Присужденный к безусловному молчанию, Тургенев завел аспидную доску и вступал посредством нее в беседу с нами, иногда даже очень продолжительную, что с некоторым навыком происходило довольно ловко и быстро. Чтение романа поручено было мне; оно заняло два вечера
(#c_24). Удовлетворенный всеми отзывами о произведении и еще более кой-какими критическими замечаниями, которые тоже все носили сочувственный и хвалебный оттенок, Тургенев не мог не видеть, что репутация его как общественного писателя, психолога и живописца нравов устанавливается окончательно этим романом. Совершенно успокоенный, он просил Некрасова припечатать, после оглавления, посвящение его мне, в благодарность за чтение, но Некрасов почему-то не исполнил его желания, и запоздалое посвящение явилось только в 1860 году в «Библиотеке для чтения» при замечательной тоже повести его «Первая любовь»
(#c_25).
Но что произошло, когда в «Современнике» 1859 года явился роман «Дворянское гнездо»? Многие предсказывали автору его овацию со стороны публики, но никто не предвидел, до чего она разовьется. Молодые писатели, начинающие свою карьеру, один за другим являлись к нему, приносили свои произведения и ждали его приговора, в чем он никогда не отказывал им. стараясь уразуметь их дарования и их наклонности; светские высокопоставленные особы и знаменитости всех родов искали свидания с ним и его знакомства. Особенно, как мы уже имели случай заметить прежде, он сделался любимцем прекрасного пола, упивавшегося чтением его романа. Женщины высших кругов петербургского общества открыли ему свои салоны, ввели его в свою среду, заставили отцов, мужей, братьев добиваться его приязни и доверия. Он сделался свой человек между ними и каждый вечер облекался во фрак, надевал белый галстук и являлся на их рауты и «causeries»
(#c_26), удивлять изящным французским языком, блестящим изложением мнений своих с применением к понятиям новых его слушательниц и слушателей, остроумными анекдотами и оригинальной и весьма красивой фигурой.
Несмотря на многочисленные светские свои обязанности, производительность Тургенева росла вместе с его репутацией. Он не позволил отуманить себя общественными похвалами, а, напротив, под говор их взгляд его на самого себя приобретал особенную трезвость и ясность. Едва напечатав «Дворянское гнездо», он принялся за новое произведение, уже упомянутую повесть «Накануне», которая была совершенной противоположностью с романом, имевшим такой колоссальный успех. Оставайся он при одном и том же счастливом мотиве, проведенном им однажды, имя его как литератора, конечно, пользовалось бы еще заслуженным уважением, но никогда не выросло бы до того значения перед публикой, в каком застала его смерть. Собственно говоря, «Дворянское гнездо» было трогательным прощанием устарелых порядков жизни, отходящих в историю, причем все высшие, идеальные их потребности и стремления выставлены в лучезарном свете, как это бывает почти всегда и с людьми и с порядками, с которыми современники расстаются навсегда. В самом упоении славой и на первых же порах общего одушевления Тургенев почувствовал, что есть опасность продолжать такие же отношения к отжившему времени и далее. Благоуханный цветок, выросший на этой почве и возбуждавший всеобщий восторг, мог свидетельствовать еще и в пользу ее плодородности, чего Тургенев, будучи жарким сторонником грядущих реформ, боялся всего более. Следовало напомнить энтузиастам романа, что характеры, завязка и развязка его, при всей их верности и искусстве обрисовки, зиждутся все-таки на обеспеченном состоянии лиц, огражденных крепостным режимом от труда и богатых досугом, который они и употребили на изумительную обработку своего внутреннего мира. Случай помог Тургеневу найти подходящий сюжет.
Прожив с нами часть зимы 1858/59 года, Тургенев не раз читал нам по вечерам отрывки из скомканной, неумелой, плохой рукописной повести некоего г. Катранова (псевдоним, как объяснял сам Тургенев
(#c_27)), удивляя нас своим участием к произведению, не заслуживающему никакого внимания. Имя это имеет, однако же, право на упоминовение его в воспоминаниях о Тургеневе, так как господин, носивший его, внушил Тургеневу идею романа «Накануне». Повесть Катранова, озаглавленная «Московское семейство», изображала пожилого немца, мучившего свою подругу, добродушную старушку, Аграфену Степановну, и дочь от них, прелестную барышню, Катерину, которая не любила отца за грубое обращение с матерью. Дочь эта оказалась еще хорошей музыкантшей и очаровательной певицей. Повстречавшись на прогулке в окрестностях Москвы с молодым болгарином, Николаем Каменским, приехавшим для образования себя в Московский университет, и распознав в нем сразу честную, серьезную натуру, влюбилась в него; но он, по врожденной дикости, сторонился от нее. С помощью пения и музыкальных упражнений она скоро успела развить в нем привязанность к себе, вполне уничтожив его застенчивость и неповоротливость. Затем автору достаточно было трех полустраничек, чтобы поразить болгарина злой чахоткой в Москве, выслать его в Италию и там уморить, да и этого еще было мало. На тех же страничках автор помещает еще велеречивое предсмертное письмо болгарина к Катерине, которая получила его уже в Париже, куда выпросилась у отца для окончания своего музыкального образования, сулившего старику изрядные барыши в недальнем будущем. Вместе с письмом Каменского получено было в Париже и известие о кончине ее матери. Все, что любила Катерина, разом уничтожилось вместе с планами ее явиться к больному в Италию и утешить его последние минуты своим присутствием. Повесть кончалась передачей факта, сухо, как обыкновенно кончаются рассказы, имеющие в виду изобразить «истинное происшествие», но вот из каких слабых, едва намеченных штрихов создавалась в уме Тургенева сочная картина, развивающаяся в его «Накануне» и украсившая собою второй № «Русского вестника» на 1860 год
(#c_28).
Мы уже знаем, что она начата была в июне предыдущего года, в Виши. Война франко-итальянская формально уже кончилась тогда; но она продолжалась с тайным содействием министерства короля сардинского, на море и на суше, ибо могущество Австрии не было сломлено окончательно в Италии. Виллафранкский трактат оставлял Австрии еще большое влияние на Апеннинском полуострове, устранить которое приходилось уже Гарибальди высадкой в Неаполь и возмущением Сицилии; да император французов не желал и слышать о поколебании римского владычества папы. Италия доделывала то, что Наполеон оставил полуконченным и притом доделывала на свой страх, не справляясь с видами и намерениями своего покровителя. Некстати медлительный и некстати решительный, Наполеон думал только о том, чтобы пожать новые лавры перед публикой в своем отечестве. Войска, участвовавшие в итальянской кампании, стягивались в Париж, где император готовил им колоссальный смотр – une revue monstre, имевший все подобие триумфа старых кесарей Римской империи. От этого триумфа именно Тургенев и бежал сперва в Виши, а потом в Куртавнель. От природы Тургенев был ненавистником всего деланного, официально праздничного, декоративного – без теплоты и сердечного участия. Письма его от этой эпохи наполнены восторженными восклицаниями: evviva Italia, evviva Garibaldi
(#c_29), которые он считал еще революционными возгласами, как оказывается, да еще насмешками и ироническим отношением к французам и к их национальному безмерному самолюбию, к их самообожанию. Кстати заметить, что он был далек в это время от поклонения гению Франции и, напротив, не признавал за ним и тех заслуг, какие оказали европейской цивилизации лучшие ее умы. 22 (10) июня 1859 получено было от него из Виши письмо, в котором заключались, между прочим, и следующие строки:
«Соллогуба дернуло перевести «Дворянское гнездо» для «Revue Contemporaine» – гнусный журнальчик, – но я отклонил такую великую честь. Все французское для меня воняет, и уж, коли выбирать, лучше возиться с французскими epicicrs[5 - лавочниками (франц.)], чем с французскими beaux esprits[6 - остроумцами (франц.)]. Я живу в Виши и скромном отеле, где вижу за table d'hot'oм несколько французских epicicrs; особенно один из них пленителен. Он убежден, что русские мужики продают своих детей – «pour le serail du Grand Kan des Tartares, monsieur!» (в сераль великого хана Тартарии, государь мой!) – и прибавляет: «Ah, monsieur! quelle sale chose que la religion de Mahomet[7 - Ах, сударь! Какая грязная вещь религия Магомета (франц.).]». Я, разумеется, его не разуверяю. Здешние мужички сильно ругаются и употребляют необыкновенно замысловатые выражения. Недавно одна из них при мне говорила своему двухлетнему сыну: Satane bougre d'anisette. Удивительно; сцепление идей. А что скажете, П. В.? Можно кричать: Evviva 1'Italia! Evviva Garibaldi! – черт возьми – Evviva Napoleone[8 - Да здравствует Наполеон (итал.)]. Напишите мне непременно и немедленно в Париж poste restante; в Виши вам писать нечего – остаюсь здесь 25 дней, а письмо мое доползет до вас, в Simbirsk, не раньше месяца».
Анекдоты о пленительном epicier и о ругающейся матроне могли быть и вымышлены, но они показывают, как тогда смотрел Тургенев на французскую культуру и как относился к стране, которую так любил впоследствии. Замечательно, что относительно результатов французско-германской войны Тургенев спустя 10 лет обнаруживал то же нерасположение к французам, как и тогда, что ясно видно из тогдашних его писем о событии в «С.-Петербургские ведомости»
(#c_30). С приятелями и втихомолку он говорил просто: французы возмущены невежливостью немцев, решившихся вырвать победу из рук непобедимой нации и публично осрамить ее тем перед светом.
Юмористическое настроение, привитое Тургеневу плагиатами Наполеона III из императорского Рима, длилось более месяца. Так, в письме своем от 1 (13) августа 1859, носившем штемпель «Rosoy en Brie», что доказывало переезд автора его из Виши в Куртавнель – дачу г-жи Виардо, заключаются целые фразы на латинском диалекте, как бы единственно пригодные для выражения его мыслей в годину такого величественного военного праздника! Я оставил в этом письме похвальные отзывы Тургенева о моей корреспонденции, выпущенные во всех других, потому что шутливый тон письма много ослабляет их пафос, а во-вторых, и потому, что пристрастие и слабость ко мне составляли у него род физиологического признака, во всяком случае довольно любопытного. Прозвище «ненавистник либерализма» я получил от Тургенева за сочувственное мнение о некоторых обличительных страницах известного германиста и этнографа Риля, направленных против гуманного либерализма немцев в его известной книге. Описание самой комнаты, где жил наш автор, на даче г-жи Виардо, составляет биографическую подробность» не лишенную своего рода занимательности. Вот это письмо целиком:
Кстати, я здесь имел страшные «при» с русскими художниками. Представьте, все они (почти без исключения – я, разумеется, не говорю об Иванове), как за язык повешенные, бессмысленно лепечут одно имя: Брюллов, а всех остальных живописцев, начиная с Рафаэля, не обинуясь, называют дураками. Здесь есть какой-то Железнов (я его не видал), который всему этому злу корень и матка. Я объявил им наконец, что художество у нас начнется только тогда, когда Брюллов будет убит, как был убит Марлинский: delenda est Carthago, delendus Brulovius
(#c_17). Брюллов – этот фразер без всякого идеала в душе, этот барабан, этот холодный и крикливый ритор – стал идолом, знаменем наших живописцев! Надобно и то сказать, таланта в них, собственно, ни в ком нет. Они хорошие рисовальщики, то есть знают грамматику – и больше ничего. В одном только из них, Худякове, есть что-то живое, но он, к сожалению, необразован (он из дворовых людей), а умен и не раб – не ленивый и самонадеянный раб духом, как другие, хотя и он молится Брюллову.
Удивили вы меня известием о лесных затеях Толстого! Вот человек! С отличными ногами непременно хочет ходить на голове. Он недавно писал Боткину письмо, в котором говорит: «Я очень рад, что не послушался Тургенева, не сделался только литератором». В ответ на это я у него спрашивал, что же он такое: офицер, помещик и т. д.? Оказывается, что он лесовод. Боюсь я только, как бы он этими прыжками не вывихнул хребта своему таланту; в его швейцарской повести уже заметна сильная кривизна. Очень бы это было жаль, но я все-таки еще крепко надеюсь на его здоровую природу. Resume: а) напишите мне тотчас мнение об «Асе» сюда; b) высылайте сюда же Пушкина, Гоголя непременно; с) я вам через неделю пошлю письмо Коршу; d) любите меня, как я вас люблю. Боткин благодарит и кланяется вам. И. Т.».
Как ни откладывал Тургенев свой выезд из Рима, сперва на месяц, а потом на 1(13) марта 1858 (в январе 1858 года он еще был на месте), но только 9 апреля успел свидеться с доктором Зигмундом в Вене. Вообще он медленно отрывался от насиженного места, и никогда нельзя было верить срокам, назначенным им для своего выезда. Зато он не останавливался отдыхать на дороге и пролетал большие расстояния, не выходя из вагона, даже и в припадках одной из своих болезней. Нужно еще удивляться, что он так скоро разорвал свои связи с Римом. Кроме недуга, игравшего тут, конечно, важную роль, но под конец уже и ослабевшего, как увидим, – тут была еще причина психическая. Тургенев не мог быть жильцом Италии, как ни любил ее. Он представлял из себя европейски культурного человека, которому нужен был шум и говор большого, политически развитого центра цивилизации, интересные знакомства, неожиданные встречи, прения о задачах настоящей минуты – даже анекдоты и говор толпы, конечно не ради их содержания, а ради того, что они отражают настроение людей, их создавших или повторяющих, и рисуют столько же их самих, сколько и тех, которые сделались предметом их злословия. Чуткость Тургенева к красотам природы, к памятникам искусства, к остаткам древнего величия не подлежит сомнению; свидетельством тому может служить только что приведенное письмо: в нем есть описания высокопоэтического характера и верности почти фотографической. Ему недоставало только мужества заключиться в себе самом и довольствоваться анализом великих ощущений и мыслей, навеваемых Италией. Этой ценой только и покупалось право жить в Италии и репутация мудрости, полученная некоторыми лицами, сделавшими себе удел из блаженного созерцания. Но в натуре Тургенева не было пищи и элементов для долгой поддержки созерцания: он искал событий, живых лиц, волн и разбросанности действительного, работающего, борющегося существования, Правда, в 1848 году, в эпоху «resorginato»[3 - возрождения, обновления (итал.)], пульс умственной и общественной жизни в Италии бился сильнее прежнего, но бежать из Франции (Тургенев находился тогда в Париже), которая давала тон всему европейскому движению, было бы нелепостью, кроме разве с специально агитаторскими целями, а Тургенев, что бы ни говорили нынешние клеветники поэта, агитатором никогда не был, да по развитию своему и не мог им быть. Замечательно, что с 1858 года он уже более никогда не возвращался в любимый им Рим, в превозносимую им Италию.
Сам Л. Н. Толстой распустил тогда слух о том, будто он предполагает заняться лесоразведением в южной России. Я передавал только его слова, когда сообщал Тургеневу такой слух. Гораздо важнее этого обстоятельства, которое могло бы сделаться очень важным предприятием, если бы не возникло оно у Толстого из странного отвращения к писательству, к роли, играемой у нас авторами; важнее, говорю, другое явление: усиленное беспокойство Тургенева об участи своего прелестного рассказа «Ася». Трудно сказать, что заставляло его домогаться с настойчивостью отзывов о такой малой вещице, как «Ася». Вероятнее всего предполагать, что основа «Аси» взята из биографического факта, дорогого почему-то самому автору. Он боялся, что слабая передача его уничтожит или извратит его значение. Я успокоил его, передав ему мнение многих его почитателей, что недостаток «Аси» заключается в одном. Такая поэтическая и вместе реальная характеристика героини, не часто встречающаяся и в более богатых литературах, чем наша, заслуживала бы большего развития, рамки, например, романа, которую она совершенно наполнила бы собою
(#c_18). Тургенев остался доволен отзывом, как это видно и из последнего письма его в Риме, которое теперь и приводим здесь.
«Рим. 19(31) января 1858.
Я виноват перед вами, как нельзя более, – не отвечал на ваше письмо от 21 декабря и не переписал совсем конченные два письма (№ 2 и 3) для Корша. С нынешнего дня засел я за эту работу, и через 4 или 5 дней они отправятся к вам. Мысль, что первое письмо вам понравилось, меня ободряет и развязывает руки. Я не хочу только откладывать ответ мой на ваше письмо от 8 января. Причины моего замедления были двоякие: некоторые рассеяния и довольно серьезная и для меня не совсем привычная работа, о которой я поговорю с вами лично и которая касается вопроса, занимающего теперь всю Россию
(#c_19). Очень вам благодарен за доставленные сведения и проч. В ваших письмах наш брат, живущий в отдалении, щупает пульс своей страны и общества.
Отзыв ваш об «Асе» меня очень радует. Я написал эту маленькую вещь, только что спасшись на берег – пока сушил «ризу влажную мою», а потому я бы вовсе не удивился, если б моя первая – после долгого перерыва – работа не удалась. Оказывается, что она вышла изрядная – и я искренно этому радуюсь.
Рассеяния, о которых я упомянул выше, состоят во множестве новых знакомств. Из них упомяну великую княгиню Елену Павловну, с которой я уже имел несколько длинных разговоров. Она женщина умная, очень любопытствующая и умеющая расспрашивать и – не стеснять; на конце каждого ее слова сидит как бы штопор – и она всё пробки из вас таскает: оно лестно, но под конец немного утомительно. Сошелся я очень близко с кн. Черкасским (Владимиром) и его женой; очень они милые, живые люди. Видаю часто князя Д. Оболенского, г-жу Смирнову… иногда Бакуниных, также Ростовцева, сына Иакова. Трудно выразить, что это за милый, симпатический, честный и откровенный человек. Из художников, после Иванова, самый приятный Сорокин как человек; таланта у него, к сожалению, нет. Изо всех здешних художников талант есть только у одного Худякова, но сам он… необразован, завистлив и надут. Молодой живописец Никитин сделал мой акварельный портрет; все находят его чрезвычайно схожим.
Известия об обеде в Москве и т. д. меня радуют
(#c_20) и в то же время несколько пугают. Я не думаю, чтобы теперь такое время, когда нужно шуметь. Вы прочтете в «Nord» небольшое письмо, написанное мною в ответ на статью, помещенную об этом обеде; там была несправедливая выходка против славянофилов – как будто они не желают освобождения крестьян, между тем как они-то больше всех и хлопотали о нем. Я в этом письме заступаюсь за них с этой только точки зрения. Я это сделал в угоду Черкасскому, письмо которого не было бы принято. Впрочем, и мое, пожалуй, не примут.
Пушкина (то есть издания) еще нет здесь. Гг. «Современники» также не выслали свой декабрьский номер. О свадьбе Ол. Алекс. ничего не слыхал. Она в Ницце, и здоровье ее хорошо. Жаль мне очень бедного Дружинина. Боткин только на днях получил письмо от него (оно провалялось месяца два на почте) и тотчас отвечал ему. Наружность Дружинина мне весьма не понравилась уже в Занциге. Знаете ли, мне почему-то кажется, что у него должен быть diabete sucre (моча с сахаром), весьма быстро изнуряющая и опасная болезнь. Нельзя ли шепнуть об этом Шипулинскому? «Иногда и слепая свинья набредет на желудь», – гласит немецкая пословица, и, может быть, моя мысль справедлива.
Погода у нас здесь стоит чрезвычайно ясная и холодная. Говорят, в Венеции выпал сильный снег, и лагуны замерзли. Боятся, как бы в карнавал не пошли дожди. Здоровье мое если не хорошо, то по крайней мере удовлетворительно. Мучений нет, а уж ormalais'a[4 - недомогания (франц.)], я и не надеюсь отделаться.
Ждите двух больших пакетов через несколько дней. Да непременно вышлите сюда «Атеней». Если увидите Д. Колбасина, напомните ему, что я жду от него ответа на некоторые мои запросы. Пишите мне пока в Рим, poste restante. Я отсюда окончательно выезжаю только 1(13) марта. Жму вам дружески руку и остаюсь И. Т.
Р. S. Поклонитесь от меня кн. Вязем. да сходите наконец к графине Ламберт и попросите ее написать мне свое мнение об «Асе», – нужды нет, выгодное или невыгодное».
* * *
В 1858 году предпринял и я поездку в Европу, после десятилетнего безвыездного пребывания в России. Любопытно было узнать новые порядки, воцарившиеся на Западе в течение этого времени. Перемен, и нравственных и материальных, было много. За исключением Берлина, где строительная горячка началась только с франко-прусской войны 1870 года, старые города. Европы, как Париж, Вена, Дрезден, сделались почти неузнаваемы. Стремление к роскоши существовало и до Второй империи, поддерживаемое громадным торговым производством и обогащением буржуазии; но с Наполеона III оно забыло все приличия. Повсюду возникали великолепные, как общественные, так и частные здания, опрокидывались памятники старины, уничтожались исторические дома и улицы; по примеру Парижа, каждая столица, каждый значительный пункт населения (за исключением, повторяем, Берлина, остававшегося до поры-времени старым и грязным городом) как бы решились отделаться от своего прошлого, смыть с себя последние остатки средневекового быта и начать для себя новую эру существования со вчерашнего дня. Одобрение со стороны многочисленных рабочих и мещан, заинтересованных в постройках, поддерживало общее одушевление; но когда наступил кризис, капиталы скрылись в банкирских конторах, а фабричное производство, превзошедшее потребности рынков и населения, остановилось; явились для всех – предпринимателей и исполнителей – разочарование и нищета. До тех пор на улицах европейских городов шел постоянный пир и праздник. Увеселительные заведения множились со всех сторон ежедневно, принимая тоже громадные размеры, и в уровень с ними разрастались вкусы и требования рабочих и мещан, которые уже составляли их верную статью дохода. Вид общего благосостояния на Западе обманывал туристов и заставлял их думать, что средства каждого посетителя этих волшебных замков увеличились по крайней мере в десять раз за последнее время. Зрелище общего ликования было, действительно, увлекательное.
В Берлине я получил венскую телеграмму Тургенева, которая, в отмен прежних требований явиться в столицу Австрии для свидания с ним, приказывала не трогаться с места и ждать новых инструкций. Как горячо звал меня Тургенев в Вену, видно из следующего письма:
«Вена. 7 апреля 1858.
Милый А. Сегодня в 5 час. вечера я приехал сюда, получил ваше письмо в седьмом и отвечаю в 8. Нечего говорить, как я рад нашему скорому свиданию, – все это само собою разумеется – приступаю к делу.
Не стану вам повторять моей плачевной истории: вы знаете, что вот уже скоро полтора года, как бес в меня вселился в виде болезни пузыря и грызет меня день и ночь. В Италии в течение зимы мне не было облегчения, я не лечился, потому что махнул рукой; однако я теперь хочу попытаться в последний раз, а именно хочу прибегнуть к совету здешнего врача-специалиста по этой части – Зигмунда (для этого я приехал в Вену) и по крайней мере месяц лечиться, то есть дать время этому доктору узнать наконец, что у меня такое, и не ограничиться советом ехать на воды или чем-нибудь в этом роде. Вы видите, что мне теперь из Вены выехать невозможно. Я не видал еще Зигмунда – я увижу его завтра и тотчас напишу вам, что он мне скажет, но я знаю наперед, что он потребует моего пребывания здесь… Остается вам приехать сюда; разница всего несколько часов, положим даже целые сутки, но я надеюсь, что вы пожертвуете ими для меня. Я так был бы рад свидеться с вами! Вы видите, что я прикован здесь; мне уже наскучило попусту советоваться с знаменитостями; я хочу, я должен лечиться – или уже примириться с мыслию, что жизнь моя отравлена. Батюшка, П. В.!.. Приезжайте! А отсюда ступайте в Лондон – я сам вслед за вами поеду. (Я должен 15 мая присутствовать в качестве шафера на свадьбе Орлова и в начале мая на несколько дней буду в Лондоне, куда приедет и Боткин.) Одним словом, я вас жду здесь. Вы должны приехать. Это невозможно, чтобы вы не приехали; умоляю вас приехать. Остановился я в гостинице Matschakerhoff, Seiles Gasse, № 33. Я жду вас… Боже, что мы переговорим! Завтра от меня еще будет письмо. Весь ваш Ив. Т.».
Инструкции и явились через два дня в форме письма из Вены от 9 апреля 1858 года, где он описывает свое свидание с доктором Зигмундом и прибавляет, чтобы я тотчас же укладывался и направлялся в Дрезден, так как он сам, после отсылки своего письма, едет туда и будет ждать меня в Hotel de Saxe. Известие было очень приятное. На другой же день, через 5–7 часов, я был уже в Дрездене и в отеле и изумился, встретив цветущего пациента в человеке, чуть не приговоренном к смерти. Особенно поразительна была у опасно больного его речь, исполненная юмора, образности и меткости. Я заметил ему это и получил ответ:
«Вот видите ли! Организмы людей, пораженных хроническим, опасным недугом, каков мой, кажутся в спокойные минуты свои более крепкими, чем те, которые не испытывали никаких потрясений. Болезнь тут отдыхает, оставляя природе насыщаться и здороветь для того, чтобы на подготовленной почве разыграться еще с большей силой. Я даже полагаю, что и умру так, что удивлю всех неожиданностью». Пророчество, однако же, не сбылось. Он умирал долго и слишком ощутительно для своих друзей и образованной части России и Европы. Прилагаем венское его письмо. Это, как увидит читатель, – скорбный лист Тургенева, продиктованный одною из тогдашних ученых знаменитостей.
«Вена. Пятница, 9 апреля 1858.
Любезный А. Сейчас от Зигмунда. Осмотревши меня весьма подробно и сзади и спереди, он объявил мне, что у меня какая-то железа распухла и левый с… канал (извините все эти подробности) поражен; что если я не займусь серьезно этой болезней, худо будет; что я должен в нынешнем же году провести 6 недель в Карлсбаде и 6 недель в Крейцнахе, а здесь должен остаться еще дней 5, в течение которых должен каждое утро к нему ездить, и он будет учить меня ставить себе «bougies». Это, кажется, я на первого доктора наткнулся, который серьезно мною занялся, но какая милая перспектива… Приходится начинать старческий период жизни, то есть заниматься возможным предупреждением или замедлением окончательного разрушения. Что делать… А скоро все выгорело!
Но теперь что предпринять? Ясно, что вам сюда незачем ехать; боюсь только, как бы вы уже не выехали из Берлина. Обдумавши свое положение, я решаюсь на следующее.
Отложить свое возвращение в Россию до конца августа. На лечение употребить 3 месяца – от половины мая до половины августа. Съездить теперь в Париж и Лондон, так как раньше половины мая лечение водами невозможно. Все это мне, как кол в горло, но необходимость – не своя сестра. А потому, если мое письмо еще застанет вас в Берлине (оно вас застанет, потому что я сейчас посылаю к вам телеграмму), то знайте, что я во вторник выезжаю отсюда и в среду утром буду в Дрездене, в Hotel de Saxe, куда и вы приезжайте; мы там сговоримся, что нам делать и как ехать. Может быть, я даже в понедельник выеду, но во всяком случае в среду утром я в Дрездене. И потому до свидания. Ваш И. Т.».
«А скоро все выгорело!» – воскликнул Тургенев, сообщая диагноз доктора Зигмунда, – однако же не так скоро, как думал сам пациент и его эскулап. Еще целых 26 лет горела трудовая лампа на письменном столе Тургенева и освещала возникновение один за другим многих и многих капитальных произведений. Но о них не было еще и помина в Дрездене. «Дворянское гнездо» зрело в уме Тургенева, но к нему он еще и не приступал
(#c_21). Разговор наш обращался к проектам вояжей и встреч, из которых ни один не осуществился, как и большая часть таких проектов, не принимающих в соображение случайностей и непредвидимых помех. Ни слова не было сказано также и о том, о чем хотел переговорить со мною лично, о проекте обучения и воспитания народа. Взамен литературные новости интересовали Тургенева в высшей степени, и анекдотов о людях и событиях из этой области было множество. Три дня с их обедами и ужинами пролетели незаметно. Тургенев отправился в Лондон, как хотел, а я уехал в Киссинген, а оттуда, по окончании курса, в Мюнхен, Тироль и Зальцбург
(#c_22). Из Зальцбурга через Берхтесгаден, Кенигзее и Линц, праздновавший тогда рождение австрийского кронпринца Рудольфа, далее по Дунаю, в Вену; из Вены я скоро достиг Бреславля, потом Варшавы, а оттуда, сопровождаемый великолепной кометой, не сходившей с неба почти всю ночь, прибыл в Петербург в августе месяце. Тургенев явился туда же почти вслед за мной
(#c_23).
Он привез с собой новинку, именно – «Дворянское гнездо», которую начал еще за границей, а доканчивал уже всю осень в Петербурге на своей квартире – Б. Конюшенная, д. Вебера, – посреди шума и говора приемов и массы посетителей. Тургенев обладал способностью в частых и продолжительных своих переездах обдумывать нити будущих рассказов, так же точно, как создавать сцены и намечать подробности описаний, не прерывая горячих бесед кругом себя и часто участвуя в них весьма деятельно. Мы не имеем, к сожалению, чернового подлинника «Гнезда»; но вот какую отметку встречаем на следовавшем за «Дворянским гнездом» романе «Накануне»: «Начата в Виши, во вторник 28 (16 июня) 1859; кончена в Спасском в воскресенье 25 октяб. (6 ноября) 1859; напечатана во 2-й книжке «Русского вестника» за 1860 г.» – срок вдвое больший, чем тот, который потребовал для себя «Рудин» в первоначальной редакции (7 недель), но тоже не очень значительный, если принять в соображение время, употребленное на переезд из Виши в Париж, оттуда в Берлин и Петербург, а оттуда через Москву в деревню Орловской губернии и еще неизбежные остановки в городах. Но что такое было само «Дворянское гнездо», явившееся в январской книжке 1859 года «Современника»?
В один зимний вечер 1858 года Тургенев пригласил Некрасова, Дружинина и нескольких литераторов в свою квартиру с намерением познакомить их с новым своим произведением. Сам он читать не мог, нажив себе сильнейший бронхит и получив предписание от врача своего, доктора Шипулинского, не только не читать ничего для публики, но даже и не разговаривать с приятелями. Присужденный к безусловному молчанию, Тургенев завел аспидную доску и вступал посредством нее в беседу с нами, иногда даже очень продолжительную, что с некоторым навыком происходило довольно ловко и быстро. Чтение романа поручено было мне; оно заняло два вечера
(#c_24). Удовлетворенный всеми отзывами о произведении и еще более кой-какими критическими замечаниями, которые тоже все носили сочувственный и хвалебный оттенок, Тургенев не мог не видеть, что репутация его как общественного писателя, психолога и живописца нравов устанавливается окончательно этим романом. Совершенно успокоенный, он просил Некрасова припечатать, после оглавления, посвящение его мне, в благодарность за чтение, но Некрасов почему-то не исполнил его желания, и запоздалое посвящение явилось только в 1860 году в «Библиотеке для чтения» при замечательной тоже повести его «Первая любовь»
(#c_25).
Но что произошло, когда в «Современнике» 1859 года явился роман «Дворянское гнездо»? Многие предсказывали автору его овацию со стороны публики, но никто не предвидел, до чего она разовьется. Молодые писатели, начинающие свою карьеру, один за другим являлись к нему, приносили свои произведения и ждали его приговора, в чем он никогда не отказывал им. стараясь уразуметь их дарования и их наклонности; светские высокопоставленные особы и знаменитости всех родов искали свидания с ним и его знакомства. Особенно, как мы уже имели случай заметить прежде, он сделался любимцем прекрасного пола, упивавшегося чтением его романа. Женщины высших кругов петербургского общества открыли ему свои салоны, ввели его в свою среду, заставили отцов, мужей, братьев добиваться его приязни и доверия. Он сделался свой человек между ними и каждый вечер облекался во фрак, надевал белый галстук и являлся на их рауты и «causeries»
(#c_26), удивлять изящным французским языком, блестящим изложением мнений своих с применением к понятиям новых его слушательниц и слушателей, остроумными анекдотами и оригинальной и весьма красивой фигурой.
Несмотря на многочисленные светские свои обязанности, производительность Тургенева росла вместе с его репутацией. Он не позволил отуманить себя общественными похвалами, а, напротив, под говор их взгляд его на самого себя приобретал особенную трезвость и ясность. Едва напечатав «Дворянское гнездо», он принялся за новое произведение, уже упомянутую повесть «Накануне», которая была совершенной противоположностью с романом, имевшим такой колоссальный успех. Оставайся он при одном и том же счастливом мотиве, проведенном им однажды, имя его как литератора, конечно, пользовалось бы еще заслуженным уважением, но никогда не выросло бы до того значения перед публикой, в каком застала его смерть. Собственно говоря, «Дворянское гнездо» было трогательным прощанием устарелых порядков жизни, отходящих в историю, причем все высшие, идеальные их потребности и стремления выставлены в лучезарном свете, как это бывает почти всегда и с людьми и с порядками, с которыми современники расстаются навсегда. В самом упоении славой и на первых же порах общего одушевления Тургенев почувствовал, что есть опасность продолжать такие же отношения к отжившему времени и далее. Благоуханный цветок, выросший на этой почве и возбуждавший всеобщий восторг, мог свидетельствовать еще и в пользу ее плодородности, чего Тургенев, будучи жарким сторонником грядущих реформ, боялся всего более. Следовало напомнить энтузиастам романа, что характеры, завязка и развязка его, при всей их верности и искусстве обрисовки, зиждутся все-таки на обеспеченном состоянии лиц, огражденных крепостным режимом от труда и богатых досугом, который они и употребили на изумительную обработку своего внутреннего мира. Случай помог Тургеневу найти подходящий сюжет.
Прожив с нами часть зимы 1858/59 года, Тургенев не раз читал нам по вечерам отрывки из скомканной, неумелой, плохой рукописной повести некоего г. Катранова (псевдоним, как объяснял сам Тургенев
(#c_27)), удивляя нас своим участием к произведению, не заслуживающему никакого внимания. Имя это имеет, однако же, право на упоминовение его в воспоминаниях о Тургеневе, так как господин, носивший его, внушил Тургеневу идею романа «Накануне». Повесть Катранова, озаглавленная «Московское семейство», изображала пожилого немца, мучившего свою подругу, добродушную старушку, Аграфену Степановну, и дочь от них, прелестную барышню, Катерину, которая не любила отца за грубое обращение с матерью. Дочь эта оказалась еще хорошей музыкантшей и очаровательной певицей. Повстречавшись на прогулке в окрестностях Москвы с молодым болгарином, Николаем Каменским, приехавшим для образования себя в Московский университет, и распознав в нем сразу честную, серьезную натуру, влюбилась в него; но он, по врожденной дикости, сторонился от нее. С помощью пения и музыкальных упражнений она скоро успела развить в нем привязанность к себе, вполне уничтожив его застенчивость и неповоротливость. Затем автору достаточно было трех полустраничек, чтобы поразить болгарина злой чахоткой в Москве, выслать его в Италию и там уморить, да и этого еще было мало. На тех же страничках автор помещает еще велеречивое предсмертное письмо болгарина к Катерине, которая получила его уже в Париже, куда выпросилась у отца для окончания своего музыкального образования, сулившего старику изрядные барыши в недальнем будущем. Вместе с письмом Каменского получено было в Париже и известие о кончине ее матери. Все, что любила Катерина, разом уничтожилось вместе с планами ее явиться к больному в Италию и утешить его последние минуты своим присутствием. Повесть кончалась передачей факта, сухо, как обыкновенно кончаются рассказы, имеющие в виду изобразить «истинное происшествие», но вот из каких слабых, едва намеченных штрихов создавалась в уме Тургенева сочная картина, развивающаяся в его «Накануне» и украсившая собою второй № «Русского вестника» на 1860 год
(#c_28).
Мы уже знаем, что она начата была в июне предыдущего года, в Виши. Война франко-итальянская формально уже кончилась тогда; но она продолжалась с тайным содействием министерства короля сардинского, на море и на суше, ибо могущество Австрии не было сломлено окончательно в Италии. Виллафранкский трактат оставлял Австрии еще большое влияние на Апеннинском полуострове, устранить которое приходилось уже Гарибальди высадкой в Неаполь и возмущением Сицилии; да император французов не желал и слышать о поколебании римского владычества папы. Италия доделывала то, что Наполеон оставил полуконченным и притом доделывала на свой страх, не справляясь с видами и намерениями своего покровителя. Некстати медлительный и некстати решительный, Наполеон думал только о том, чтобы пожать новые лавры перед публикой в своем отечестве. Войска, участвовавшие в итальянской кампании, стягивались в Париж, где император готовил им колоссальный смотр – une revue monstre, имевший все подобие триумфа старых кесарей Римской империи. От этого триумфа именно Тургенев и бежал сперва в Виши, а потом в Куртавнель. От природы Тургенев был ненавистником всего деланного, официально праздничного, декоративного – без теплоты и сердечного участия. Письма его от этой эпохи наполнены восторженными восклицаниями: evviva Italia, evviva Garibaldi
(#c_29), которые он считал еще революционными возгласами, как оказывается, да еще насмешками и ироническим отношением к французам и к их национальному безмерному самолюбию, к их самообожанию. Кстати заметить, что он был далек в это время от поклонения гению Франции и, напротив, не признавал за ним и тех заслуг, какие оказали европейской цивилизации лучшие ее умы. 22 (10) июня 1859 получено было от него из Виши письмо, в котором заключались, между прочим, и следующие строки:
«Соллогуба дернуло перевести «Дворянское гнездо» для «Revue Contemporaine» – гнусный журнальчик, – но я отклонил такую великую честь. Все французское для меня воняет, и уж, коли выбирать, лучше возиться с французскими epicicrs[5 - лавочниками (франц.)], чем с французскими beaux esprits[6 - остроумцами (франц.)]. Я живу в Виши и скромном отеле, где вижу за table d'hot'oм несколько французских epicicrs; особенно один из них пленителен. Он убежден, что русские мужики продают своих детей – «pour le serail du Grand Kan des Tartares, monsieur!» (в сераль великого хана Тартарии, государь мой!) – и прибавляет: «Ah, monsieur! quelle sale chose que la religion de Mahomet[7 - Ах, сударь! Какая грязная вещь религия Магомета (франц.).]». Я, разумеется, его не разуверяю. Здешние мужички сильно ругаются и употребляют необыкновенно замысловатые выражения. Недавно одна из них при мне говорила своему двухлетнему сыну: Satane bougre d'anisette. Удивительно; сцепление идей. А что скажете, П. В.? Можно кричать: Evviva 1'Italia! Evviva Garibaldi! – черт возьми – Evviva Napoleone[8 - Да здравствует Наполеон (итал.)]. Напишите мне непременно и немедленно в Париж poste restante; в Виши вам писать нечего – остаюсь здесь 25 дней, а письмо мое доползет до вас, в Simbirsk, не раньше месяца».
Анекдоты о пленительном epicier и о ругающейся матроне могли быть и вымышлены, но они показывают, как тогда смотрел Тургенев на французскую культуру и как относился к стране, которую так любил впоследствии. Замечательно, что относительно результатов французско-германской войны Тургенев спустя 10 лет обнаруживал то же нерасположение к французам, как и тогда, что ясно видно из тогдашних его писем о событии в «С.-Петербургские ведомости»
(#c_30). С приятелями и втихомолку он говорил просто: французы возмущены невежливостью немцев, решившихся вырвать победу из рук непобедимой нации и публично осрамить ее тем перед светом.
Юмористическое настроение, привитое Тургеневу плагиатами Наполеона III из императорского Рима, длилось более месяца. Так, в письме своем от 1 (13) августа 1859, носившем штемпель «Rosoy en Brie», что доказывало переезд автора его из Виши в Куртавнель – дачу г-жи Виардо, заключаются целые фразы на латинском диалекте, как бы единственно пригодные для выражения его мыслей в годину такого величественного военного праздника! Я оставил в этом письме похвальные отзывы Тургенева о моей корреспонденции, выпущенные во всех других, потому что шутливый тон письма много ослабляет их пафос, а во-вторых, и потому, что пристрастие и слабость ко мне составляли у него род физиологического признака, во всяком случае довольно любопытного. Прозвище «ненавистник либерализма» я получил от Тургенева за сочувственное мнение о некоторых обличительных страницах известного германиста и этнографа Риля, направленных против гуманного либерализма немцев в его известной книге. Описание самой комнаты, где жил наш автор, на даче г-жи Виардо, составляет биографическую подробность» не лишенную своего рода занимательности. Вот это письмо целиком: