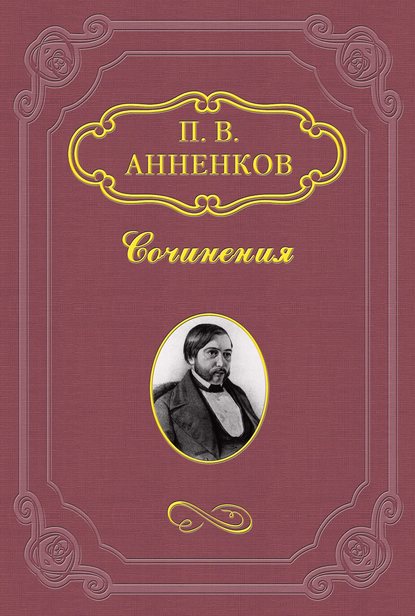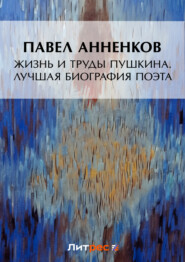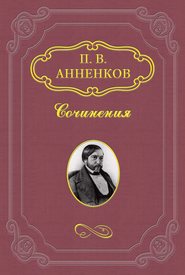По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Шесть лет переписки с И. С. Тургеневым. 1856–1862
Жанр
Год написания книги
1885
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«1 (13) октября I860.
Любезный Иван Иванович. Хотя, сколько я помню, вы уже перестали объявлять в «Современнике» о своих сотрудниках и хотя, по вашим отзывам обо мне, я должен предполагать что я вам более не нужен, однако, для верности, прошу тебя не помещать моего имени в числе ваших сотрудников, тем более что у меня ничего готового нет и что большая вещь. за которую я только что принялся теперь и которую не окончу раньше будущего мая, уже назначена в «Русский вестник».
Я, как ты знаешь, поселился в Париже на зиму. Надеюсь, что ты здоров и весел, и жму тебе руку. Преданный тебе Ив. Тургенев. Париж, Rue de Rivoli, 210»
(#c_45).
Письмо осталось в моих бумагах. Я не отослал его по адресу из одного соображения; при разгоравшейся ссоре не следовало подкладывать еще дров и раздувать пламя. Но я ошибся. Редакция «Современника» решилась довести дело до конца. В объявлении о подписке и в особой статье она сообщала подписчикам своим, что принуждена была отказаться от участия и содействия автора «Записок охотника» по разности взглядов и убеждений и уволить его от сотрудничества в журнале
(#c_46). Удар был верно рассчитан. Он возмутил Тургенева, имевшего все доказательства противного, возмутил более, чем все выходки «Свистка», образовавшегося при журнале, более чем всякие другие уколы, рассеянные на страницах журнала, как, например, тот, где говорилось о модном писателе, следующем в хвосте странствующей певицы и устраивающем ей овации на подмостках провинциальных театров за границей. Тургенев решился публично опровергнуть такое известие, и вот что говорит он в своей статейке по поводу «Отцов и детей» (1868–1869) (см. посмертное издание 1883 года, стр. 118): «Друзья мои, не оправдывайтесь никогда, какую бы ни взводили на вас клевету; не старайтесь разъяснить недоразумения, не желайте – ни сами сказать, ни услышать последнее слово. Делайте свое дело, а то все перемелется… Пусть следующий пример послужит вам в назидание; в течение моей литературной карьеры я только однажды попробовал «восстановить факты». А именно: когда редакция «Современника» стала в объявлениях своих уверять подписчиков, что она отказала мне по негодности моих убеждений (между тем как отказал ей я, несмотря на ее просьбы – на что у меня существуют письменные доказательства), я не выдержал характера, я заявил публично, в чем было дело, и, конечно, потерпел полное фиаско. Молодежь еще более вознегодовала на меня… «Как смел я поднимать руку на ее идола! Что за нужда, что я был прав? Я должен был молчать». Этот урок пошел мне впрок…»
(#c_47)
Но если Тургенев каялся в своем вмешательстве в дело, касавшееся до него лично, то еще в сильнейшей степени раскаивался и Некрасов в том, что начал его так смело и решительно. Правда, что, благодаря необыкновенной даровитости своих главных журнальных сотрудников и приобретенной ими чрезвычайной популярности, он торжествовал долгое время победу на всех пунктах. Но все это не мешало Некрасову сознавать грехи своей полемики. Когда составитель краткой биографии Тургенева, приложенной к I тому посмертного издания его сочинений 1883 года, указал Некрасову еще в 1877 году, незадолго до его смерти, некоторые черты этой полемики, то получил от него в извинение замечание, будто он тут без вины виноват и, находясь на охоте, не думал вовсе о статьях «Современника». Не знаем, насколько подобное оправдание может быть принято от редактора влиятельного журнала, знаем только, что обращение к подписчикам состоялось с его согласия и под его влиянием. Гораздо откровеннее был Некрасов со мной лично, когда однажды, возвращаясь поздно ночью от кого-то, он мне неожиданно сказал: «Я вас уважаю особенно за то, что вы не сердитесь, как другие, за выходки «Свистка» против наших литераторов. Могу вас уверить, что я серьезно думаю положить им конец». Но «Свисток» процветал и после того еще пуще, кажется, чем прежде. Несколько дней спустя после замечания Некрасова он сам приехал утром ко мне и целый час говорил в кабинете о постоянном присутствии образа Тургенева перед глазами его днем и особенно ночью, во сне, о том, что воспоминания прошлого не дают ему, Некрасову, покоя и что пора кому-нибудь взяться за их примирение и тем покончить эту безобразную (так он выразился) ссору
(#c_48). Но Тургенев уже не походил на человека, с которым легко помириться по слову постороннего, третьего лица. Когда я передал ему в письме весь происходивший у нас разговор, он отвечал ссылкой и указанием на новую выходку против него в «Современнике» и более не заикался о предмете. Говоря вообще, никто яснее Некрасова не видел собственных проступков и прегрешений и никто не следовал так постоянно по раз выбранному пути, хотя бы и осуждаемому его совестью. Это была странная настойчивость, которую подчас он старался искупить великодушием и готовностью на многочисленные жертвы. Можно сказать, что он всю жизнь состоял под настоятельной потребностью самоочищения и искупления, не исправляясь от грехов, в которых горячо каялся. Примирение между врагами произошло только тогда, когда Некрасов уже одной ногой стоял в гробу.
Второй эпизод из жизни Тургенева, немало огорчавший его, относится к тому же времени – литературное недоразумение с романистом-художником Иваном Александровичем Гончаровым – не заслуживал бы и рассказа, если бы не авторитетные имена обоих участников этого спора. Впрочем, мы ограничимся только передачей третейского суда, потребованного Тургеневым, который во всем этом деле усмотрел намерение объявить успех «Дворянского гнезда» и «Накануне» приобретенным неправильно. Дело, без сомнения раздутое услужливыми приятелями, заключалось в следующем. По возвращении из кругосветного своего путешествия или даже и ранее того И. А. Гончаров прочел некоторую часть изготовленного им романа «Обрыв» Тургеневу и рассказал ему содержание этого произведения. При появлении «Дворянского гнезда» Тургенев был удивлен, услыхав, что автор романа, который впоследствии явился под заглавием «Обрыв», находит поразительное сходство сюжетов между романом и его собственным замыслом, что он и выразил Тургеневу лично. Тургенев в ответ на это, согласно с указанием И. А. Гончарова, выключил из своего романа одно место, напоминавшее какую-то подробность – и «я успокоился», – прибавляет И. А. Гончаров в объяснительном письме к Тургеневу. С появлением «Накануне» произошло то же самое. Прочитав страниц 30 или 40 из романа, как говорится в письме И. А. к Тургеневу от 3 марта 1860 года, он выражает сочувствие автору: «Мне очень весело признать в вас смелого и колоссального артиста». – говорит он, но вместе с тем письмо заключало в себе и следующее:
«Как в человеке ценю в вас одну благородную черту – это то радушие и снисходительность, пристальное внимание, с которым вы выслушиваете сочинения других, и, между прочим, недавно выслушали и расхвалили мой ничтожный отрывок все из того же романа, который был вам рассказан уже давно, в программе». Вслед за письмом стали распространяться и расти в Петербурге слухи, что оба романа Тургенева суть не более как плагиат неизданной повести Ивана Александровича. Эти слухи, разумеется, скоро дошли до обоих авторов, и на этот раз Тургенев потребовал третейского суда. И. А. Гончаров соглашался подчиниться приговору такого суда на одном условии, чтобы суд не обратился к следственной процедуре, так как в последнем случае юридических доказательств не существует ни у одной из обеих сторон, и чтобы судьи выразили свое мнение только по вопросу, признают ли они за ним, Гончаровым, право на сомнение, которое может зародиться и от внешнего, поверхностного сходства произведений и помешать автору свободно разработывать свой роман. На одно замечание Тургенева Гончаров отвечал с достоинством: «На ваше предположение, что меня беспокоят ваши успехи – позвольте улыбнуться, и только». Эксперты, после выбора их, собрались наконец 29 марта 1860 в квартире И. А. Гончарова – это были: С. С. Дудышкин, А. В. Дружинин и П. В. Анненков – люди, сочувствовавшие одинаково обеим сторонам и ничего так не желавшие, как уничтожить и самый предлог к нарушению добрых отношений между лицами, имевшими одинаковое право на уважение к их авторитетному имени. После изложения дела, обмена добавлений сторонами замечания экспертов все сводились к одному знаменателю. Произведения Тургенева и Гончарова как возникшие на одной и той же русской почве должны были тем самым иметь несколько схожих положений, случайно совпадать в некоторых мыслях и выражениях, что оправдывает и извиняет обе стороны. И. А. Гончаров, казалось, остался доволен этим решением экспертов. Не то, однако же, случилось с Тургеневым. Лицо его покрылось болезненной бледностью; он пересел на кресло и дрожащим от волнения голосом произнес следующее. Я помню каждое его слово, как и выражение его физиономии, ибо никогда не видел его в таком возбужденном состоянии. «Дело наше с вами, Иван Александрович, теперь кончено; но я позволю себе прибавить к нему одно последнее слово. Дружеские наши отношения с этой минуты прекращаются. То, что произошло между нами, показало мне ясно, какие опасные последствия могут являться из приятельского обмена мыслей, из простых, доверчивых связей. Я остаюсь поклонником вашего таланта, и, вероятно, еще не раз мне придется восхищаться им вместе с другими, но сердечного благорасположения, как прежде, и задушевной откровенности между нами существовать уже не может с этого дня». И, кивнув всем головой, он вышел из комнаты. Заседание наше тем самым было прекращено. Позже они помирились, в 1864 – при похоронах одного из экспертов, именно А. В. Дружинина. По время самой заупокойной обедни на Смоленском кладбище перед раскрытым гробом журналиста произошло это примирение, которое, к сожалению, все же не могло восстановить вполне прежних добрых их отношений.
Третий эпизод из жизни Тургенева касался уже весьма близкого к нему лица – гр. Л. Н. Толстого, но об этом будет сказано ниже.
II
В мае 1860 я уехал за границу. Русским туристам должно быть известно чувство, которое весной тянет их далеко от намеченных целей, – туда, где больше солнца, где природа деятельнее и цветущее. Это случилось и со мной. Приехал я в Берлин, посмотрел из гостиницы на чахоточную растительность его «Unter-den-Linden», съездил в голый, еще не распустившийся «Thiergarten» – и мною овладела жажда тепла, света, простора: вместо Лондона и свидания с приятелями, я направился в северную Италию, где у меня никого не было. Этот внезапный поворот вызвал гомерический хохот у Тургенева. Я получил от него уже в Женеве письмо из Парижа, от 23 мая 1860. «Первое чувство, – пишет он, – по получении вашего письма, милейший А., было удовольствие, но второе чувство разразилось хохотом… Как? Этот человек, который мечтал только о том, как бы дорваться до Англии, до Лондона, до тамошних приятелей, примчавшись в Берлин, скачет сломя голову в Женеву и в северную Италию. Узнаю, узнаю ваш обычный Kunstgriff»[15 - прием, манера (нем.)]. Однако же, полагаю, что этот художнический прием не составлял особенности моей природы, а скорее совпал с тем, что постоянно происходило у моего наставника. В письме, только что приведенном, заключалось еще следующее: «Но увлеченный вашим примером, я также, вместо того чтобы съездить в Англию до начала моего лечения, которое будет в Содене, возле Франкфурта, и начнется 15 июня, думаю, не катнуть ли мне в Женеву, которую я никогда не видел, не пожить ли недельки две с неким толстым человеком – Пав. Ан.?. Итак, быть может и весьма вероятно, до скорого свидания…»
Но в Женеву Тургенев и не думал ехать, и я, проживши понапрасну, в ожидании его каждый день, целых две недели в скучном городе, выехал из него наконец в Милан. Впрочем, я еще получил письмо от Тургенева из Парижа (3 июня 1860). Он извещал, что выезжает в Соден. «А я, проживши три недели в Париже, – пишет он, – скачу завтра же в Соден. И вот вам мой план:
1. От 5 июня н. с. до 20 июля – я в Содене.
2. От 20 июля по 1 августа – я в Женеве, на озере 4-х Кантонов, на вершинах Юнг-Фрау, где угодно.
3. От 1 августа по 20 августа – на острове Уайт.
4. От 20 августа по 1 сентября – у m-me Виардо, в Куртавнеле.
А там я живу – в Париже.
Изо всего вышеприведенного вы легко можете заключить, даже не будучи Ньютоном или Вольтером, что наши планы могут слиться в одно прекрасное целое и что ничего не помешает нам попорхать вместе от Женевы до Уайта. Главное, надо будет списаться: я вам пришлю из Содена мой точный адрес».
Не успели еще остыть и чернила на этих строках, как план, так настойчиво поставленный, потерпел крушение. Он изменился в сроках пребывания на избранных местах, в выборе новых, в беспричинном упразднении старых проектов, как поездки в Женеву например, и т. д. Все это увидим скоро. Теперь же прилагаем окончание письма, тоже любопытное по портретам, в нем заключающимся. Кстати, надо прибавить, что портреты Тургенева не имеют ничего общего с тем родственным, неделимым сочетанием диффамации и клеветы, какое свойственно памфлетам нашего времени, и никого оскорбить не могут. Это только незлобивое, остроумно-критическое отношение к личностям, во что обратилась его старая привычка определять их карикатурой.
«Здесь появился (В. П.) Боткин, загорелый, здоровый, медом облитый, но не без мгновенных вспышек раздражительности; так, он, зайдя ко мне, чуть не прибил моего портного за то, что он хочет мне сделать пиджак с тальею; портной трепетно извинялся, а Вас. Петр. with a wittering smile (с надменной улыбкой): «Mais c'est une infamie, monsieur!» (Ведь это низость, государь мой!) Толстой и Крузе здесь; здесь также и Марко Вовчок. Это прекрасное, умное, честное и поэтическое существо, но зараженное страстью к самоистреблению: просто так себя обработывает, что клочья летят!.. Она также намерена быть в августе на Уайте. Наша коллегия будет так велика, что, право, не худо бы подумать, не завоевать ли кстати этот остров? Кстати, если вы не отыскали, то отыщите в Милане Кашпероват и поклонитесь ему от меня. Его легко сыскать – спросите в музыкальных магазинах. Он отличный малый – и жена его милая и умная женщина.
До свидания, лобзаю вас в верх головы, как говорит Кохановская. А-пропо[16 - (франц. – a propos) – кстати]. Катков обайбородил Евгению Тур за письмо к нему по поводу Свечиной. Вот междуусобица. Ваш И. Т.».
В этом письме останавливают внимание оживленные похвалы г-же Маркович (Марко Вовчку). Он был с нею в то время в самых приятельских отношениях и сделал путешествие с нею и молодым ее сыном в Берлин в почтовой бричке, где они сидели втроем. Железной дороги до Берлина тогда еще не существовало. Тургенев с уморительным юмором рассказывал потом, как резвый мальчик сидел у него всю дорогу на руках, на ногах и спал на шее. В Париже он поместил мальчика в пансион и неустанно покровительствовал его матери. Марко Вовчок принадлежала к кругу малороссов, с поэтом Шевченкой во главе, – кругу, который с журналом «Основа» значительно увеличился и приобрел видное положение в обществе. Тургенев сочувствовал его стремлениям, имевшим целью поднять язык своей страны, развить ее культуру и поставить ее в дружеские, а не подчиненные только отношения к великорусской культуре. Он искал знакомства с поэтом Шевченкой, высказывал искренние симпатии его прошлым страданиям и его таланту, но не разделял его увлечений. Над его привязанностью к Запорожью, казачьему удальству, к гайдаматчине он подсмеивался не раз, в приятельском кружку. Марко Вовчок была тогда в апогее своей славы за свои грациозные и трогательные повести из крепостного быта – «Украинские народные рассказы», вышедшие к тому же времени (1860) в переводе Тургенева на русский язык
(#c_49). С тех пор завязались у них те задушевные отношения, свидетельством которых служит его переписка и которые длились до той минуты, когда Тургенев открыл в Марко Вовчке наивную способность поглощать благодеяния как нечто ей должное и требовать новых, не обращая внимания на свои права на них. Это была удивительная натура, без нужных средств для поддержания своих привычек, но с замечательным мастерством изобретать средства для добывания денег, что, в соединении с серьезностию, какую дают человеку труд, талант и горькие опыты жизни, сообщало особый колорит личности г-жи Маркович и держало при ней многих умных и талантливых приверженцев довольно долгое время. Тургенев пока только удивлялся ей. В декабре 1860 года он писал мне: «Марья Алекс. все здесь живет и мила по-прежнему; но что тратит эта женщина, сидя на сухом хлебе, в одном платье, без башмаков, – это невероятно. Это даже превосходит Бакунина. В полтора года она ухлопала 30 000 франков совершенно неизвестно куда!» Тургенев мало-помалу отвык от нее, а под конец жизни и вовсе не вспоминал о ней.
Из Болоньи я отправился в Равенну осмотреть ее древнехристианские памятники, но при этом только одна случайность помешала мне сделаться свидетелем и участником чисто итальянской черты народного быта. Я пошел в почтамт, чтобы взять единственный остававшийся свободным билет в купе, которое отправлялось в Равенну. Не помню, что помешало мне овладеть им, только я отложил свою поездку до следующего раза. Толпа итальянцев, окружающая обыкновенно все входы и выходы присутственных мест, подметила меня и, вероятно, приняла за англичанина с туго набитым кошельком. На другой день утром я был разбужен лакеем гостиницы, который сообщал мне испуганным голосом следующее: «Вы собираетесь в Равенну – будьте осторожны. Вчера бандиты остановили почтовый дилижанс и, вероятно, ограбили бы его, если бы ехавший с ними офицер не разогнал их своим револьвером». Я пошел тотчас же на разведки – билет, который был уже в моих руках, попал к офицеру итальянской армии, вероятно более меня знавшему об анархии в тогдашней Италии, только что переменившей у себя «правительство»
(#c_50), и на всякий случай взявшему с собой заряженный револьвер. Угрозой выстрелов он и обратил в бегство мошенников, еще не приученных к ремеслу, как их собраты в Папской области. Рассчитав, что лучшего времени для вояжа и быть не может, я опять взял билет в карету, и мы благополучно достигли Равенны, сопровождаемые отрядом берсальеров с ружьями, в почтовой тележке, приданных нам администрацией для сохранения свободы сообщений; они всю ночь распевали итальянские патриотические песни. Из Равенны я переехал в Сиену, где получил от Тургенева последнее соденское письмо, извещавшее о начавшемся разложении так хорошо обдуманного плана наших встреч. Следовало торопиться, ибо весь план этот со дня на день мог разлететься в пух и оставить меня и мой вояж без цели и результатов.
Вот письмо Тургенева:
«Соден. 8 июля 1860.
Милый П. В. Сейчас получил ваше письмо и отвечаю. Сообщаемые вами подробности очень любопытны. Что бы с нами было, если бы вас застрелили, хотя вы бы, вероятно, защищаться не стали! Но пуля – дура. Много придется поговорить с вами обо всем, что вы видели, поговорить на острове Уайте: раньше мы не увидимся. План мой потерпел маленькое изменение, о котором считаю долгом известить вас. Я остаюсь здесь до 16-го числа и еду прямо в Куртавнель, к m-mе Виардо, где я пробуду до 1 августа, то есть до эпохи морских купаний на Уайте. М-те Виардо этого желает, а для меня ее воля – закон. Ее сын чуть было не умер, и она много натерпелась. Ей хочется отдохнуть в спокойном, дружеском обществе. Кстати, о смерти: вообразите, какое горестное известие получил я от Писемского.
Миленькая, хорошенькая жена Полонского умерла! Я не могу вам выразить, как мне жаль и ее и его, да и вы, вероятно, разделите мою печаль. Кажется, отчего бы ей было не жить, не следовало ли Полонскому маленькое вознаграждение за все его прошедшее горе? Где же справедливость!
Мы здесь в Содене ведем жизнь чрезвычайно тихую. Здоровье мое в отличном положении; к сожалению, погода стоит прехолодная и прескверная: дожди непрерывные. Вы пишете о зное, а я в жизни так не зяб, как третьего дня, ехавши в открытой коляске из Эмса, где я посетил графиню Ламберт, в Швальбах, где поселилась М. А. Маркович (Марко Вовчок). Это очень милая, умная, хорошая женщина, с поэтическим складом души. Она будет на Уайте, и вы должны непременно сойтись с ней… Чур, не влюбитесь! Что весьма возможно, несмотря, что он» не очень красива. Впрочем, мы с вами прокопченные сельди, которых ничего уже не берет. Карташевская промчалась здесь с братом и живет пока в Бонне, в Hotel Belle-Vue; под руководством Килиана. Она проведет там месяц, я послал ей ваш адрес. Вы можете заехать к ней, когда будете плыть по зеленоводному Рейну.
Здесь я видаюсь чаще всего с братом Льва Толстого, Николаем. Он отличный малый, но положение его горестное: у него безнадежная чахотка. Он ждет сюда брата Льва с сестрой; но бог знает – приедут ли они? Я получаю письма от Ростовцева: он на Уайте, в Вентноре. Нету слов на языке человеческом, чтобы выразить, до какой степени я здесь ничего не делаю. Пальцам больно, когда перо держишь. Неужели я занимаюсь литературой?..
Ну, прощайте. Авось после всех моих откладываемых свиданий мы увидимся в Вентноре, на Уайте. Я почему-то воображаю, что там будет очень хорошо. Будьте здоровы и старайтесь держать свой круглый и приятный подбородок над поверхностью воды. Ваш И. Т.».
* * *
Быстро промчался я на возвратном пути через северную Италию и ночевал в Милане. На другой день мы переехали Симплон. Дорога эта слишком хорошо известна путешественникам, чтобы еще описывать ее. Скажу только, что вторую ночь я ночевал во Франкфурте на Майне, третью в Кельне, а четвертую на диване пассажирского парохода, перевозившего нас через канал из Остенде. В Лондоне я застал В. П. Боткина, Тургенева и Герцена, еще не уехавшего на дачу. Мы последовали с Тургеневым за ним, когда он наконец поднялся с семейством из города. Целый день проплутали мы по разным дорогам, когда вблизи Сутсгемптона остановились, нашли дилижанс и достигли ночью пригорка с домиком на вершине его. Пригорок лежал на берегу моря и носил гордое название Eagl-nest (Орлиное гнездо). Никакого орла там не было, за исключением хозяина, радушный хохот которого встретил нас у порога и проводил в ярко освещенную залу, где уже готов был ужин. Сколько расточено было при этом рассказов, шуток, замечаний, смеха – всего передать нельзя
(#c_51). Тургенев провел всего два дня в Eagl-nest'е и отправился на остров Уайт – нанимать cottage, взяв с меня слово остановиться у него. Я дал ему время устроиться и через три дня явился к нему в чистую и хорошенькую виллу, из которой скоро попросили меня, однако же, выехать. В кабинете Тургенева на письменном его столе с утра лежала записка хозяйки коттеджа, в которой она просила его противодействовать дурной привычке приезжего его сотоварища, то есть моей, – курить в ее доме папиросы. Хозяйка была диссидентка, как большинство всего населения острова. Узнав содержание записки, я предложил Тургеневу позволить мне переселиться в красивый отель на берегу моря и оставить его, таким образом, мирно и безмятежно пользоваться выгодами удобной квартиры, обещая ему являться каждый день у дверей его и не напускать более богопротивного дыма в стенах благословенного его жилища. Но Тургенев и слышать ничего не. хотел. «Уступить капризу раскольницы было бы очень глупо», – говорил он. Он попросил меня подождать его возвращения, а сам надел шляпу и ушел. Когда он вернулся назад, квартира была найдена. Прелестный, чистый домик у самого купанья на море уже ожидал нас. Распорядившись переноской наших вещей, мы в нем и поселились. Мы нашли целую колонию русских на Уайте: гр. Алексея Конст. Толстого, гр. Николая Яков. Ростовцева, брата его, гр. Михаила, исследователя древнехристианского искусства Фрикена, бывшего цензора Крузе, Мордвинова, В. П. Боткина и т. д. Г-жи Маркович не было, да она, кажется, и не имела намерения исполнить обещания, данного ею Тургеневу.
Время, которое мы тогда переживали, было тревожное вообще как у нас дома, так и на Западе. Мы видели уже, как часто Тургенев восклицает в письмах evviva Garibaldi – обещая себе розгу, если услышат возглас посторонние; но положение России не вызывало никаких возгласов, а было как-то ровно грозящее и сулящее бедствия. С приближением крестьянской реформы напряженное состояние умов все увеличивалось, и сдерживать его уже не могла ни цензура министерства просвещения, изнывавшая под бременем своей ответственности, ни безответственное III отделение, боявшееся решительными мерами повредить самой мысли о преобразовании и следовавшее издали за общим волнением. Иногда оно неожиданно восставало с прежними, некогда столь страшными, угрозами против разумных требований общества, которых и разобрать правильно не могло, как то было в вопросе о сохранении за крестьянами существующего надела, и, пристыженное, уходило опять за кулисы. Затруднения администрации еще увеличились, когда к этому же времени овладел всей образованной частью общества, всей интеллигенцией России дух реформ и жажда политической деятельности. Придирались ко всякому часто маловажному факту, чтобы раздуть его в политическое или социальное явление и сделать его предметом толков. Сам Тургенев поддался духу времени и препроводил государю императору в 1862 году письмо, в котором защищал арестованного журналиста Огрызко, уличенного в связях с польским восстанием. Журнал, им издаваемый, был запрещен
(#c_52). Мы видели черновую этого всеподданнейшего письма, очень красноречиво составленного. Решаемся на память передать его содержание. Не зная сущности дела, Тургенев просил не о снисхождении к виноватому, а о восстановлении его во всех его правах. Письмо, между прочим, говорило, что арестованием издателя польской газеты и упразднением ее самой нарушаются великие принципы царствования, что мера потрясает надежды и доверие, возлагаемые на него русским обществом как на освободителя крестьян и как на лицо, провозгласившее с высоты престола неразрывное слияние интересов государства с интересами подданных; что он, проситель, считает своим долгом высказаться откровенно, исполняя тем, во-первых, прямую обязанность верноподданного, а во-вторых, выражая своим поступком глубокую признательность за защиту, которую государю угодно было однажды оказать самому составителю письма. Письмо, конечно, не имело никаких последствий для Тургенева и оставлено было без ответа. Тургенев рассказывал только потом, что, встретившись с государем на улице и поклонившись ему, он мог приметить строгое выражение на его лице, а в глазах прочесть как бы упрек: «Не мешайся в дело, которого не разумеешь».
Но ни один из наших импровизированных прожектеров не задавал себе тогда и мысленно никакого вопроса. Все дело казалось очень легким. Стоило только вспомнить безобразия прошлого и своей собственной жизни, противопоставить им идеалы существования, их отрицающие и всегда у нас существовавшие, – и план нового проекта был тотчас же готов. Кроме того, каждый проект обещал с принятием его эру невиданного благоденствия на земле. Канцелярии наши были завалены работами в этом смысле и не оставались в долгу у общества. Они благосклонно относились к поголовному уничтожению всякого зла и заготовляли уже декреты, упразднявшие такое зло, около которого, однако, собирались жизненные интересы управляемых, предоставляя последним выпутываться из дела, как умеют, и не объясняя своих идей, целей, намерений. Контролирующей власти приходилось считаться так же точно с своими собратами по управлению, как и с публикой. Трудно было тогда найти человека во всей России, который ясно и отчетливо сознавал бы и предвидел результаты, какие должны, по местным условиям, выйти из приложения его планов и убеждений. В публике образовался целый класс людей, который всячески поощрял насаждение новых начал и принципов, думая, что из общего переворота выйдет сам собою обновленный строй жизни и упразднит все отребье второстепенных деятелей, их честолюбивые замыслы, их надежды на возвышение и играние ролей, незрелость их мысли. Почти то же самое думали и настоящие герои дня, те колоссы «редакционных комиссий», которые, не обращая внимания на шум, вокруг них царствовавший, и одушевленные только жаждой народной пользы, шли впереди всех твердо к своей цели – полному и обдуманному освобождению крепостных
(#c_53). Трагическое в их положении составляло совсем не то, что, порешив свою задачу, они обратились в простых граждан, а то, что не прошло и двух лет, как их труд, благодаря позднейшим прибавкам и отменам, дал результаты не те и ниже тех, какие от него ожидались.
Усевшись в Вентноре и одолеваемый такой праздностью, что «больно было перо взять в руки», по собственному его выражению, Тургенев задался мыслью основать общество для обучения грамоте народа и распространения в нем первоначального образования с помощью имущих и развитых классов всего государства. Наскоро составлена была им программа общества и представлена на обсуждение русской колонии в Вентноре. Она подробно разбиралась по вечерам в домике Тургенева, изменялась, переделывалась и после многих прений, поправок и дополнений принята была комитетом из выборных лиц кружка. После того принялись за составление и переписку обстоятельного циркуляра, при котором должен быть выслан «проект» общества всем выдающимся лицам обеих столиц – художникам, литераторам, ревнителям просвещения и влиятельным особам, проживающим дома и за границей
(#c_54). Из одного этого перечня уже видно, какую массу механической работы приняли на себя участники предприятия, но благодаря настойчивости Тургенева и их усердию работа осуществилась. Основная мысль программы, как и всех проектов того времени, поражает своею громадностью, но подобно им и грешит отсутствием практического смысла. Она молчала о путях, которыми следовало идти для создания массы учебных заведений и корпорации учителей при них, не указывала на группы людей и на центры, откуда должны были истекать распоряжения о покрытии России народными училищами, и многое другое пропускала без внимания, Можно было подумать, что программой руководила только мысль доказать нужду, полезность и патриотичность общества, а подробности его осуществления предоставить ему самому, как именно и полагал Тургенев.
Я уже покинул Уайт и находился в Аахене, когда получил от Тургенева письмо из Вентнора, с приложением и программы и разосланного уже циркуляра:
«Вентнор. Пятница, 31 августа.
Вот вам, любезнейший друг П. В., экземпляр проекта и копия с одного из циркуляров. Вы усмотрите из присланного, что проект подвергся незначительным сокращениям, а в одном месте прибавлена оговорка, в предостережение от будущих возражателей. Боюсь только, как бы это письмо не застало вас уже в Аахене, так как, по письму таинственной Марии Александровны (Марко Вовчок), Макаров поскакал расстраивать свадьбу Шевченко!
(#c_55)
Я написал на адресе, что в случае вашего проезда письмо послать в Петербург
(#c_56). Нечего вас просить распространять проект наш, елико возможно. Вы и без того сделаете все, что будет в вашей власти, – в этом я уверен. Вслед за вашим экземпляром 10 других отправляются в Петербург и Москву. Куйте железо, пока горячо! Вот вам копия циркуляра:
Любезный Иван Иванович. Хотя, сколько я помню, вы уже перестали объявлять в «Современнике» о своих сотрудниках и хотя, по вашим отзывам обо мне, я должен предполагать что я вам более не нужен, однако, для верности, прошу тебя не помещать моего имени в числе ваших сотрудников, тем более что у меня ничего готового нет и что большая вещь. за которую я только что принялся теперь и которую не окончу раньше будущего мая, уже назначена в «Русский вестник».
Я, как ты знаешь, поселился в Париже на зиму. Надеюсь, что ты здоров и весел, и жму тебе руку. Преданный тебе Ив. Тургенев. Париж, Rue de Rivoli, 210»
(#c_45).
Письмо осталось в моих бумагах. Я не отослал его по адресу из одного соображения; при разгоравшейся ссоре не следовало подкладывать еще дров и раздувать пламя. Но я ошибся. Редакция «Современника» решилась довести дело до конца. В объявлении о подписке и в особой статье она сообщала подписчикам своим, что принуждена была отказаться от участия и содействия автора «Записок охотника» по разности взглядов и убеждений и уволить его от сотрудничества в журнале
(#c_46). Удар был верно рассчитан. Он возмутил Тургенева, имевшего все доказательства противного, возмутил более, чем все выходки «Свистка», образовавшегося при журнале, более чем всякие другие уколы, рассеянные на страницах журнала, как, например, тот, где говорилось о модном писателе, следующем в хвосте странствующей певицы и устраивающем ей овации на подмостках провинциальных театров за границей. Тургенев решился публично опровергнуть такое известие, и вот что говорит он в своей статейке по поводу «Отцов и детей» (1868–1869) (см. посмертное издание 1883 года, стр. 118): «Друзья мои, не оправдывайтесь никогда, какую бы ни взводили на вас клевету; не старайтесь разъяснить недоразумения, не желайте – ни сами сказать, ни услышать последнее слово. Делайте свое дело, а то все перемелется… Пусть следующий пример послужит вам в назидание; в течение моей литературной карьеры я только однажды попробовал «восстановить факты». А именно: когда редакция «Современника» стала в объявлениях своих уверять подписчиков, что она отказала мне по негодности моих убеждений (между тем как отказал ей я, несмотря на ее просьбы – на что у меня существуют письменные доказательства), я не выдержал характера, я заявил публично, в чем было дело, и, конечно, потерпел полное фиаско. Молодежь еще более вознегодовала на меня… «Как смел я поднимать руку на ее идола! Что за нужда, что я был прав? Я должен был молчать». Этот урок пошел мне впрок…»
(#c_47)
Но если Тургенев каялся в своем вмешательстве в дело, касавшееся до него лично, то еще в сильнейшей степени раскаивался и Некрасов в том, что начал его так смело и решительно. Правда, что, благодаря необыкновенной даровитости своих главных журнальных сотрудников и приобретенной ими чрезвычайной популярности, он торжествовал долгое время победу на всех пунктах. Но все это не мешало Некрасову сознавать грехи своей полемики. Когда составитель краткой биографии Тургенева, приложенной к I тому посмертного издания его сочинений 1883 года, указал Некрасову еще в 1877 году, незадолго до его смерти, некоторые черты этой полемики, то получил от него в извинение замечание, будто он тут без вины виноват и, находясь на охоте, не думал вовсе о статьях «Современника». Не знаем, насколько подобное оправдание может быть принято от редактора влиятельного журнала, знаем только, что обращение к подписчикам состоялось с его согласия и под его влиянием. Гораздо откровеннее был Некрасов со мной лично, когда однажды, возвращаясь поздно ночью от кого-то, он мне неожиданно сказал: «Я вас уважаю особенно за то, что вы не сердитесь, как другие, за выходки «Свистка» против наших литераторов. Могу вас уверить, что я серьезно думаю положить им конец». Но «Свисток» процветал и после того еще пуще, кажется, чем прежде. Несколько дней спустя после замечания Некрасова он сам приехал утром ко мне и целый час говорил в кабинете о постоянном присутствии образа Тургенева перед глазами его днем и особенно ночью, во сне, о том, что воспоминания прошлого не дают ему, Некрасову, покоя и что пора кому-нибудь взяться за их примирение и тем покончить эту безобразную (так он выразился) ссору
(#c_48). Но Тургенев уже не походил на человека, с которым легко помириться по слову постороннего, третьего лица. Когда я передал ему в письме весь происходивший у нас разговор, он отвечал ссылкой и указанием на новую выходку против него в «Современнике» и более не заикался о предмете. Говоря вообще, никто яснее Некрасова не видел собственных проступков и прегрешений и никто не следовал так постоянно по раз выбранному пути, хотя бы и осуждаемому его совестью. Это была странная настойчивость, которую подчас он старался искупить великодушием и готовностью на многочисленные жертвы. Можно сказать, что он всю жизнь состоял под настоятельной потребностью самоочищения и искупления, не исправляясь от грехов, в которых горячо каялся. Примирение между врагами произошло только тогда, когда Некрасов уже одной ногой стоял в гробу.
Второй эпизод из жизни Тургенева, немало огорчавший его, относится к тому же времени – литературное недоразумение с романистом-художником Иваном Александровичем Гончаровым – не заслуживал бы и рассказа, если бы не авторитетные имена обоих участников этого спора. Впрочем, мы ограничимся только передачей третейского суда, потребованного Тургеневым, который во всем этом деле усмотрел намерение объявить успех «Дворянского гнезда» и «Накануне» приобретенным неправильно. Дело, без сомнения раздутое услужливыми приятелями, заключалось в следующем. По возвращении из кругосветного своего путешествия или даже и ранее того И. А. Гончаров прочел некоторую часть изготовленного им романа «Обрыв» Тургеневу и рассказал ему содержание этого произведения. При появлении «Дворянского гнезда» Тургенев был удивлен, услыхав, что автор романа, который впоследствии явился под заглавием «Обрыв», находит поразительное сходство сюжетов между романом и его собственным замыслом, что он и выразил Тургеневу лично. Тургенев в ответ на это, согласно с указанием И. А. Гончарова, выключил из своего романа одно место, напоминавшее какую-то подробность – и «я успокоился», – прибавляет И. А. Гончаров в объяснительном письме к Тургеневу. С появлением «Накануне» произошло то же самое. Прочитав страниц 30 или 40 из романа, как говорится в письме И. А. к Тургеневу от 3 марта 1860 года, он выражает сочувствие автору: «Мне очень весело признать в вас смелого и колоссального артиста». – говорит он, но вместе с тем письмо заключало в себе и следующее:
«Как в человеке ценю в вас одну благородную черту – это то радушие и снисходительность, пристальное внимание, с которым вы выслушиваете сочинения других, и, между прочим, недавно выслушали и расхвалили мой ничтожный отрывок все из того же романа, который был вам рассказан уже давно, в программе». Вслед за письмом стали распространяться и расти в Петербурге слухи, что оба романа Тургенева суть не более как плагиат неизданной повести Ивана Александровича. Эти слухи, разумеется, скоро дошли до обоих авторов, и на этот раз Тургенев потребовал третейского суда. И. А. Гончаров соглашался подчиниться приговору такого суда на одном условии, чтобы суд не обратился к следственной процедуре, так как в последнем случае юридических доказательств не существует ни у одной из обеих сторон, и чтобы судьи выразили свое мнение только по вопросу, признают ли они за ним, Гончаровым, право на сомнение, которое может зародиться и от внешнего, поверхностного сходства произведений и помешать автору свободно разработывать свой роман. На одно замечание Тургенева Гончаров отвечал с достоинством: «На ваше предположение, что меня беспокоят ваши успехи – позвольте улыбнуться, и только». Эксперты, после выбора их, собрались наконец 29 марта 1860 в квартире И. А. Гончарова – это были: С. С. Дудышкин, А. В. Дружинин и П. В. Анненков – люди, сочувствовавшие одинаково обеим сторонам и ничего так не желавшие, как уничтожить и самый предлог к нарушению добрых отношений между лицами, имевшими одинаковое право на уважение к их авторитетному имени. После изложения дела, обмена добавлений сторонами замечания экспертов все сводились к одному знаменателю. Произведения Тургенева и Гончарова как возникшие на одной и той же русской почве должны были тем самым иметь несколько схожих положений, случайно совпадать в некоторых мыслях и выражениях, что оправдывает и извиняет обе стороны. И. А. Гончаров, казалось, остался доволен этим решением экспертов. Не то, однако же, случилось с Тургеневым. Лицо его покрылось болезненной бледностью; он пересел на кресло и дрожащим от волнения голосом произнес следующее. Я помню каждое его слово, как и выражение его физиономии, ибо никогда не видел его в таком возбужденном состоянии. «Дело наше с вами, Иван Александрович, теперь кончено; но я позволю себе прибавить к нему одно последнее слово. Дружеские наши отношения с этой минуты прекращаются. То, что произошло между нами, показало мне ясно, какие опасные последствия могут являться из приятельского обмена мыслей, из простых, доверчивых связей. Я остаюсь поклонником вашего таланта, и, вероятно, еще не раз мне придется восхищаться им вместе с другими, но сердечного благорасположения, как прежде, и задушевной откровенности между нами существовать уже не может с этого дня». И, кивнув всем головой, он вышел из комнаты. Заседание наше тем самым было прекращено. Позже они помирились, в 1864 – при похоронах одного из экспертов, именно А. В. Дружинина. По время самой заупокойной обедни на Смоленском кладбище перед раскрытым гробом журналиста произошло это примирение, которое, к сожалению, все же не могло восстановить вполне прежних добрых их отношений.
Третий эпизод из жизни Тургенева касался уже весьма близкого к нему лица – гр. Л. Н. Толстого, но об этом будет сказано ниже.
II
В мае 1860 я уехал за границу. Русским туристам должно быть известно чувство, которое весной тянет их далеко от намеченных целей, – туда, где больше солнца, где природа деятельнее и цветущее. Это случилось и со мной. Приехал я в Берлин, посмотрел из гостиницы на чахоточную растительность его «Unter-den-Linden», съездил в голый, еще не распустившийся «Thiergarten» – и мною овладела жажда тепла, света, простора: вместо Лондона и свидания с приятелями, я направился в северную Италию, где у меня никого не было. Этот внезапный поворот вызвал гомерический хохот у Тургенева. Я получил от него уже в Женеве письмо из Парижа, от 23 мая 1860. «Первое чувство, – пишет он, – по получении вашего письма, милейший А., было удовольствие, но второе чувство разразилось хохотом… Как? Этот человек, который мечтал только о том, как бы дорваться до Англии, до Лондона, до тамошних приятелей, примчавшись в Берлин, скачет сломя голову в Женеву и в северную Италию. Узнаю, узнаю ваш обычный Kunstgriff»[15 - прием, манера (нем.)]. Однако же, полагаю, что этот художнический прием не составлял особенности моей природы, а скорее совпал с тем, что постоянно происходило у моего наставника. В письме, только что приведенном, заключалось еще следующее: «Но увлеченный вашим примером, я также, вместо того чтобы съездить в Англию до начала моего лечения, которое будет в Содене, возле Франкфурта, и начнется 15 июня, думаю, не катнуть ли мне в Женеву, которую я никогда не видел, не пожить ли недельки две с неким толстым человеком – Пав. Ан.?. Итак, быть может и весьма вероятно, до скорого свидания…»
Но в Женеву Тургенев и не думал ехать, и я, проживши понапрасну, в ожидании его каждый день, целых две недели в скучном городе, выехал из него наконец в Милан. Впрочем, я еще получил письмо от Тургенева из Парижа (3 июня 1860). Он извещал, что выезжает в Соден. «А я, проживши три недели в Париже, – пишет он, – скачу завтра же в Соден. И вот вам мой план:
1. От 5 июня н. с. до 20 июля – я в Содене.
2. От 20 июля по 1 августа – я в Женеве, на озере 4-х Кантонов, на вершинах Юнг-Фрау, где угодно.
3. От 1 августа по 20 августа – на острове Уайт.
4. От 20 августа по 1 сентября – у m-me Виардо, в Куртавнеле.
А там я живу – в Париже.
Изо всего вышеприведенного вы легко можете заключить, даже не будучи Ньютоном или Вольтером, что наши планы могут слиться в одно прекрасное целое и что ничего не помешает нам попорхать вместе от Женевы до Уайта. Главное, надо будет списаться: я вам пришлю из Содена мой точный адрес».
Не успели еще остыть и чернила на этих строках, как план, так настойчиво поставленный, потерпел крушение. Он изменился в сроках пребывания на избранных местах, в выборе новых, в беспричинном упразднении старых проектов, как поездки в Женеву например, и т. д. Все это увидим скоро. Теперь же прилагаем окончание письма, тоже любопытное по портретам, в нем заключающимся. Кстати, надо прибавить, что портреты Тургенева не имеют ничего общего с тем родственным, неделимым сочетанием диффамации и клеветы, какое свойственно памфлетам нашего времени, и никого оскорбить не могут. Это только незлобивое, остроумно-критическое отношение к личностям, во что обратилась его старая привычка определять их карикатурой.
«Здесь появился (В. П.) Боткин, загорелый, здоровый, медом облитый, но не без мгновенных вспышек раздражительности; так, он, зайдя ко мне, чуть не прибил моего портного за то, что он хочет мне сделать пиджак с тальею; портной трепетно извинялся, а Вас. Петр. with a wittering smile (с надменной улыбкой): «Mais c'est une infamie, monsieur!» (Ведь это низость, государь мой!) Толстой и Крузе здесь; здесь также и Марко Вовчок. Это прекрасное, умное, честное и поэтическое существо, но зараженное страстью к самоистреблению: просто так себя обработывает, что клочья летят!.. Она также намерена быть в августе на Уайте. Наша коллегия будет так велика, что, право, не худо бы подумать, не завоевать ли кстати этот остров? Кстати, если вы не отыскали, то отыщите в Милане Кашпероват и поклонитесь ему от меня. Его легко сыскать – спросите в музыкальных магазинах. Он отличный малый – и жена его милая и умная женщина.
До свидания, лобзаю вас в верх головы, как говорит Кохановская. А-пропо[16 - (франц. – a propos) – кстати]. Катков обайбородил Евгению Тур за письмо к нему по поводу Свечиной. Вот междуусобица. Ваш И. Т.».
В этом письме останавливают внимание оживленные похвалы г-же Маркович (Марко Вовчку). Он был с нею в то время в самых приятельских отношениях и сделал путешествие с нею и молодым ее сыном в Берлин в почтовой бричке, где они сидели втроем. Железной дороги до Берлина тогда еще не существовало. Тургенев с уморительным юмором рассказывал потом, как резвый мальчик сидел у него всю дорогу на руках, на ногах и спал на шее. В Париже он поместил мальчика в пансион и неустанно покровительствовал его матери. Марко Вовчок принадлежала к кругу малороссов, с поэтом Шевченкой во главе, – кругу, который с журналом «Основа» значительно увеличился и приобрел видное положение в обществе. Тургенев сочувствовал его стремлениям, имевшим целью поднять язык своей страны, развить ее культуру и поставить ее в дружеские, а не подчиненные только отношения к великорусской культуре. Он искал знакомства с поэтом Шевченкой, высказывал искренние симпатии его прошлым страданиям и его таланту, но не разделял его увлечений. Над его привязанностью к Запорожью, казачьему удальству, к гайдаматчине он подсмеивался не раз, в приятельском кружку. Марко Вовчок была тогда в апогее своей славы за свои грациозные и трогательные повести из крепостного быта – «Украинские народные рассказы», вышедшие к тому же времени (1860) в переводе Тургенева на русский язык
(#c_49). С тех пор завязались у них те задушевные отношения, свидетельством которых служит его переписка и которые длились до той минуты, когда Тургенев открыл в Марко Вовчке наивную способность поглощать благодеяния как нечто ей должное и требовать новых, не обращая внимания на свои права на них. Это была удивительная натура, без нужных средств для поддержания своих привычек, но с замечательным мастерством изобретать средства для добывания денег, что, в соединении с серьезностию, какую дают человеку труд, талант и горькие опыты жизни, сообщало особый колорит личности г-жи Маркович и держало при ней многих умных и талантливых приверженцев довольно долгое время. Тургенев пока только удивлялся ей. В декабре 1860 года он писал мне: «Марья Алекс. все здесь живет и мила по-прежнему; но что тратит эта женщина, сидя на сухом хлебе, в одном платье, без башмаков, – это невероятно. Это даже превосходит Бакунина. В полтора года она ухлопала 30 000 франков совершенно неизвестно куда!» Тургенев мало-помалу отвык от нее, а под конец жизни и вовсе не вспоминал о ней.
Из Болоньи я отправился в Равенну осмотреть ее древнехристианские памятники, но при этом только одна случайность помешала мне сделаться свидетелем и участником чисто итальянской черты народного быта. Я пошел в почтамт, чтобы взять единственный остававшийся свободным билет в купе, которое отправлялось в Равенну. Не помню, что помешало мне овладеть им, только я отложил свою поездку до следующего раза. Толпа итальянцев, окружающая обыкновенно все входы и выходы присутственных мест, подметила меня и, вероятно, приняла за англичанина с туго набитым кошельком. На другой день утром я был разбужен лакеем гостиницы, который сообщал мне испуганным голосом следующее: «Вы собираетесь в Равенну – будьте осторожны. Вчера бандиты остановили почтовый дилижанс и, вероятно, ограбили бы его, если бы ехавший с ними офицер не разогнал их своим револьвером». Я пошел тотчас же на разведки – билет, который был уже в моих руках, попал к офицеру итальянской армии, вероятно более меня знавшему об анархии в тогдашней Италии, только что переменившей у себя «правительство»
(#c_50), и на всякий случай взявшему с собой заряженный револьвер. Угрозой выстрелов он и обратил в бегство мошенников, еще не приученных к ремеслу, как их собраты в Папской области. Рассчитав, что лучшего времени для вояжа и быть не может, я опять взял билет в карету, и мы благополучно достигли Равенны, сопровождаемые отрядом берсальеров с ружьями, в почтовой тележке, приданных нам администрацией для сохранения свободы сообщений; они всю ночь распевали итальянские патриотические песни. Из Равенны я переехал в Сиену, где получил от Тургенева последнее соденское письмо, извещавшее о начавшемся разложении так хорошо обдуманного плана наших встреч. Следовало торопиться, ибо весь план этот со дня на день мог разлететься в пух и оставить меня и мой вояж без цели и результатов.
Вот письмо Тургенева:
«Соден. 8 июля 1860.
Милый П. В. Сейчас получил ваше письмо и отвечаю. Сообщаемые вами подробности очень любопытны. Что бы с нами было, если бы вас застрелили, хотя вы бы, вероятно, защищаться не стали! Но пуля – дура. Много придется поговорить с вами обо всем, что вы видели, поговорить на острове Уайте: раньше мы не увидимся. План мой потерпел маленькое изменение, о котором считаю долгом известить вас. Я остаюсь здесь до 16-го числа и еду прямо в Куртавнель, к m-mе Виардо, где я пробуду до 1 августа, то есть до эпохи морских купаний на Уайте. М-те Виардо этого желает, а для меня ее воля – закон. Ее сын чуть было не умер, и она много натерпелась. Ей хочется отдохнуть в спокойном, дружеском обществе. Кстати, о смерти: вообразите, какое горестное известие получил я от Писемского.
Миленькая, хорошенькая жена Полонского умерла! Я не могу вам выразить, как мне жаль и ее и его, да и вы, вероятно, разделите мою печаль. Кажется, отчего бы ей было не жить, не следовало ли Полонскому маленькое вознаграждение за все его прошедшее горе? Где же справедливость!
Мы здесь в Содене ведем жизнь чрезвычайно тихую. Здоровье мое в отличном положении; к сожалению, погода стоит прехолодная и прескверная: дожди непрерывные. Вы пишете о зное, а я в жизни так не зяб, как третьего дня, ехавши в открытой коляске из Эмса, где я посетил графиню Ламберт, в Швальбах, где поселилась М. А. Маркович (Марко Вовчок). Это очень милая, умная, хорошая женщина, с поэтическим складом души. Она будет на Уайте, и вы должны непременно сойтись с ней… Чур, не влюбитесь! Что весьма возможно, несмотря, что он» не очень красива. Впрочем, мы с вами прокопченные сельди, которых ничего уже не берет. Карташевская промчалась здесь с братом и живет пока в Бонне, в Hotel Belle-Vue; под руководством Килиана. Она проведет там месяц, я послал ей ваш адрес. Вы можете заехать к ней, когда будете плыть по зеленоводному Рейну.
Здесь я видаюсь чаще всего с братом Льва Толстого, Николаем. Он отличный малый, но положение его горестное: у него безнадежная чахотка. Он ждет сюда брата Льва с сестрой; но бог знает – приедут ли они? Я получаю письма от Ростовцева: он на Уайте, в Вентноре. Нету слов на языке человеческом, чтобы выразить, до какой степени я здесь ничего не делаю. Пальцам больно, когда перо держишь. Неужели я занимаюсь литературой?..
Ну, прощайте. Авось после всех моих откладываемых свиданий мы увидимся в Вентноре, на Уайте. Я почему-то воображаю, что там будет очень хорошо. Будьте здоровы и старайтесь держать свой круглый и приятный подбородок над поверхностью воды. Ваш И. Т.».
* * *
Быстро промчался я на возвратном пути через северную Италию и ночевал в Милане. На другой день мы переехали Симплон. Дорога эта слишком хорошо известна путешественникам, чтобы еще описывать ее. Скажу только, что вторую ночь я ночевал во Франкфурте на Майне, третью в Кельне, а четвертую на диване пассажирского парохода, перевозившего нас через канал из Остенде. В Лондоне я застал В. П. Боткина, Тургенева и Герцена, еще не уехавшего на дачу. Мы последовали с Тургеневым за ним, когда он наконец поднялся с семейством из города. Целый день проплутали мы по разным дорогам, когда вблизи Сутсгемптона остановились, нашли дилижанс и достигли ночью пригорка с домиком на вершине его. Пригорок лежал на берегу моря и носил гордое название Eagl-nest (Орлиное гнездо). Никакого орла там не было, за исключением хозяина, радушный хохот которого встретил нас у порога и проводил в ярко освещенную залу, где уже готов был ужин. Сколько расточено было при этом рассказов, шуток, замечаний, смеха – всего передать нельзя
(#c_51). Тургенев провел всего два дня в Eagl-nest'е и отправился на остров Уайт – нанимать cottage, взяв с меня слово остановиться у него. Я дал ему время устроиться и через три дня явился к нему в чистую и хорошенькую виллу, из которой скоро попросили меня, однако же, выехать. В кабинете Тургенева на письменном его столе с утра лежала записка хозяйки коттеджа, в которой она просила его противодействовать дурной привычке приезжего его сотоварища, то есть моей, – курить в ее доме папиросы. Хозяйка была диссидентка, как большинство всего населения острова. Узнав содержание записки, я предложил Тургеневу позволить мне переселиться в красивый отель на берегу моря и оставить его, таким образом, мирно и безмятежно пользоваться выгодами удобной квартиры, обещая ему являться каждый день у дверей его и не напускать более богопротивного дыма в стенах благословенного его жилища. Но Тургенев и слышать ничего не. хотел. «Уступить капризу раскольницы было бы очень глупо», – говорил он. Он попросил меня подождать его возвращения, а сам надел шляпу и ушел. Когда он вернулся назад, квартира была найдена. Прелестный, чистый домик у самого купанья на море уже ожидал нас. Распорядившись переноской наших вещей, мы в нем и поселились. Мы нашли целую колонию русских на Уайте: гр. Алексея Конст. Толстого, гр. Николая Яков. Ростовцева, брата его, гр. Михаила, исследователя древнехристианского искусства Фрикена, бывшего цензора Крузе, Мордвинова, В. П. Боткина и т. д. Г-жи Маркович не было, да она, кажется, и не имела намерения исполнить обещания, данного ею Тургеневу.
Время, которое мы тогда переживали, было тревожное вообще как у нас дома, так и на Западе. Мы видели уже, как часто Тургенев восклицает в письмах evviva Garibaldi – обещая себе розгу, если услышат возглас посторонние; но положение России не вызывало никаких возгласов, а было как-то ровно грозящее и сулящее бедствия. С приближением крестьянской реформы напряженное состояние умов все увеличивалось, и сдерживать его уже не могла ни цензура министерства просвещения, изнывавшая под бременем своей ответственности, ни безответственное III отделение, боявшееся решительными мерами повредить самой мысли о преобразовании и следовавшее издали за общим волнением. Иногда оно неожиданно восставало с прежними, некогда столь страшными, угрозами против разумных требований общества, которых и разобрать правильно не могло, как то было в вопросе о сохранении за крестьянами существующего надела, и, пристыженное, уходило опять за кулисы. Затруднения администрации еще увеличились, когда к этому же времени овладел всей образованной частью общества, всей интеллигенцией России дух реформ и жажда политической деятельности. Придирались ко всякому часто маловажному факту, чтобы раздуть его в политическое или социальное явление и сделать его предметом толков. Сам Тургенев поддался духу времени и препроводил государю императору в 1862 году письмо, в котором защищал арестованного журналиста Огрызко, уличенного в связях с польским восстанием. Журнал, им издаваемый, был запрещен
(#c_52). Мы видели черновую этого всеподданнейшего письма, очень красноречиво составленного. Решаемся на память передать его содержание. Не зная сущности дела, Тургенев просил не о снисхождении к виноватому, а о восстановлении его во всех его правах. Письмо, между прочим, говорило, что арестованием издателя польской газеты и упразднением ее самой нарушаются великие принципы царствования, что мера потрясает надежды и доверие, возлагаемые на него русским обществом как на освободителя крестьян и как на лицо, провозгласившее с высоты престола неразрывное слияние интересов государства с интересами подданных; что он, проситель, считает своим долгом высказаться откровенно, исполняя тем, во-первых, прямую обязанность верноподданного, а во-вторых, выражая своим поступком глубокую признательность за защиту, которую государю угодно было однажды оказать самому составителю письма. Письмо, конечно, не имело никаких последствий для Тургенева и оставлено было без ответа. Тургенев рассказывал только потом, что, встретившись с государем на улице и поклонившись ему, он мог приметить строгое выражение на его лице, а в глазах прочесть как бы упрек: «Не мешайся в дело, которого не разумеешь».
Но ни один из наших импровизированных прожектеров не задавал себе тогда и мысленно никакого вопроса. Все дело казалось очень легким. Стоило только вспомнить безобразия прошлого и своей собственной жизни, противопоставить им идеалы существования, их отрицающие и всегда у нас существовавшие, – и план нового проекта был тотчас же готов. Кроме того, каждый проект обещал с принятием его эру невиданного благоденствия на земле. Канцелярии наши были завалены работами в этом смысле и не оставались в долгу у общества. Они благосклонно относились к поголовному уничтожению всякого зла и заготовляли уже декреты, упразднявшие такое зло, около которого, однако, собирались жизненные интересы управляемых, предоставляя последним выпутываться из дела, как умеют, и не объясняя своих идей, целей, намерений. Контролирующей власти приходилось считаться так же точно с своими собратами по управлению, как и с публикой. Трудно было тогда найти человека во всей России, который ясно и отчетливо сознавал бы и предвидел результаты, какие должны, по местным условиям, выйти из приложения его планов и убеждений. В публике образовался целый класс людей, который всячески поощрял насаждение новых начал и принципов, думая, что из общего переворота выйдет сам собою обновленный строй жизни и упразднит все отребье второстепенных деятелей, их честолюбивые замыслы, их надежды на возвышение и играние ролей, незрелость их мысли. Почти то же самое думали и настоящие герои дня, те колоссы «редакционных комиссий», которые, не обращая внимания на шум, вокруг них царствовавший, и одушевленные только жаждой народной пользы, шли впереди всех твердо к своей цели – полному и обдуманному освобождению крепостных
(#c_53). Трагическое в их положении составляло совсем не то, что, порешив свою задачу, они обратились в простых граждан, а то, что не прошло и двух лет, как их труд, благодаря позднейшим прибавкам и отменам, дал результаты не те и ниже тех, какие от него ожидались.
Усевшись в Вентноре и одолеваемый такой праздностью, что «больно было перо взять в руки», по собственному его выражению, Тургенев задался мыслью основать общество для обучения грамоте народа и распространения в нем первоначального образования с помощью имущих и развитых классов всего государства. Наскоро составлена была им программа общества и представлена на обсуждение русской колонии в Вентноре. Она подробно разбиралась по вечерам в домике Тургенева, изменялась, переделывалась и после многих прений, поправок и дополнений принята была комитетом из выборных лиц кружка. После того принялись за составление и переписку обстоятельного циркуляра, при котором должен быть выслан «проект» общества всем выдающимся лицам обеих столиц – художникам, литераторам, ревнителям просвещения и влиятельным особам, проживающим дома и за границей
(#c_54). Из одного этого перечня уже видно, какую массу механической работы приняли на себя участники предприятия, но благодаря настойчивости Тургенева и их усердию работа осуществилась. Основная мысль программы, как и всех проектов того времени, поражает своею громадностью, но подобно им и грешит отсутствием практического смысла. Она молчала о путях, которыми следовало идти для создания массы учебных заведений и корпорации учителей при них, не указывала на группы людей и на центры, откуда должны были истекать распоряжения о покрытии России народными училищами, и многое другое пропускала без внимания, Можно было подумать, что программой руководила только мысль доказать нужду, полезность и патриотичность общества, а подробности его осуществления предоставить ему самому, как именно и полагал Тургенев.
Я уже покинул Уайт и находился в Аахене, когда получил от Тургенева письмо из Вентнора, с приложением и программы и разосланного уже циркуляра:
«Вентнор. Пятница, 31 августа.
Вот вам, любезнейший друг П. В., экземпляр проекта и копия с одного из циркуляров. Вы усмотрите из присланного, что проект подвергся незначительным сокращениям, а в одном месте прибавлена оговорка, в предостережение от будущих возражателей. Боюсь только, как бы это письмо не застало вас уже в Аахене, так как, по письму таинственной Марии Александровны (Марко Вовчок), Макаров поскакал расстраивать свадьбу Шевченко!
(#c_55)
Я написал на адресе, что в случае вашего проезда письмо послать в Петербург
(#c_56). Нечего вас просить распространять проект наш, елико возможно. Вы и без того сделаете все, что будет в вашей власти, – в этом я уверен. Вслед за вашим экземпляром 10 других отправляются в Петербург и Москву. Куйте железо, пока горячо! Вот вам копия циркуляра: