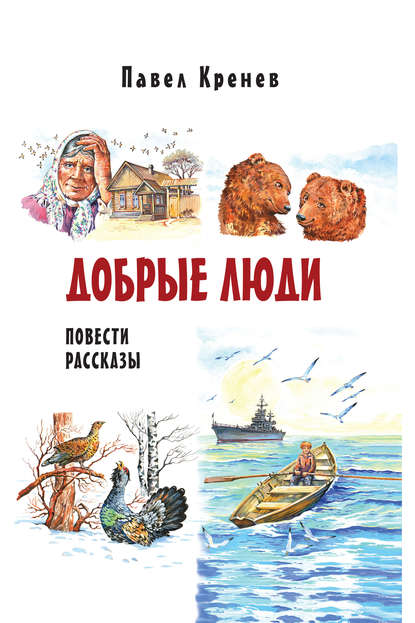По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Добрые люди
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Передо мной на толстом красном металлическом постаменте высится огромная прозрачная бочка, вероятно, сделанная из толстого стекла. Вот это и есть объект давнего-давнего моего интереса. Что же это за штуковина такая? Что в ней спрятано такое, что светит на все море? Как же устроена эта чудесная вещь?
Очень не хотелось мне подниматься на ноги. Страшно было сделать любое движение на такой высоте. Тем более явно ощущалось, что маячное это строение – не такая уж и надежная штука: всем телом я чувствовал, что вершина маяка покачивается на ветру. Да и перила, опоясывающие верхнюю площадку, казались мне хлипкими, совершенно ненадежными. Казалось мне: обопрись на них – и полетишь вниз вместе с дощечками и столбиками, из которых они сварганены.
Но подниматься надо было, и я поднялся. И вцепился руками в стеклянную бочку.
Прямо передо мной оказалось чрево этой стеклянной громадины. Показалось мне, что в нем, этом чреве, расположено множество линз, линзочек, стеклянных уголков, других искусно сделанных прозрачных предметов. А посреди них, в самой сердцевине стеклянно-хрустальных чудес, бьется яркое крохотное сердечко: там время от времени вспыхивает тонкий, слегка удлиненный огонек. Огонек этот отражается во всех изгибах цветного хрусталя, во всех линзах и линзочках, и яркое пламя дивных огней заполняет все пространство стеклянной бочки.
Ничего подобного я никогда не видел. Это огненное волшебство было настоящим чудом!
И уж выше всяких моих сил было жгучее стремление заглянуть туда, вовнутрь, проникнуть в сказочный хрустальный мир, заполненный волшебным светом.
Все сущее на земле имеет к себе какой-нибудь доступ. Маяк – не исключение. Дверца, ведущая к таинственному огоньку, нашлась скоро. Сбоку, на стеклянной бочке, обнаружил я стальной крючок. Откинул его вверх – дверца и открылась.
Там, в глубине, посередке бочки, что-то слегка регулярно хлопало. Да это и есть тот самый огонек! Только не огромный, во всю ширину стеклянных чудес, а совсем маленький, как пламя свечки.
Он трепыхался во чреве стеклянного изобилия, его окружавшего, словно крохотное сердечко в чьем-то большом теле. «Как же он светит на все море?» – подумалось мне. В своем далеком детстве я совсем не знал законов физики, так разительно меняющих мир.
Не знал я и того, что мне ни в коем случае нельзя было открывать ту стеклянную дверцу. В ту же самую секунду дунул порыв ветра, и огонек вдруг погас.
Я не знал, что мне делать. Несколько раз распахнул и опять закрыл дверцу – результата не было, огонь не горел.
Вот тогда я и понял, что совершил воинское преступление. Хорошо мне было известно, что маяк служит для ориентации кораблей в море. Нет маяка – и корабли, как слепые котята, могут сойти с курса, заблудиться, потеряться и не выполнить боевую задачу.
А еще хуже, если, потерявшись в штормах и туманах, в отсутствие видимости они начнут ударяться друг о друга… Тут и до гибели людей недалеко.
Мысли у меня были прескверные. Вот уж натворил, так натворил!
Дома не удержался и задал отцу вопрос: что сделают с человеком, если он погасит маяк? Все же отец служил на флоте и много чего повидал.
Он ответил коротко и определенно: если на войне, то расстреляют. Потом он оторвался от газеты и уставился на меня подозрительно:
– А зачем это тебе, Паша?
– Да так, чтобы знать. Мало ли какие придурки бывают.
Вот тебе и перспектива. Ну, до расстрела, может, и не дойдет, все же не военное время, но в детскую колонию отправят, точно. Нашего брата хулигана этим пугали постоянно.
Ареста и отправки в колонию ждал два дня.
Картина мерещилась ужасная: ведут меня по всей деревенской улице промеж толпящихся односельчан два милиционера. Оба со здоровенными наганами наперевес, а люди говорят мне горькую правду:
– Эх, Паша, Паша, ты с виду парень неплохой. И поспеваешь в школе хорошо, и в клубе песни поешь славно, а на самом деле такой ты бандюган оказался! Это ж надо: весь Северный флот подвел. Вот теперь в колонии-то посиди лет двадцать. Может, там ума тебе добавят.
Мысли мои были печальны.
Через два дня к нам в дом явился уважаемый в деревне человек, Тюков Ким Иванович, начальник всего маячного хозяйства, и сел передо мной на лавку. Откуда он узнал, что это именно я натворил столько бед, до сих пор не могу себе представить. Отец и мать почему-то оказались в тот момент не на работе, а тоже дома. Теперь-то я понимаю, что они сговорились, а тогда все было как назло.
Ким Иванович какое-то время сидел молча и сердито сопел. Я думал: «Сейчас как даст по затылку!»
Лучше было бы, если бы и дал. Но он сидел, молчал и только медленно переваливался с боку на бок.
– Ну что, Павел, будешь еще так делать? – спросил он наконец тихим, но очень твердым голосом.
И тут меня прорвало. Сказались дни реальных переживаний: я ведь совсем не хотел вредить ни маячной службе, ни военным кораблям. Я был обычным деревенским шалопаем, сующим свой нос куда не следует. Я зашелся в слезах и завыл совершенно искренне и честно.
Не знаю, почему простил меня хороший человек, Ким Иванович? Может, потому, что понял меня, любопытного мальчишку, и догадался, что я никогда больше не принесу вреда его хозяйству.
Доверие его я оправдал. Мы поддерживали добрые отношения с его сыном, Сашкой Тюковым, моим одноклассником.
Как далеко теперь все это – и фосфорный шорох воды, и темные силуэты холмов, и доброе лицо отца, освещенное блеклым светлячком вечной папиросы, и эти мерцающие огоньки маяков – путеводных звездочек, плывущих в море кораблей.
Все это – картинки моего уплывающего за далекий горизонт детства.
И вот однажды напротив нашей деревни бросил якорь военный корабль.
Стояло лето, не помню, какого года, мне было тогда десять или одиннадцать лет, и я был вполне сформировавшимся молодым человеком, способным на дерзкие поступки.
По какой-то мальчишеской надобности я вышел в тот день на морской берег и увидел чудо.
В солнечной дорожке, длинным-предлинным треугольником разбросанной в колыхании мелких синих волн, на дальнем ее конце, я увидел очертания боевого корабля.
Какая картина может быть милее и желаннее для любого мальчика, чем вид корабельных надстроек военного судна? Эти строгие и точные линии хищного морского охотника, эти пушки и пулеметы, эти рубки и флаги!
Корабль стоял совсем недалеко, может быть, в километре от берега, торжественный и надменный, и блики солнечной дорожки, казалось мне, плясали по его неотразимым серо-голубым формам.
Не знаю, какая сила толкнула меня на этот шаг, но я подошел к заплестку, где стоял слегка затянутый носом на песок и лениво булькался кормой в мелкой волне карбасок соседа – Николая Семеновича. Добрейший сосед никогда не бранил меня за то, что я пользовался его карбаском, потому что всегда возвращал его на место. А еще потакал мне сосед за то, что я каждый день, увидев его около дома, кричал на всю деревню:
– Здравствуй-ко, дядя Коля!
А жене его кричал:
– Здравствуй-ко, тетушка Афия!
Они шутейно кланялись мне и отвечали:
– Здравствуй-ко, Павлушко!
И радостны были мне эти незатейливые соседские величания.
Я поднял с берега якорь-кошку, смотал цепь и аккуратно уложил их в нос карбаса. Затем веслом оттолкнулся от берега, закрепил кочетья и на веслах пошел к кораблю.
Плыл я долго. Карбас шел медленно, так как слабых моих силенок не хватало для упругих гребков. И, похоже, на корабле мою лодку никто не заметил. Я часто оглядывался, чтобы плыть точно.
И вот передо мной свинцово-стальная громада. Я сложил весла и уцепился за толстый канат, висящий вдоль борта.
– Эй, на судне, – крикнул я громко.
Сверху на меня никто не смотрел.