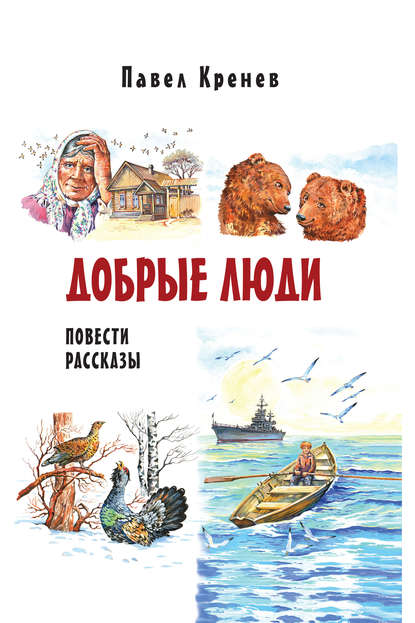По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Добрые люди
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И подозрительно при этом поглядывал на Феофана. Того это возмущало.
– Не я же ее съел, честное слово!
– Ну, я так не считаю, – мямлил Пищихин. – Я чисто технически не могу понять: что, взял в охапку и понес, так, что ли? Или на плечо закинул, интересно, черт…
Феофан терпеть Пищихина не мог, потому не спорил с ним, не обсуждал медвежьих возможностей. Только сказал:
– Если интересно, возьми да подежурь здесь ночью, он тебе покажет, как это делается.
Бригадира такая перспектива не прельстила. Он сразу засобирался, отдал распоряжение:
– Шкуры списать, на дверь приделать стягу.
Феофан стягу приделал, благо имелась в запасе.
Она легла поперек двери стальной лентой и закрыла ее наглухо.
Так ему казалось.
Но на другое же утро стальная стяга валялась у дверей, вырванная с корнем, и похожа была на измятую ленточку от матросской бескозырки.
Опять не хватало одной шкуры…
Пищихин был на этот раз более категоричен:
– Не-е, так это дело не пойдет. Этот ушкуй нас из плана выбьет. Надо пристрелить заразу!
Феофан вспомнил свою одноствольную пукалку – старенький дробовичок двадцатого калибра – и усомнился.
– Вот сам и берись за такое дело, я лично – пас!
– Брось отнекиваться, Феофан Александрович, – отрезал бригадир, – дело общественное, вишь, что творит, змей, все границы перешел. А из меня, сам знаешь, какой стрелок, целюсь через приклад…
То, что Пищихин не охотник, – это понятно. Балаболка, одно слово. Но и сам он не Робин Гуд, чего уж там…
– У меня ружья нету, – возразил Феофан.
– В колхозе карабин имеется, «Лось», десятизарядный, и пуля у него девять миллиметров, блямба! Кого хошь завалит, хоть слона. Выпишем, Фаня, не дрейфь, – чтобы умаслить, Пищихин стал фамильярничать, старый лицемер.
– Дай кого-нибудь в подмогу, одному страшновато, – честно признался Феофан.
Пищихин обрадовался: «Уломал-таки!» – и наобещал гору:
– Выделим, Феофан Александрович, лучшего охотника выделим!
«Лучшим охотником» оказался Санька Турачкин, лысый тридцатилетний долговязый парень, крикливый и немного нервный. Суета и нервозность появились в Санькином характере после выхода в свет исторического постановления о борьбе с пьянством и алкоголизмом. В тот период он сильно пострадал и до сих пор тяжело переживал появление этого правительственного документа.
«Опять надул, балаболка», – с неприязнью подумал Феофан о Пищихине, потому что никаких охотничьих подвигов за Турачкиным не знал. Кроме, пожалуй, одного. Года два назад Санька выпросил в охотхозяйстве лицензию на лося и осенью прямо за деревней подстрелил… колхозного коня Пегаску.
Оправдывался потом: «В сумерках дело было, а тот стоит в кустах, и рога на ем будто…»
Дело было до выхода упомянутого постановления, и Саньке в тот период действительно такое могло померещиться.
Он ворвался к Феофану под вечер и с порога заторопил:
– Пойдем, Фаня, жахнем твоего грабителя!
На плече у него висел карабин «Лось», десятизарядный и новый.
Феофан сидел перед телевизором в тапках и смотрел мультфильм по программе «Спокойной ночи, малыши!».
На коленях у него стояла теплая кастрюля со свежей ухой из пинагора – самолучшей ухой! Феофан хлебал уху прямо из кастрюли, протяжисто фыркал. Идти на хищника ему не хотелось.
– Вот сейчас все брошу и пойду, – сказал он и стал фыркать еще слаще, запричмокивал.
Турачкин, увидав такое дело и осознав, что его триумф может не состояться, взмолился:
– Пойдем, Фаня, а? Руководство поручило, надо сделать! А мне одному боязно, сам понимаешь.
Ясно, что не отвяжется «лучший охотник»: после безвинно загубленного Пегаски Саньке чрезвычайно необходимо было реабилитироваться перед народом. Пинагорью уху Феофан так и не доел, не торопясь оделся, снял с гвоздя в кладовке «двадцатку» и пошел с Санькой Турачкиным на медведя.
Они сделали засаду метрах в пятидесяти от сальницы, на вершине разлапистого верескового куста.
Легли прямо на ветки, поэтому хвоинки и сучки покусывали тело.
Ветер дул такой, какой надо, – вдоль берега, с севера, как раз оттуда должен был подкрасться разбойный медведь. Так что их запах был для него недосягаем. С юга ему не подойти – там деревня, с запада – пустырь – местный аэродром, с востока – море.
Один путь – с севера.
Разговаривали шепотом.
– Во сколько придет, как думаешь? – нервничал Турачкин и гладил рукавом ствол карабина – стряхивал прилипшие хвоинки.
– Ему виднее, у тебя не спросил, – Феофану разговаривать не хотелось, ему было зябко и, в общем, жутковато.
Ветер позванивал вересковой хвоей. Стояла густая прохладная ночь середины августа, наполненная всевозможными звуками и запахами. Высоко-высоко в небе, под самыми звездочками, пластался черный, весь в разрывах, дым. Звездочки вымаргивали в этих разрывах и тут же снова окунались в черные клубы. Это летели с севера на юг дальние холодные облака. Все кусты кругом казались лежащими на земле медведями.
– Интересно, он на рану силен или нет? – постукивал Санька зубами. Потом предложил: – Давай для точности глаза и руки, – и достал из внутреннего кармана флягу, отвинтил крышку.
В нос Феофану крепко ударил запах браги. Санька опрокинул флягу в рот и сделал несколько крупных глотков, передал Павловскому.
– Глотни для храбрости, не повредит. Сам делал, на чистых дрожжах, вкуснота, спасу нету… Эх, бражка-милашка!..
После браги Турачкин замурлыкал потихонечку какой-то простенький мотив, потом протяжно рыгнул и вдруг запохрапывал, уткнувшись лбом о приклад карабина.
«Охотничек, мать твою», – почти равнодушно подумал Феофан и стал глядеть на море, на верхушки волн, мерцающие звездными искрами размеренно и тускло.
Не заметил, как задремал сам. Его разбудил какой-то шорох. Открыв глаза, Феофан разглядел в малость просветлевших уже сумерках черный силуэт, медленно двигающийся по песку к сальнице.