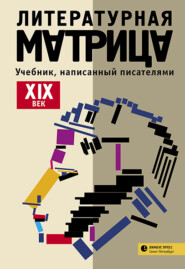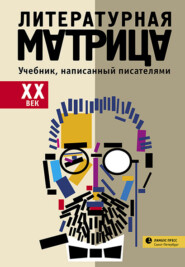По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Флаги осени
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Почему? – искренне удивилась Катенька.
– Дружок, пока что сделано полдела. Даже меньше.
Катенька, ожидавшая похвалы, надула губы.
– Но почему? Мы же выкладываемся, точно черти. Так себя изводим, что в глазах темнеет. Рвём жилы, как ты хотел.
– Самим прожить историю по-настоящему – этого мало. Надо, чтобы и все, кто это видит, кто, пусть невзначай, оказался рядом, прожили так же. Надо, чтобы именно то, что вы делаете, стало для них на это время жизнью, именно ваша история, а не ждущая дома размороженная курица, жмущие ботинки или хрустящая фольга от шоколадки. Зрителя необходимо вовлечь, он должен не сопереживать, а испытывать чистые чувства, как в лесу перед вставшим на дыбы медведем, испытывать чувства первичного, подлинного мира, главные из которых – любовь, восторг и ужас. А я смотрю на вас, и в голову мне лезет всякий вздор, вроде рецепта сливового компота на водке.
– Так это просто голова у тебя нечеловеческая, – облегчённо вздохнула Катенька. – Если бы у меня такая была, я бы её, ей-богу, усекла. С такой головой ни «ОМ» не полистаешь, ни фигурное катание не посмотришь. Жуть!
Тарарам Катеньку не слушал.
– Вы – плохие актёры. Но в этом и суть. Реальному театру нужно не профессиональное мастерство с его вживанием в характер, отточенными движениями и поставленной речью, а искренность и одержимость. Нужен азарт преображения и готовность идти в этом азарте до конца. Репетиции, где вы, как вам видится, выкладываетесь, точно черти, могут прочертить лишь карту этого пути и помочь набрать градус пьянящего неистовства, а сам путь вам предстоит пройти на сцене, на премьере, и пройти лишь единожды, как единожды люди рождаются и умирают.
Над посёлком висел настоянный на сосновой хвое зной. Вдали, словно несусветная птица, свистела электричка.
– Мы пройдём, – заверила успокоившаяся Катенька. – Мы уже завелись, как часики на бомбе. Но где она, эта сцена?
Тарарам снисходительно осклабился.
– Играть будем в музее Достоевского, в чёрном зале. Я обо всём договорился. У нас есть ещё две недели, чтобы освоиться на площадке, придумать декорации и поставить свет.
У Катеньки был разгрузочный день, поэтому завтракал Рома в одиночестве и скромно – стакан чая и бутерброд с кабачковой икрой. Чтобы не искушать. Да, собственно, примерно так он обычно и завтракал. Потом пошли гулять в сторону зубробизоньей фермы.
Над полем плыл сладостно прогретый и пахнущий травами воздух, в клевере гудели мохнатые шмели, ласточки влетали в дырявый берег затопленного карьера.
– Знаешь ли ты, – поинтересовалась Катенька, – что первый президент Америки Джордж Вашингтон владел рабами и выращивал на своих полях коноплю?
– Ну, что же… Мир был бы вполне путёвым, если бы каждый здесь занимался своим делом и позволял тем же самым заниматься другим. – Тарарам сорвал пушистый одуванчик и дунул так, что у того разом облысело темя. – Но, к сожалению, в мире слишком много мудозвонов. Так много, что это уже почти невыносимо.
– Кого много?
– Мудозвоны, дружок, это такие люди, отличительным признаком которых является доподлинное знание, как всё сделать правильно, и полная уверенность в своей непогрешимости. Поэтому мудозвон не может заниматься собственным делом – он специалист по влезанию в чужие дела. То, что творится в политике – только верхушка айсберга. Вся наша жизнь проедена мудозвонами, как старый гриб червями.
– Так не надо позволять мудозвонам лезть в свои дела, – решила задачу Катенька.
– Верно. Но это возможно лишь в том случае, если ты гол и не стяжаешь соблазнов мира со всеми его расписными погремушками. – Тарарам бросил обдутый одуванчик под ноги. – Хотя и тогда тебя будут обольщать стяжанием, повсюду предлагая купить, надеть, воспользоваться… И тут, если ты осознаёшь своё нестяжание всего лишь как отсутствие возможности в данную минуту купить, надеть, воспользоваться, ты всё равно пропал – рано или поздно мудозвоны тебя достанут. Ну а всем прочим не стоит даже помышлять о том, чтобы что-то мудозвонам не позволить, даже если их уже достали дальше некуда, даже если они хотят, очень хотят не позволять… Представь только, что бы вышло, если бы я в свои лета, будучи обременён семьёй, карьерой, ипотечным кредитом, полезной дружбой с добропорядочным начальством, вдруг встретил бы тебя и полюбил.
– Здорово вышло бы.
– Чистое самоубийство. Полное обнуление. Жизнь с чистого листа.
– Зато будет что вспомнить.
– Единственный плюс. Беда в том, что люди не в силах противостоять мудозвонам, поскольку они – простые обладатели вещей, порабощённые собственным обладанием. – Дорожка под ногами пылила тонкой пылью. Вдалеке уже показалась ограда зубробизоньего питомника. – Назойливые советы доброхотов, рекомендации, нетерпимость в отношении того, как ты делаешь своё дело и проживаешь свою жизнь – лишь самые очевидные из всех возможных вторжений в твою суверенность. Владея чем-то, ты делаешься зависимым от своего владения. И всякое прикосновение к твоему владению, будь то гвоздь на дороге, пропоровший шину твоей «маздочки», или повышение цены на цемент, который нужен тебе, чтобы доделать фундамент дачного домика – тоже, по существу, влезание в твои дела, от которого ты не в силах оградиться. А поскольку бо?льшая часть вещей, которыми владеют люди, совершенно им не нужна, но при этом они от них добровольно нипочем не откажутся, то наша уязвимость перед мудозвонами воистину ужасающа.
– Опять ты всё запутал, – огорчилась Катенька. – Я думала, вот разливаю я солянку, а мне кто-нибудь под руку говорит: «Лимону! Лимону больше клади!» Вот это и есть мудозвон – он влезает в мои дела. А ты: обладатели, порабощённые обладанием… Я этой казуистики не понимаю. И потом, при чём здесь «маздочка»? Твоего «самурая» что, гвоздь не берёт?
– Берёт, – признался Тарарам. – Но я вынужден смиряться, потому что для меня «самурай» как конь для батыра. – Рома на миг задумался. – Да, как конь для батыра и, одновременно, как его юрта. Он необходим мне, чтобы доехать туда, куда не ходят трамваи – с ним я доберусь в любую глушь моей огромной родины. А для тебя «маздочка» – мулька, статусная штучка, что-то вроде стильной сумочки или понтового зонтика. То есть вещь, имеющая больше отношения к демонстрации собственной элегантности, чем к необходимости. Ездила бы ты, такая красивая, в метро, тобой бы все любовались, бедные студенты бы с тобой знакомились. А так ты за рулём на светофоре красишь губы, из-за чего пропускаешь зелёный свет, и поворачиваешь на перекрёстке налево из правого ряда, забыв включить поворотник. В итоге все тебя ненавидят.
– Да ты сексист! Верно Настя сказала… Мужлан! Варвар! Что я слышу? Какой-то рык из пещеры!
– Я всего лишь говорю, что ты владеешь ненужной вещью, которая делает тебя уязвимой перед мудозвонами, но от которой ты ни за что не откажешься.
– Ещё чего! Скажешь тоже! Может, и от губной помады отказаться?
– Впрочем… – Тарарам задумался. – В метро ты тоже будешь полностью во власти мудозвонов.
Они подошли к ограде, за которой топтался косматый, бурый, широколобый, с проплешиной в клочковатой шерсти на крупе зубробизон не очень выразительного размера. Поодаль, метя луг бородами, паслись два его горбатых сородича, на вид чуть крупнее. Катенька достала из пакета половинку ржаного хлеба.
– Нестяжание – это не отказ от радостей мира и вещей вообще. Это стремление довольствоваться лишь необходимым и умение находить в таком стремлении сладость. – Казалось, Тарарам обращался не к Катеньке, а к облизывающему морду лиловым языком зверю. – Нестяжающий человек – свободный человек. В его дела куда сложнее влезть. Во всяком случае он гораздо лучше защищён, а следовательно, вполне способен не позволить мудозвону туда влезать. Но это лишь одна сторона свободы. Другая состоит в том, что нестяжающий человек волен принять вторжение, если оно определено условием общего долга. Только перед общим долгом нестяжатель имеет право смирить гордый дух.
– А что такое «общий долг»? – Катенька с боязливым восторгом кормила зубробизона хлебом – по существу, это уже был не зверь, это была скотина.
– Общий долг, – серьёзно сказал Тарарам, – это наш следующий проект.
Некоторое время Рома наблюдал, как поручневший отпрыск двух вольных предков загребает губищами с Катенькиной ладони куски хлеба, и вдруг резко, оглушительно, по-разбойничьи свистнул. Катенька с писком отдёрнула руку, зубробизон ошалело шарахнулся в сторону, крепко, до мощного содрогания целой связки секций, лягнув ограду, и лишь метрах в семи, преодолённых в два прыжка, настороженно замер, кося на людей диким глазом.
– Вот, – удовлетворённо сказал Тарарам. – По напряжению именно такое чувство должен будить реальный театр в зрителе, который пришёл на спектакль всего лишь вкусить безобидного зрелища. Именно такое – до дрожи пробирающий восторг или дикий ужас, от которого кровь в жилах начинает бежать винтом, как бензин в воронке, как пуля в нарезном стволе.
4
Тарарам действительно обо всём договорился. Он прожил в СПб целую жизнь, ну или по крайней мере такой срок, в который небольшая, но пёстрая жизнь вполне способна уложиться, – там было полно встреч и расставаний, приключений и страстей, это была жизнь подвижная, текучая, порой успешно, а порой тщетно стремящаяся ускользнуть от покрова иллюзорности, – немудрено, что со временем в руках у Ромы сам собой сложился пучок всевозможных (по большей части, впрочем, совершенно бесполезных) связей. Одна ниточка из этого пучка как раз и тянулась в музей Достоевского.
Две недели труппа с утра до позднего вечера, пока не начинал скандалить ни черта не секущий в высоком искусстве охранник Влас, живущий по часам, как кукушка в ходиках, репетировала свой спектакль в пустующем по случаю лета чёрном зале музея самого петербургского классика. Две недели на раскинувшем по соседству с музеем свои ряды Кузнечном рынке скисала в бидонах сладкая сметана, небывалыми тучами плодились мухи, покрывались плесенью и пролежнями фрукты, били хвостами копчёные угри. Две недели крутились в небесах над перекрёстком Кузнечного переулка и бывшей Ямской улицы яростные незримые вихри, присутствие которых выдавал лишь угодивший в их бешеную круговерть последний тополиный пух.
Возможно, благодаря чётко и верно поставленной задаче или тому, что Тарарам лично подключился к руководству процессом, актёры преобразились. В них словно пробудились и забили источники спавших доселе энергий. А может, они лишь безупречно настроились на то, чтобы, как рог, в который дует Нимврод, одетый в сшитые Богом для изгнанного Адама одежды, как жилистая, кожистая, мясная труба, стать послушным проводником иных, нечеловеческих сил, заставляющих зверей падать перед великим охотником ниц. Но так ли важно, в чём была причина их преображения?
Декорации своими силами изваяли самые простецкие – тканевые драпировки по стенам плюс раскладные ширмы, расписанные с двух сторон таким образом, что при их перестановке вид сцены менялся в соответствии с ходом действия. Свет тоже был примитивным – в скромном зальчике на сорок мест было не разгуляться как по условиям пространства, так и по обстоятельствам полного отсутствия бюджета. И тем не менее… И тем не менее реальный театр произвёл форменный фурор, доведя явившихся на представление зрителей до неистовства.
Известный театральный критик, бог весть как очутившаяся на этом внесезонном спектакле (впрочем, она поясняет как), спустя четыре дня следующим образом в своей театральной колонке описала случившееся:
Признаюсь честно, я до сих пор не понимаю, что произошло. Дешёвые афиши неведомого «Реального театра», размноженные на копировальном аппарате и расклеенные по городу на водосточных трубах, никогда бы не привлекли моего внимания, не поставь в своё время Дитятковский в галерее «Борей», по существу в совершенно не сценических условиях, приснопамятный «Мрамор». Вероятно, в надежде на повторение чуда я и оказалась 10 июля сего года в музее Достоевского, где вышеупомянутый театр свил себе гнездо.
Не сомневаюсь, этот день я запомню надолго. Уже в фойе, возле стойки ненужного по случаю ясной погоды гардероба, начались неожиданности. Два молодых человека неопрятной наружности устроили небольшое бесчинство. «Что за дрянь! Здесь не будет фуршета! – возмущались они. – Дикость! Мы пришли сюда пожрать – нам даром не нужно искусство! Вернисажи и премьеры тем только и хороши, что на них можно набить пузо и напиться на халяву! Колбаса важнее всех ваших грёбаных произведений! Делайте, на здоровье, своё искусство, чтобы у нас и впредь был повод подкрепиться! И не смейте шельмовать!» Пришедшие на спектакль зрители сперва робко расступались перед скандалистами и негромко возмущались по поводу возмущавшихся громко. Потом их начали стыдить, и в конце концов несколько мужчин, осмелившихся блеснуть мужеством перед своими дамами, посредством грубой силы вывели дебоширов за двери. После того, как инцидент рассосался, все прошли в зал. И только спустя четверть часа, увидев одного из давешних бузотёров на сцене, я поняла, что представление началось ещё в фойе.
Реальный театр давал пушкинские «Маленькие трагедии» – банальней некуда. Однако то, что происходило на сцене, не поддаётся не только описанию, но и осмыслению. Вернее, впоследствии, восстанавливая в памяти ход действия, я видела обноски вместо костюмов, простенькую сценографию, откровенно любительскую с точки зрения актёрского мастерства игру и строгое следование авторскому тексту. И всё. Ничего больше. Но там, в затемнённом зале с чёрными стенами, было полное ощущение погружения в мистерию, в плотное пространство истинной страсти и подавляющей воли. Не режиссёрской и вообще не человеческой – воли рока. А между тем ощущения подавляющей воли нет даже в самом пушкинском тексте. Есть страсть, есть глубина переживания, есть остроумие и дыхание тонких чувств, но воли рока, извините, нет. А там, в зале, была! И подлинность этого мощного ощущения я со всей ответственностью свидетельствую. Размахивая руками и декламируя всем наизусть знакомые строки, актёры словно бы изливали в зал какие-то незримые энергетические токи. Меня не покидало тревожное ощущение сгущённой, сверх меры заряженной среды, которая вот-вот исторгнет из себя испепеляющую молнию. Должно быть, экстаз коллективного моления дарует случайному зрителю похожие впечатления. Не знаю, производили ли актёры, подобно живым генераторам, эти токи в себе или, подобно шаманам и медиумам, просто пропускали сквозь себя потусторонние, кромешные импульсы и вибрации, однако результат был налицо – облако чистого вещества страсти, неуправляемой тревоги и немотивированного ликования заполняло зал. Все зрители, затаив дыхание, ощущали это – подобную полноту проживания сценического действия, в котором словно бы раскрылся космос со всей его ледяной неизбежностью, мне видеть ещё не доводилось, а уж чего, казалось бы, мы только в театре не насмотрелись. От неприкрытых дряблых телес народных артистов до гуляющих по сцене домашних животных.
Увы, остаётся лишь предполагать, что реальный театр готовил нам вслед за столь поразившим зал «Скупым рыцарем», поскольку спектакль был остановлен – актёр, игравший старого барона, умер прямо на глазах публики. Безо всякой фигуральности – умер, как того и требовал авторский текст. Он побледнел, схватился за ворот, прохрипел: «Душно!.. душно!.. Где ключи? Ключи, ключи мои!..», и рухнул, содрогаясь в конвульсиях. Одновременно зал в прямом смысле слова тряхнуло, словно весь дом подскочил на месте, и тут же звонко взорвалась лампочка в софите, просыпавшись в секундной тьме каким-то зелёным дождём. Сидевшая рядом со мной зрительница оплыла на стуле в натуральном обмороке. Я не склонна переоценивать актёрское искусство, но в тот миг подумала: «Гениально!» Герцог сказал: «Ужасный век, ужасные сердца!», и скрылся за ширмой. А барон всё лежал, уже неподвижно и чуть разомкнув побелевшие губы. Потом из-за ширмы выскочили актёры и стали тормошить барона – тщетно. Он был мёртв. В зале началось смятение.
Почему-то в тот миг у меня даже мысли не возникло о какой-то уловке, каком-то подвохе. Тем не менее я дождалась приезда неотложки. Врач зафиксировал смерть. Предварительная причина: обширный инфаркт миокарда. Актёру на вид было едва за двадцать.
Два дня я пребывала в трансе – и от самого спектакля, и от его в полном смысле трагического финала. На третий день мне пришла в голову мысль, что раз дебош в фойе был инсценировкой, то и врач неотложки тоже мог оказаться лицедеем. Однако, прислушавшись к своим ощущениям, я отвергла эту мысль как кощунственную. Нет, так притвориться мёртвым нельзя. Без сомнения, всё было подлинным – сценическая жизнь оказалась прожита насмерть. Эти отважные ребята, вооружившись, возможно, рискованными спиритическими практиками, просто вызвали в тот скромный зал бога театра. Вызвали, и он пришёл. Не их вина, что этот бог оказался кровожаден и потребовал жертву. Что же, дела с богами и духами (пусть это всего-навсего духи сцены) редко сводятся к невинным шуткам – голодный дух всегда стремится овладеть подвернувшимся телом, таково его заветное влечение, и будьте уверены, он непременно разрушит захваченное обиталище, прежде чем будет вынужден его покинуть. Никогда не следует упускать этого из вида.
В обстоятельствах того вечера мне показалось неуместным знакомиться с режиссёром постановки (в афише не было указано ни одной фамилии, так что и режиссёр, и актёрский состав «реального театра» анонимны). А жаль! Не побоюсь предположить, что на нашей театральной сцене обозначилось явление, которое способно по-настоящему, без суетливого новаторства в области формы и самозваного перекраивания классической драматургии, смутить умы и чувства, явление, достойное не только пристального внимания, но и дающее новую, высокую цену самому обесцененному слову «театр».
5
– Дружок, пока что сделано полдела. Даже меньше.
Катенька, ожидавшая похвалы, надула губы.
– Но почему? Мы же выкладываемся, точно черти. Так себя изводим, что в глазах темнеет. Рвём жилы, как ты хотел.
– Самим прожить историю по-настоящему – этого мало. Надо, чтобы и все, кто это видит, кто, пусть невзначай, оказался рядом, прожили так же. Надо, чтобы именно то, что вы делаете, стало для них на это время жизнью, именно ваша история, а не ждущая дома размороженная курица, жмущие ботинки или хрустящая фольга от шоколадки. Зрителя необходимо вовлечь, он должен не сопереживать, а испытывать чистые чувства, как в лесу перед вставшим на дыбы медведем, испытывать чувства первичного, подлинного мира, главные из которых – любовь, восторг и ужас. А я смотрю на вас, и в голову мне лезет всякий вздор, вроде рецепта сливового компота на водке.
– Так это просто голова у тебя нечеловеческая, – облегчённо вздохнула Катенька. – Если бы у меня такая была, я бы её, ей-богу, усекла. С такой головой ни «ОМ» не полистаешь, ни фигурное катание не посмотришь. Жуть!
Тарарам Катеньку не слушал.
– Вы – плохие актёры. Но в этом и суть. Реальному театру нужно не профессиональное мастерство с его вживанием в характер, отточенными движениями и поставленной речью, а искренность и одержимость. Нужен азарт преображения и готовность идти в этом азарте до конца. Репетиции, где вы, как вам видится, выкладываетесь, точно черти, могут прочертить лишь карту этого пути и помочь набрать градус пьянящего неистовства, а сам путь вам предстоит пройти на сцене, на премьере, и пройти лишь единожды, как единожды люди рождаются и умирают.
Над посёлком висел настоянный на сосновой хвое зной. Вдали, словно несусветная птица, свистела электричка.
– Мы пройдём, – заверила успокоившаяся Катенька. – Мы уже завелись, как часики на бомбе. Но где она, эта сцена?
Тарарам снисходительно осклабился.
– Играть будем в музее Достоевского, в чёрном зале. Я обо всём договорился. У нас есть ещё две недели, чтобы освоиться на площадке, придумать декорации и поставить свет.
У Катеньки был разгрузочный день, поэтому завтракал Рома в одиночестве и скромно – стакан чая и бутерброд с кабачковой икрой. Чтобы не искушать. Да, собственно, примерно так он обычно и завтракал. Потом пошли гулять в сторону зубробизоньей фермы.
Над полем плыл сладостно прогретый и пахнущий травами воздух, в клевере гудели мохнатые шмели, ласточки влетали в дырявый берег затопленного карьера.
– Знаешь ли ты, – поинтересовалась Катенька, – что первый президент Америки Джордж Вашингтон владел рабами и выращивал на своих полях коноплю?
– Ну, что же… Мир был бы вполне путёвым, если бы каждый здесь занимался своим делом и позволял тем же самым заниматься другим. – Тарарам сорвал пушистый одуванчик и дунул так, что у того разом облысело темя. – Но, к сожалению, в мире слишком много мудозвонов. Так много, что это уже почти невыносимо.
– Кого много?
– Мудозвоны, дружок, это такие люди, отличительным признаком которых является доподлинное знание, как всё сделать правильно, и полная уверенность в своей непогрешимости. Поэтому мудозвон не может заниматься собственным делом – он специалист по влезанию в чужие дела. То, что творится в политике – только верхушка айсберга. Вся наша жизнь проедена мудозвонами, как старый гриб червями.
– Так не надо позволять мудозвонам лезть в свои дела, – решила задачу Катенька.
– Верно. Но это возможно лишь в том случае, если ты гол и не стяжаешь соблазнов мира со всеми его расписными погремушками. – Тарарам бросил обдутый одуванчик под ноги. – Хотя и тогда тебя будут обольщать стяжанием, повсюду предлагая купить, надеть, воспользоваться… И тут, если ты осознаёшь своё нестяжание всего лишь как отсутствие возможности в данную минуту купить, надеть, воспользоваться, ты всё равно пропал – рано или поздно мудозвоны тебя достанут. Ну а всем прочим не стоит даже помышлять о том, чтобы что-то мудозвонам не позволить, даже если их уже достали дальше некуда, даже если они хотят, очень хотят не позволять… Представь только, что бы вышло, если бы я в свои лета, будучи обременён семьёй, карьерой, ипотечным кредитом, полезной дружбой с добропорядочным начальством, вдруг встретил бы тебя и полюбил.
– Здорово вышло бы.
– Чистое самоубийство. Полное обнуление. Жизнь с чистого листа.
– Зато будет что вспомнить.
– Единственный плюс. Беда в том, что люди не в силах противостоять мудозвонам, поскольку они – простые обладатели вещей, порабощённые собственным обладанием. – Дорожка под ногами пылила тонкой пылью. Вдалеке уже показалась ограда зубробизоньего питомника. – Назойливые советы доброхотов, рекомендации, нетерпимость в отношении того, как ты делаешь своё дело и проживаешь свою жизнь – лишь самые очевидные из всех возможных вторжений в твою суверенность. Владея чем-то, ты делаешься зависимым от своего владения. И всякое прикосновение к твоему владению, будь то гвоздь на дороге, пропоровший шину твоей «маздочки», или повышение цены на цемент, который нужен тебе, чтобы доделать фундамент дачного домика – тоже, по существу, влезание в твои дела, от которого ты не в силах оградиться. А поскольку бо?льшая часть вещей, которыми владеют люди, совершенно им не нужна, но при этом они от них добровольно нипочем не откажутся, то наша уязвимость перед мудозвонами воистину ужасающа.
– Опять ты всё запутал, – огорчилась Катенька. – Я думала, вот разливаю я солянку, а мне кто-нибудь под руку говорит: «Лимону! Лимону больше клади!» Вот это и есть мудозвон – он влезает в мои дела. А ты: обладатели, порабощённые обладанием… Я этой казуистики не понимаю. И потом, при чём здесь «маздочка»? Твоего «самурая» что, гвоздь не берёт?
– Берёт, – признался Тарарам. – Но я вынужден смиряться, потому что для меня «самурай» как конь для батыра. – Рома на миг задумался. – Да, как конь для батыра и, одновременно, как его юрта. Он необходим мне, чтобы доехать туда, куда не ходят трамваи – с ним я доберусь в любую глушь моей огромной родины. А для тебя «маздочка» – мулька, статусная штучка, что-то вроде стильной сумочки или понтового зонтика. То есть вещь, имеющая больше отношения к демонстрации собственной элегантности, чем к необходимости. Ездила бы ты, такая красивая, в метро, тобой бы все любовались, бедные студенты бы с тобой знакомились. А так ты за рулём на светофоре красишь губы, из-за чего пропускаешь зелёный свет, и поворачиваешь на перекрёстке налево из правого ряда, забыв включить поворотник. В итоге все тебя ненавидят.
– Да ты сексист! Верно Настя сказала… Мужлан! Варвар! Что я слышу? Какой-то рык из пещеры!
– Я всего лишь говорю, что ты владеешь ненужной вещью, которая делает тебя уязвимой перед мудозвонами, но от которой ты ни за что не откажешься.
– Ещё чего! Скажешь тоже! Может, и от губной помады отказаться?
– Впрочем… – Тарарам задумался. – В метро ты тоже будешь полностью во власти мудозвонов.
Они подошли к ограде, за которой топтался косматый, бурый, широколобый, с проплешиной в клочковатой шерсти на крупе зубробизон не очень выразительного размера. Поодаль, метя луг бородами, паслись два его горбатых сородича, на вид чуть крупнее. Катенька достала из пакета половинку ржаного хлеба.
– Нестяжание – это не отказ от радостей мира и вещей вообще. Это стремление довольствоваться лишь необходимым и умение находить в таком стремлении сладость. – Казалось, Тарарам обращался не к Катеньке, а к облизывающему морду лиловым языком зверю. – Нестяжающий человек – свободный человек. В его дела куда сложнее влезть. Во всяком случае он гораздо лучше защищён, а следовательно, вполне способен не позволить мудозвону туда влезать. Но это лишь одна сторона свободы. Другая состоит в том, что нестяжающий человек волен принять вторжение, если оно определено условием общего долга. Только перед общим долгом нестяжатель имеет право смирить гордый дух.
– А что такое «общий долг»? – Катенька с боязливым восторгом кормила зубробизона хлебом – по существу, это уже был не зверь, это была скотина.
– Общий долг, – серьёзно сказал Тарарам, – это наш следующий проект.
Некоторое время Рома наблюдал, как поручневший отпрыск двух вольных предков загребает губищами с Катенькиной ладони куски хлеба, и вдруг резко, оглушительно, по-разбойничьи свистнул. Катенька с писком отдёрнула руку, зубробизон ошалело шарахнулся в сторону, крепко, до мощного содрогания целой связки секций, лягнув ограду, и лишь метрах в семи, преодолённых в два прыжка, настороженно замер, кося на людей диким глазом.
– Вот, – удовлетворённо сказал Тарарам. – По напряжению именно такое чувство должен будить реальный театр в зрителе, который пришёл на спектакль всего лишь вкусить безобидного зрелища. Именно такое – до дрожи пробирающий восторг или дикий ужас, от которого кровь в жилах начинает бежать винтом, как бензин в воронке, как пуля в нарезном стволе.
4
Тарарам действительно обо всём договорился. Он прожил в СПб целую жизнь, ну или по крайней мере такой срок, в который небольшая, но пёстрая жизнь вполне способна уложиться, – там было полно встреч и расставаний, приключений и страстей, это была жизнь подвижная, текучая, порой успешно, а порой тщетно стремящаяся ускользнуть от покрова иллюзорности, – немудрено, что со временем в руках у Ромы сам собой сложился пучок всевозможных (по большей части, впрочем, совершенно бесполезных) связей. Одна ниточка из этого пучка как раз и тянулась в музей Достоевского.
Две недели труппа с утра до позднего вечера, пока не начинал скандалить ни черта не секущий в высоком искусстве охранник Влас, живущий по часам, как кукушка в ходиках, репетировала свой спектакль в пустующем по случаю лета чёрном зале музея самого петербургского классика. Две недели на раскинувшем по соседству с музеем свои ряды Кузнечном рынке скисала в бидонах сладкая сметана, небывалыми тучами плодились мухи, покрывались плесенью и пролежнями фрукты, били хвостами копчёные угри. Две недели крутились в небесах над перекрёстком Кузнечного переулка и бывшей Ямской улицы яростные незримые вихри, присутствие которых выдавал лишь угодивший в их бешеную круговерть последний тополиный пух.
Возможно, благодаря чётко и верно поставленной задаче или тому, что Тарарам лично подключился к руководству процессом, актёры преобразились. В них словно пробудились и забили источники спавших доселе энергий. А может, они лишь безупречно настроились на то, чтобы, как рог, в который дует Нимврод, одетый в сшитые Богом для изгнанного Адама одежды, как жилистая, кожистая, мясная труба, стать послушным проводником иных, нечеловеческих сил, заставляющих зверей падать перед великим охотником ниц. Но так ли важно, в чём была причина их преображения?
Декорации своими силами изваяли самые простецкие – тканевые драпировки по стенам плюс раскладные ширмы, расписанные с двух сторон таким образом, что при их перестановке вид сцены менялся в соответствии с ходом действия. Свет тоже был примитивным – в скромном зальчике на сорок мест было не разгуляться как по условиям пространства, так и по обстоятельствам полного отсутствия бюджета. И тем не менее… И тем не менее реальный театр произвёл форменный фурор, доведя явившихся на представление зрителей до неистовства.
Известный театральный критик, бог весть как очутившаяся на этом внесезонном спектакле (впрочем, она поясняет как), спустя четыре дня следующим образом в своей театральной колонке описала случившееся:
Признаюсь честно, я до сих пор не понимаю, что произошло. Дешёвые афиши неведомого «Реального театра», размноженные на копировальном аппарате и расклеенные по городу на водосточных трубах, никогда бы не привлекли моего внимания, не поставь в своё время Дитятковский в галерее «Борей», по существу в совершенно не сценических условиях, приснопамятный «Мрамор». Вероятно, в надежде на повторение чуда я и оказалась 10 июля сего года в музее Достоевского, где вышеупомянутый театр свил себе гнездо.
Не сомневаюсь, этот день я запомню надолго. Уже в фойе, возле стойки ненужного по случаю ясной погоды гардероба, начались неожиданности. Два молодых человека неопрятной наружности устроили небольшое бесчинство. «Что за дрянь! Здесь не будет фуршета! – возмущались они. – Дикость! Мы пришли сюда пожрать – нам даром не нужно искусство! Вернисажи и премьеры тем только и хороши, что на них можно набить пузо и напиться на халяву! Колбаса важнее всех ваших грёбаных произведений! Делайте, на здоровье, своё искусство, чтобы у нас и впредь был повод подкрепиться! И не смейте шельмовать!» Пришедшие на спектакль зрители сперва робко расступались перед скандалистами и негромко возмущались по поводу возмущавшихся громко. Потом их начали стыдить, и в конце концов несколько мужчин, осмелившихся блеснуть мужеством перед своими дамами, посредством грубой силы вывели дебоширов за двери. После того, как инцидент рассосался, все прошли в зал. И только спустя четверть часа, увидев одного из давешних бузотёров на сцене, я поняла, что представление началось ещё в фойе.
Реальный театр давал пушкинские «Маленькие трагедии» – банальней некуда. Однако то, что происходило на сцене, не поддаётся не только описанию, но и осмыслению. Вернее, впоследствии, восстанавливая в памяти ход действия, я видела обноски вместо костюмов, простенькую сценографию, откровенно любительскую с точки зрения актёрского мастерства игру и строгое следование авторскому тексту. И всё. Ничего больше. Но там, в затемнённом зале с чёрными стенами, было полное ощущение погружения в мистерию, в плотное пространство истинной страсти и подавляющей воли. Не режиссёрской и вообще не человеческой – воли рока. А между тем ощущения подавляющей воли нет даже в самом пушкинском тексте. Есть страсть, есть глубина переживания, есть остроумие и дыхание тонких чувств, но воли рока, извините, нет. А там, в зале, была! И подлинность этого мощного ощущения я со всей ответственностью свидетельствую. Размахивая руками и декламируя всем наизусть знакомые строки, актёры словно бы изливали в зал какие-то незримые энергетические токи. Меня не покидало тревожное ощущение сгущённой, сверх меры заряженной среды, которая вот-вот исторгнет из себя испепеляющую молнию. Должно быть, экстаз коллективного моления дарует случайному зрителю похожие впечатления. Не знаю, производили ли актёры, подобно живым генераторам, эти токи в себе или, подобно шаманам и медиумам, просто пропускали сквозь себя потусторонние, кромешные импульсы и вибрации, однако результат был налицо – облако чистого вещества страсти, неуправляемой тревоги и немотивированного ликования заполняло зал. Все зрители, затаив дыхание, ощущали это – подобную полноту проживания сценического действия, в котором словно бы раскрылся космос со всей его ледяной неизбежностью, мне видеть ещё не доводилось, а уж чего, казалось бы, мы только в театре не насмотрелись. От неприкрытых дряблых телес народных артистов до гуляющих по сцене домашних животных.
Увы, остаётся лишь предполагать, что реальный театр готовил нам вслед за столь поразившим зал «Скупым рыцарем», поскольку спектакль был остановлен – актёр, игравший старого барона, умер прямо на глазах публики. Безо всякой фигуральности – умер, как того и требовал авторский текст. Он побледнел, схватился за ворот, прохрипел: «Душно!.. душно!.. Где ключи? Ключи, ключи мои!..», и рухнул, содрогаясь в конвульсиях. Одновременно зал в прямом смысле слова тряхнуло, словно весь дом подскочил на месте, и тут же звонко взорвалась лампочка в софите, просыпавшись в секундной тьме каким-то зелёным дождём. Сидевшая рядом со мной зрительница оплыла на стуле в натуральном обмороке. Я не склонна переоценивать актёрское искусство, но в тот миг подумала: «Гениально!» Герцог сказал: «Ужасный век, ужасные сердца!», и скрылся за ширмой. А барон всё лежал, уже неподвижно и чуть разомкнув побелевшие губы. Потом из-за ширмы выскочили актёры и стали тормошить барона – тщетно. Он был мёртв. В зале началось смятение.
Почему-то в тот миг у меня даже мысли не возникло о какой-то уловке, каком-то подвохе. Тем не менее я дождалась приезда неотложки. Врач зафиксировал смерть. Предварительная причина: обширный инфаркт миокарда. Актёру на вид было едва за двадцать.
Два дня я пребывала в трансе – и от самого спектакля, и от его в полном смысле трагического финала. На третий день мне пришла в голову мысль, что раз дебош в фойе был инсценировкой, то и врач неотложки тоже мог оказаться лицедеем. Однако, прислушавшись к своим ощущениям, я отвергла эту мысль как кощунственную. Нет, так притвориться мёртвым нельзя. Без сомнения, всё было подлинным – сценическая жизнь оказалась прожита насмерть. Эти отважные ребята, вооружившись, возможно, рискованными спиритическими практиками, просто вызвали в тот скромный зал бога театра. Вызвали, и он пришёл. Не их вина, что этот бог оказался кровожаден и потребовал жертву. Что же, дела с богами и духами (пусть это всего-навсего духи сцены) редко сводятся к невинным шуткам – голодный дух всегда стремится овладеть подвернувшимся телом, таково его заветное влечение, и будьте уверены, он непременно разрушит захваченное обиталище, прежде чем будет вынужден его покинуть. Никогда не следует упускать этого из вида.
В обстоятельствах того вечера мне показалось неуместным знакомиться с режиссёром постановки (в афише не было указано ни одной фамилии, так что и режиссёр, и актёрский состав «реального театра» анонимны). А жаль! Не побоюсь предположить, что на нашей театральной сцене обозначилось явление, которое способно по-настоящему, без суетливого новаторства в области формы и самозваного перекраивания классической драматургии, смутить умы и чувства, явление, достойное не только пристального внимания, но и дающее новую, высокую цену самому обесцененному слову «театр».
5