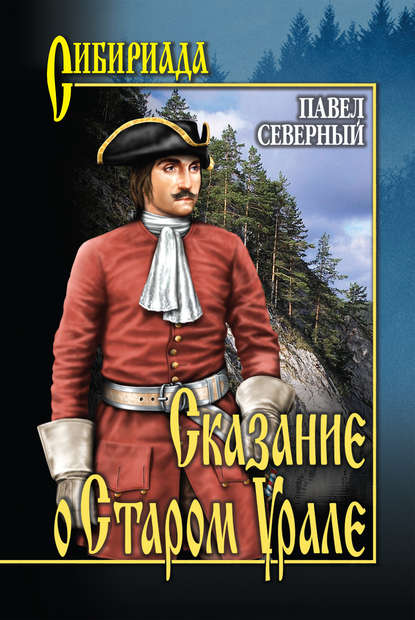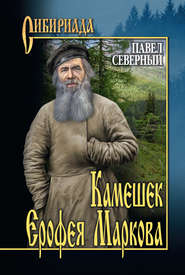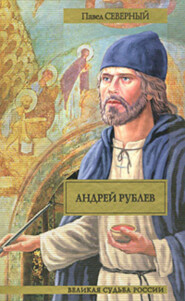По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сказание о Старом Урале
Серия
Год написания книги
1969
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не посмеешь!
– Аль воевода на то запрет наложит?
– Отец не дозволит. Не посмеешь чужую взять, пока живой.
– Возьму, батюшка.
– Не допущу, Семен, тебя с боярыней на свою землю. Сам царь, сказывают, к воеводе Орешникову милостив. Пошто царский гнев на наш род навлекать?
– Царский гнев? Почему же тогда сам ты, батюшка, беглых бояр с Руси на своей земле прячешь и царского гнева не опасаешься? Почему богатства беглых себе забираешь, вместо дани за укрытие?
– Беглых не я, Григорий грабит.
– Но ведь и он тоже Строганов, стало быть, и он царский гнев на наш род навлекает?
– Сколь раз велел ему не допускать беглых бояр на наши земли. Он и ухом не ведет.
– Сам ты, батюшка, грабленое себе брал, Григория делиться заставлял. В каждом углу избы этого добра полно. Сам, поди, давно запутался, что честно нажито, а что тобой с Григорием у беглых силой отнято.
– Семен!
– Кричать и я горазд, батюшка. На голос тоже неслабый уродился.
– Отрекусь от тебя!
– Отрекайся. Дело это, батюшка, тебе не в диковинку, а в привычку. От жены своей, матери нашей, отрекся, потом сам же и каялся.
Иоаникий Строганов закрыл лицо руками, склонил голову, долго молчал. Потом заговорил тихо и скорбно:
– Вот о чем помянул! Сорвал с души старую болячку. Каюсь: ради богатства здешнего матушку твою в вычегодском доме кинул. До гробовой доски буду о сем печалиться. Ежели была б она здесь, не посметь сыновьям моим из-под моей воли в стороны разбегаться, старость мою распознавши. Яшка с Гришкой не первый год смутьянствуют. Не будь тебя, они давно бы меня ограбили. Теперь и ты смутьяном оборачиваешься. Троим легко старика скрутить. На свой лад, Семен, жить начинаешь?
– Всегда на свой лад жил, но из-под воли твоей не уходил. Зачем, батюшка, тревогой пустяшной себя ране времени со свету сживаешь?
– К чему клонишь? О чем про меня дознался?
– Ни о чем не дознавался. Гляжу на тебя и вижу, что тревога всего изглодала.
– Верно, Сеня, гложет она меня. Смерти боюсь. Стука сердца своего боле не слышу. Скажи отцу правду: хочешь моей смерти? Думаешь, поди, иной раз, чтобы я поскорей помер?
– Думаю, батюшка.
Иоаникий от такого признания испуганно перекрестился.
– Пошто же думаешь об этом?
– Потому, батюшка, что ты среди живых как неживой бродишь да тени своей пугаешься.
– Отцу смерти желаешь? Анике Камскому конца ждешь?
– Нешто теперь, батюшка, ты Аникой Камским остался? Кому от него слышать доводилось, будто он когда смерти пугался? Разве раньше ты боялся ее? Как меня жить обучал? Велел ходить, бегать, драться, пока не упаду замертво. Велел смелостью бесшабашной с себя мерку снимать. А теперь кем стал? Перед монахом, который страшным судом припугнет, готов на карачках ползти? Перед сыновьями трясешься, когда требуют богатство разделить? Не сам ли научил их быть жадными? Пред иконами на коленях ползаешь, над золотом дрожишь, будто на морозе стынешь? Срам, батюшка, эдаким Аникой Строгановым по берегам Камы бродить. Смерти боишься? Старости дозволяешь спину в дугу сгибать? В сыновьях врагов раскапываешь? Доколе, батюшка, станешь кликушей рядиться? Один раз пореши: либо Аникой Камским живи, либо в монастырь под клобук спасайся да о грехах своих плачь, ежели они тебе плечи натирают.
Иоаникий привстал, выпрямился и смотрел на сына так, будто только что пробудился ото сна.
– Вот так вокруг себя и гляди. Прямее стой, батюшка, не бойся старческую дугу в спине разогнуть, небось не переломится. Кулаком по столу стукни, расшиби страх перед смертью. Коли вздумает она в неурочный час объявиться, об пол ее. Потому с таким батей, каким ты теперь по своей избе бродишь, зазорно мне на большое дело идти.
– Что задумал-то, Семен?
– Слово дай, что перечить не станешь!
– Говори.
– Обещай, что рядом со мной пойдешь, ничего не жалея?
– Говори, Семен, а то силой из тебя сказ вытрясу.
– Вот так, батюшка, разомни об меня свои силы, тогда и сердце твое застукает, как молот по наковальне.
Иоаникий схватил сына за плечи.
– Сказывай, Семен, взаправду не осерди старика.
– Скажу, а то, пожалуй, кафтан мне не сберечь!
От внезапного приступа кашля Иоаникий упал на подушку своего кресла. Лицо его побагровело. Когда кашель стих, он пошел к печке, зачерпнул ковшиком воду из кадушки, выпил жадными глотками.
– По весне, батюшка, порешил следы Строгановых по берегам Чусовой положить. Решил по Чусовой зачинать дорогу на покорение Сибирского царства. В Сибирь Строгановы обязаны первыми хозяевами прийти.
– Одумайся, Семен! О чем молвишь? Как царь на это поглядит?
– Царя до поры спрашивать не стану. Скажу ему, когда встанем на Чусовой до самой ее вершины во весь наш рост.
– А кто из вас после наберется смелости сказать о захвате Чусовой? Небось на себя, Семен, станешь грамоту просить?
– Нет, пусть на Чусовую Яшка грамоту в руках зажмет. Себе возьму грамоту на все Сибирское царство.
– Погоди, Семен. От твоих слов разум у меня мутится. Чусовую в Русь хочешь обряжать? Золота у тебя для этого хватит?
– Неужели Аника Строганов обнищал?
– Свое богатство, пока жив, никому не отдам. Слышишь?
– Его у тебя никто не отнимет.
– Яснее говори. Чай, Гришка к горлу пристает, раздела требует на три части?
– Не будет этого! Богатство, тобою нажитое, должно быть единым при жизни твоей и после конца ее. Нельзя это богатство дробить, частями раздавать. Возле Гришки – Катерина с муромским купечеством. Оно свои виды имеет. Возле Яшки – Москва базарная, она любое богатство проглотит и памяти не оставит. Я твое золото не возьму. На Чусовой Русь поставлю без золота, людям золото только покажем, подманим им легковерный народ с Руси. Подходит время, батюшка, когда Русь сама к Строгановым на службу набиваться станет. Русь от лютости опричников не знает, где голову преклонить. Царь Иван тоже не вечен. На его место новый царь сядет, а Русь тем временем под парусами Строгановых в Сибирское царство и поплывет. Ежели сумеем, славу рода нашего поддержим. Благослови сына Семена на большое дело.
– Неужели и вправду на богатство мое не посягнешь? Крестись на икону!
– Аль воевода на то запрет наложит?
– Отец не дозволит. Не посмеешь чужую взять, пока живой.
– Возьму, батюшка.
– Не допущу, Семен, тебя с боярыней на свою землю. Сам царь, сказывают, к воеводе Орешникову милостив. Пошто царский гнев на наш род навлекать?
– Царский гнев? Почему же тогда сам ты, батюшка, беглых бояр с Руси на своей земле прячешь и царского гнева не опасаешься? Почему богатства беглых себе забираешь, вместо дани за укрытие?
– Беглых не я, Григорий грабит.
– Но ведь и он тоже Строганов, стало быть, и он царский гнев на наш род навлекает?
– Сколь раз велел ему не допускать беглых бояр на наши земли. Он и ухом не ведет.
– Сам ты, батюшка, грабленое себе брал, Григория делиться заставлял. В каждом углу избы этого добра полно. Сам, поди, давно запутался, что честно нажито, а что тобой с Григорием у беглых силой отнято.
– Семен!
– Кричать и я горазд, батюшка. На голос тоже неслабый уродился.
– Отрекусь от тебя!
– Отрекайся. Дело это, батюшка, тебе не в диковинку, а в привычку. От жены своей, матери нашей, отрекся, потом сам же и каялся.
Иоаникий Строганов закрыл лицо руками, склонил голову, долго молчал. Потом заговорил тихо и скорбно:
– Вот о чем помянул! Сорвал с души старую болячку. Каюсь: ради богатства здешнего матушку твою в вычегодском доме кинул. До гробовой доски буду о сем печалиться. Ежели была б она здесь, не посметь сыновьям моим из-под моей воли в стороны разбегаться, старость мою распознавши. Яшка с Гришкой не первый год смутьянствуют. Не будь тебя, они давно бы меня ограбили. Теперь и ты смутьяном оборачиваешься. Троим легко старика скрутить. На свой лад, Семен, жить начинаешь?
– Всегда на свой лад жил, но из-под воли твоей не уходил. Зачем, батюшка, тревогой пустяшной себя ране времени со свету сживаешь?
– К чему клонишь? О чем про меня дознался?
– Ни о чем не дознавался. Гляжу на тебя и вижу, что тревога всего изглодала.
– Верно, Сеня, гложет она меня. Смерти боюсь. Стука сердца своего боле не слышу. Скажи отцу правду: хочешь моей смерти? Думаешь, поди, иной раз, чтобы я поскорей помер?
– Думаю, батюшка.
Иоаникий от такого признания испуганно перекрестился.
– Пошто же думаешь об этом?
– Потому, батюшка, что ты среди живых как неживой бродишь да тени своей пугаешься.
– Отцу смерти желаешь? Анике Камскому конца ждешь?
– Нешто теперь, батюшка, ты Аникой Камским остался? Кому от него слышать доводилось, будто он когда смерти пугался? Разве раньше ты боялся ее? Как меня жить обучал? Велел ходить, бегать, драться, пока не упаду замертво. Велел смелостью бесшабашной с себя мерку снимать. А теперь кем стал? Перед монахом, который страшным судом припугнет, готов на карачках ползти? Перед сыновьями трясешься, когда требуют богатство разделить? Не сам ли научил их быть жадными? Пред иконами на коленях ползаешь, над золотом дрожишь, будто на морозе стынешь? Срам, батюшка, эдаким Аникой Строгановым по берегам Камы бродить. Смерти боишься? Старости дозволяешь спину в дугу сгибать? В сыновьях врагов раскапываешь? Доколе, батюшка, станешь кликушей рядиться? Один раз пореши: либо Аникой Камским живи, либо в монастырь под клобук спасайся да о грехах своих плачь, ежели они тебе плечи натирают.
Иоаникий привстал, выпрямился и смотрел на сына так, будто только что пробудился ото сна.
– Вот так вокруг себя и гляди. Прямее стой, батюшка, не бойся старческую дугу в спине разогнуть, небось не переломится. Кулаком по столу стукни, расшиби страх перед смертью. Коли вздумает она в неурочный час объявиться, об пол ее. Потому с таким батей, каким ты теперь по своей избе бродишь, зазорно мне на большое дело идти.
– Что задумал-то, Семен?
– Слово дай, что перечить не станешь!
– Говори.
– Обещай, что рядом со мной пойдешь, ничего не жалея?
– Говори, Семен, а то силой из тебя сказ вытрясу.
– Вот так, батюшка, разомни об меня свои силы, тогда и сердце твое застукает, как молот по наковальне.
Иоаникий схватил сына за плечи.
– Сказывай, Семен, взаправду не осерди старика.
– Скажу, а то, пожалуй, кафтан мне не сберечь!
От внезапного приступа кашля Иоаникий упал на подушку своего кресла. Лицо его побагровело. Когда кашель стих, он пошел к печке, зачерпнул ковшиком воду из кадушки, выпил жадными глотками.
– По весне, батюшка, порешил следы Строгановых по берегам Чусовой положить. Решил по Чусовой зачинать дорогу на покорение Сибирского царства. В Сибирь Строгановы обязаны первыми хозяевами прийти.
– Одумайся, Семен! О чем молвишь? Как царь на это поглядит?
– Царя до поры спрашивать не стану. Скажу ему, когда встанем на Чусовой до самой ее вершины во весь наш рост.
– А кто из вас после наберется смелости сказать о захвате Чусовой? Небось на себя, Семен, станешь грамоту просить?
– Нет, пусть на Чусовую Яшка грамоту в руках зажмет. Себе возьму грамоту на все Сибирское царство.
– Погоди, Семен. От твоих слов разум у меня мутится. Чусовую в Русь хочешь обряжать? Золота у тебя для этого хватит?
– Неужели Аника Строганов обнищал?
– Свое богатство, пока жив, никому не отдам. Слышишь?
– Его у тебя никто не отнимет.
– Яснее говори. Чай, Гришка к горлу пристает, раздела требует на три части?
– Не будет этого! Богатство, тобою нажитое, должно быть единым при жизни твоей и после конца ее. Нельзя это богатство дробить, частями раздавать. Возле Гришки – Катерина с муромским купечеством. Оно свои виды имеет. Возле Яшки – Москва базарная, она любое богатство проглотит и памяти не оставит. Я твое золото не возьму. На Чусовой Русь поставлю без золота, людям золото только покажем, подманим им легковерный народ с Руси. Подходит время, батюшка, когда Русь сама к Строгановым на службу набиваться станет. Русь от лютости опричников не знает, где голову преклонить. Царь Иван тоже не вечен. На его место новый царь сядет, а Русь тем временем под парусами Строгановых в Сибирское царство и поплывет. Ежели сумеем, славу рода нашего поддержим. Благослови сына Семена на большое дело.
– Неужели и вправду на богатство мое не посягнешь? Крестись на икону!