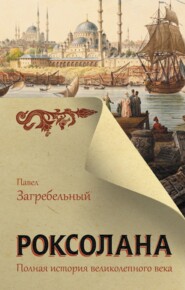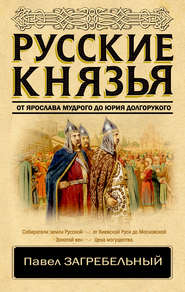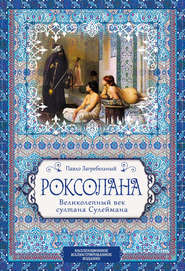По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Роксолана. Страсти в гареме
Серия
Год написания книги
1980
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Почему же я ничего не знаю?
– Ваше величество, вы не спрашивали, я не говорил.
– И вы видели этих… казаков?
– Видеть не видели, а слышать слышали. Нас тоже принимали за казаков: какие же османцы отважились бы так углубиться в чужую землю?
– Разве вас было мало?
– Два десятка – вот и все!
– Боже милостивый! Баязид, и ты не боялся?
Шах-заде хмыкнул. Еще бы ему бояться, когда он султанский сын!
– Что же я могу сделать для своей земли, Гасан? – заволновалась Роксолана, растерявшись от недобрых вестей, которые так неожиданно обрушились на нее. – Чем тут можно помочь?
– А что можно сделать? Оставить в покое – это было бы лучше всего. Но кто же на этом свете даст покой земле или человеку? Ваше величество спрашивают царевича, слыхал ли он песни на Украине. Может, мало мы там были, может, слишком быстро скакали, что не услышали песен. Но услышать их можно и здесь, даже мы, янычары, слагали каждый свою песню, хотя это песни такие, что их негоже и повторять. А невольники? Вы слыхали их песни, ваше величество?
Она хотела сказать: «Я сама невольница и сама тужу и пою, пою и тужу». Но промолчала, лишь поддержала Гасана самим взглядом. «Ну-ка, что это за песни, хочу их слышать и знать, если сын мой услышит, может, пригодятся ему в будущем». Взглянула искоса на Баязида – тот скучающе изучал украшенную драгоценными самоцветами рукоять кинжала, подаренного султаном. Гасан отпил немного из чаши, кашлянул, прочищая горло, грустной скороговоркой начал пересказывать страшную песню невольников:
– «Не ясный сокол тужит-рыдает, как сын отцу и матери из тяжкой неволи в города христианские поклон посылает, сокола ясного родным братом называет: «Сокол ясный, брат мой родной! Ты высоко летаешь, почему же у моих отца-матери никогда в гостях не бываешь? Полети же, сокол ясный, родной брат мой, в города христианские, сядь-упади у моего отца и матери перед воротами, жалобно пропой, моему отцу и матери большую печаль причини. Пусть отец мой добро наживает, землю, большие имения сбывает, сокровища собирает, пусть сыновей своих из тяжкой неволи турецкой выкупает!» Услышав это, брат-товарищ к брату-товарищу обращается: «Товарищ, брат мой родной! Не нужно нам в города христианские поклоны посылать, своему отцу и матери большое горе причинять: хотя наши отец и мать будут добро наживать, землю, большие имения сбывать, сокровища собирать, но не будут знать, где, в какой тяжкой неволе, сыновей своих искать; сюда никто не заходит, и люд крещеный не приезжает, только соколы ясные летают, на темницы садятся, жалобно покрикивают, нас всех, бедных невольников, в тяжкой неволе турецкой добрым здоровьем навещают».
Роксолана снова взглянула на сына. Понял ли он хотя бы одно слово? Сын продолжал играть драгоценным оружием, а ей показалось – играет ее сердцем. Обессиленно прикрыла глаза веками. Отпустила обоих. В дверях сразу же возникла могучая фигура кизляр-аги Ибрагима, промелькнули вспугнутые тени евнухов, она гневно взметнула бровями: прочь!
Ибрагим переступал с ноги на ногу, не уходил.
– Чего тебе? – неприветливо спросила Роксолана.
– Ваше величество, к вам посланец из-за моря. С письмом.
– Пускай ждет! Завтра или через неделю, может, через месяц. Сколько там этих посланцев еще!
Кизляр-ага склонился в молчаливом поклоне.
– И позови Гасана-агу. Да поскорее!
Гасана вернули, он не успел еще выйти из длинного дворцового перехода. Роксолана ждала его, стоя среди покоев.
– Возьмешь золото, сколько будет нужно, – сказала торопливо, – и выкупай из неволи всех наших людей, каких найдешь в Стамбуле. Найди всех и всех отпусти на волю.
Он молча кивнул.
– Если нужна будет бочка золота, я дам бочку. Султан хвалится, что годовой доход его составляет целых шестьдесят бочек золота. Не обеднеет. И никому ничего не говори. Мне тоже.
– Ваше величество, они отпускают невольников, а потом снова ловят, не давая им добраться домой.
– Позаботься об охранных грамотах. В диване нужно иметь умного визиря для этого. Там сейчас одни глупцы. Подумаю и об этом. Там еще какой-то заморский посланец. Узнай, что ему надо. А теперь иди.
Вспомнились слова из книги, которая теперь преследовала ее каждый миг и на каждом шагу: «Но тот, кто давал, и страшился, и считал истиной прекраснейшее, тому Мы облегчим к легчайшему».
Должна была пережить одинокую зиму. Черный ветер караель будет прилетать с Балкан, бить в ворота Топкапы, может заморозить даже Босфор, будет морозить ей душу, хотя какой холод может быть больше холода одиночества? Бродила по гарему. Холод, сквозняки, сырость. Окна застеклены только в покоях валиде и ее собственных, а у невольниц-джарие – прикрыты кое-как, и несчастные девушки тщетно пытаются согреться у мангалов с углем. Подавленность, зависть, ненависть, сплетни, темная похотливость, извращенность. Только теперь по-настоящему поняла всю низость и грязь гарема, поняла, ужаснулась, переполнилась отвращением. Спасалась в султанских книгохранилищах, но все равно должна была снова возвращаться в гаремлык – в гигантскую проклятую клетку для людей, в пожизненную тюрьму даже для нее, для султанши, ибо она жена падишаха, а муж, как сказано в священных исламских предписаниях, должен содержать жену точно так же, как государство содержит преступников в тюрьме. Наверное, женщин запирают здесь в гаремы так же, как по всему миру запирают правду, прячут и скрывают. Выпустить на свободу женщину – все равно что выпустить правду. Потому их и держат в заточении, боясь их разрушительной силы, их неутоленной жажды к свободе. Как сказано: страх охраняет виноградники. Может, и Сулейман упорно убегает от нее, приближаясь лишь на короткое время, чтобы меньше слышать горькой правды, меньше просьб и прихотей, прилетает, будто пчела к цветку, чтобы выпить нектар, и поскорее летит дальше и дальше. Он никогда не пытался понять ее, подумать о ней как о равном ему человеке, думал только о себе, брал от нее все, что хотел, пользовался ею, как вещью, как орудием, даже к своему боевому коню относился внимательнее. Тяжело быть человеком, а женщиной еще тяжелее. А она чем дальше шла и чем выше поднималась, тем больше ощущала себя женщиной. «Не предай зверям душу горлицы Твоей». Искать спасения в любви? Хотела ли она, чтобы ее любили? А кто этого не хочет? Но чего стоит любовь пусть даже могущественнейшего человека, если вокруг царит сплошная ненависть и льется кровь реками и морями? Кровь не может быть прощена никогда, а только отмщена или искуплена. Чем она искупит все кривды, которые претерпевает ее родная земля? Ледяной купелью исповеди, раскаянием и муками? Как хотелось бы не знать ни душевного смятения, ни мук почти адских. Но праведным суждено смятение. Разве мы не временные гости на этом свете? И разве не боимся прошлого лишь тогда, когда оно угрожает нашему будущему? Даже уплатив дань всем преисподним, не обретешь спокойствия. Искупление, искупление. А у нее дети, и в них – будущее, истина и вечность.
Чужеземцы
Великий евнух Ибрагим снова надоедал Роксолане. Теперь он уже хлопотал не о венецианском посланце с письмом, а об Иерониме Ласском. Сопровождал султаншу в медресе, где учились ее сыновья. Она хотела убедиться, что там не холодно. Быстро шла длинным темным коридором, ведшим в устланное красными коврами помещение кизляр-аги в медресе для шах-заде. На широких мраморных ступеньках огромный Ибрагим мог бы догнать укутанную в мягкие меха султаншу, но не отважился, брел позади, большой и неуклюжий, за спиной показывал евнухам, чтобы позаботились о порядке в зале для занятий, хотя сделать уже что-либо было поздно. Роксолана быстро осмотрела несколько крошечных комнат, предназначенных для уединения вельможных учеников, затем перешла в зал для занятий, представлявший собой большое, просторное помещение в форме нескольких широких террас. Стены зала были украшены желто-золотистыми фаянсами с изображением цветущих деревьев, напротив входа картина – Мекка с черным камнем Каабы и стройными белыми минаретами. Посредине зала лоснящаяся пузатая жаровня, излучавшая тепло, огромный светильник в форме зари, на нем шкатулка, в которую прятали Коран после чтения. Всюду персидские столики, длинные низкие диваны, обтянутые шелком, на столиках синие кувшины с цветами, высокие окна с разноцветными стеклами с изображениями полумесяца и звезд.
– Здесь тепло и уютно, – милостиво промолвила Ибрагиму султанша.
Здесь ее сыновья постигали самую первую мусульманскую мудрость – Коран, самую первую и, по мнению улемов, самую главную, здесь изучали буквы, начиная с элифа, похожего на тонкий длинный дубок, а дубок, как известно, пришел из рая. Каждая буква, как человек, имела свой нрав и свой лик: у «ба» запали подвздошья, «сад» имел губы, как у верблюда, у «та» уши, как у зайца. Суры Корана имели свое особое значение и назначение. Первая сура Фатиха читалась перед началом каждого важного дела, а также за упокой души. Тридцать шестую суру «Ясын» читали во всех случаях, когда в медресе ученики доходили до «Ясын», хором кричали: «Ясын, ягли берек гелсын» – «Ясын, масляный коржик неси!» Большим праздником было, когда доходили до семидесятого стиха восемнадцатой суры – почти половины Корана, но наибольшее разочарование ждало малышей в конце занятий, когда ходжа говорил им, что сто двенадцатая сура Ихляс стоит всего Корана. Если так, тогда зачем было изучать эту огромную запутанную книгу – ведь стоит запомнить лишь несколько стихотворений Ихляса.
Ее сыновья изучали Коран с пятилетнего возраста. Уже даже самый младший, Джихангир, заканчивал эту тяжелую и неблагодарную науку, чтобы высвободить время для знаний, необходимых властелину, хотя и не было никаких надежд на то, что он станет султаном: ведь над ним стояли по праву первородства еще четыре брата. Даже Селим, второй после Мехмеда, не возлагал особых надежд на престол, учиться не хотел упорно, почти воинственно, на упреки матери дерзко отвечал:
– Пускай обучается всем премудростям тот, кто станет султаном! А нам лишь бы жить! Не сушить голову, не корпеть над книгами, быть вольным, под небом и ветрами, с конями, псами, соколами, охотиться на зверя, раздирать теплое мясо, пить свежую кровь!
Когда Селим, рыжеволосый и зеленоглазый, как она сама, отчеканил ей это, Роксолана ничем не выдала себя, лишь окаменело ее лицо и побледнели уста. Селима возненавидела с тех пор и уже не могла тянуться к нему сердцем, хотя внешне никогда этого не показывала. Не могла простить ему преждевременного пророчества страшной судьбы, собственной и его младших братьев, и часто ловила себя на том, что сама думает точно так же. Может, и к своему самому младшему относилась со странным равнодушием, не веря в его будущее, а Джихангир, будто ощущая материнскую холодность к нему, надоедал ей, просился спать в ее покои, канючил сладости, игрушки, одеяния, не давал покоя ни днем, ни ночью, так, будто мать была его рабыней. С рабами и детьми разговаривают однозначно: пойди, встань, принеси, дай, не трогай. Джихангир не признавал такого способа обращения, он требовал у матери, чтобы она рассказывала ему сказки и поэмы, чтобы не умолкала ни на миг. Он рано постиг тайны человеческого поведения, будучи еще не в состоянии осознать это, все же как-то сумел почувствовать, что Роксолана должна вознаградить своего последнего сына, эту жертву судьбы, это возмездие или проклятие за все зло, накопленное Османами, отплатить если и не нежностью, то вниманием и покорностью, и потому сумел захватить власть над матерью и стал настоящим деспотом. А маленький деспот намного страшнее большого, потому что он мелочен, назойлив и не дает передышки ни на миг, от него не спрячешься и не избавишься.
Но как бы там ни было, Джихангир был дорог ее сердцу так же, как Мехмед, Селим, Баязид и Михримах, и сегодня утром она подумала, что ему здесь, может, холодно, как холодно всюду в просторном неуютном султанском дворце, и пришла сюда, чтобы развеять свои опасения.
– Хорошо, – сказала она кизляр-аге. – Мне здесь нравится.
– Может, позвать шах-заде Джихангира, ваше величество?
– Не надо. Ты свободен. Тогда Ибрагим и сказал об Иерониме Ласском.
– От кого он на этот раз? – улыбнулась Роксолана, вспомнив сладкоречивого тихоню, льстивого дипломата, о котором французский король Франциск сказал: «Никогда не служит одному, не обслуживая одновременно другого». Богатый краковский вельможа, прекрасно образованный и воспитанный, Иероним Ласский от службы у польского короля переметнулся к королю венгерскому, затем перешел к Яношу Заполье, оказывал бесконечные услуги императору Карлу, королю Франциску, Фердинанду Австрийскому. Непостоянный и продажный, он без колебаний переходил на сторону того, кто платил больше. Самое же странное: имел смелость появляться в Стамбуле каждый раз от другого европейского властелина, не боясь гнева султанского или даже расправы за неверность.
– Так от кого он? – переспросила Роксолана.
– Не знаю. Он хотел к его величеству султану, но Аяз-паша взял его под стражу в караван-сарае на Аврет-Базаре, и теперь он просится к вам на прием.
– Как же я могу его принять, когда его не выпускают из караван-сарая? Не могу же я поехать к нему сама.
– О нем просит Юнус-бег. Ласского можно привезти в Топкапы под охраной.
Великому драгоману Юнус-бегу она не могла отказать. Верила, что благодаря ему повержен Ибрагим. Никогда не разговаривала с этим человеком, не знала, как относится он к ней (может, и ненавидит, как ненавидел Ибрагима и всех чужеземцев), но была благодарна ему за то, что стал невольным ее сообщником, помог в ее борьбе за свободу.
– Хорошо, привезите этого человека, – сказала она великому евнуху.
Приняла Ласского там, где и всех. Пан Иероним, высокий, стройный, в дорогих мехах и ярких одеяниях, задрав пышную светлую бороду, одарил султаншу изысканной улыбкой, затем опустился перед ней на одно колено, раскинул руки.
– Ваше величество, недостойный слуга ваш припадает к вашим ногам!
– Встаньте.
– Я безгранично благодарен вам, ваше величество, за высокую милость видеть вас и слышать ваш ангельский голос.
– Если вы докажете, что ангелы владеют также и мудростью, тогда я согласна и на такое определение, – засмеялась Роксолана, предложив ему сесть.