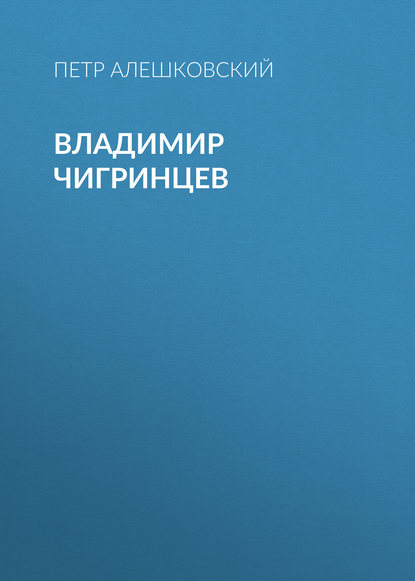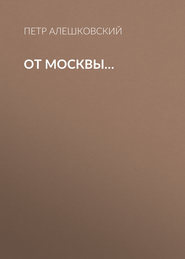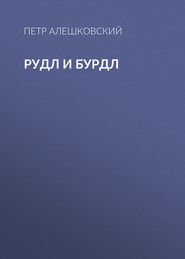По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Владимир Чигринцев
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Когда бросились искать, нашли его висящим на сосне недалеко от дома в Падушевском овраге. Место прокляли, хозяина схоронили в склепе в церковной ограде, приписав смерть лихим людям. Любимая его собака вскоре исчезла.
Зато в округе стали замечать по ночам белогорлого худющего кобеля, коего местный колдун определил как оборотня. Пытались стрелять его серебряной пулей, но не достали.
В Падушевском овраге на полную луну слышали мерзкий волчий вой, и вконец напуганная молодая мать Дербетева заказала особую читку. Молитвы сделали дело – вой прекратился, а белогорлая собака как сквозь землю провалилась.
Часть первая
1
Традиционную утку с антоновкой и Татьяниного сбора бобрянской брусникой смолотили в один присест. «Многие лета», стройно пропетые профессору Павлу Сергеевичу в начале торжества, и теперь еще порой шутейно вспыхивали в разных концах стола, но, не подхватываемые всеми, так же и затихали, – гости пресытились и занялись фруктами. Смаковали заморские ликеры, настоящие, купленные, как и все изобилие, Ольгой Павловной на валюту в хорошем магазине. Сам Профессор куда-то отлучился.
Главной темой застолья был домовой, разбивший любимую Ольгину супницу, и как бесплатное приложение к нему – римлянин Кашпировский, зарядитель воды Чумак, воскреситель трупов Лонго и мелкие феи и «православные» целители от Вельзевула. Ларри Коре, американский славист и Ольгин муж, возбужденный и счастливый, с детства знающий цену телевизионным кудесникам, наслаждаясь последними российскими деньками, изливался в любви Аристову и Волюшке Чигринцеву под неизменную «Столичную». Клялся прислать по факсу – и немедленно – статью о казаках в собираемый загодя юбилейный профессорский сборник.
В десятых числах необычно жаркого сентября на террасе большой подмосковной «академической» дачи заканчивалось чествование семидесятивосьмилетия Павла Сергеевича, заканчивалось чинно, традиционно хлебосольно, как все, что делалось в доме Дербетевых.
В конце шестидесятых (кто теперь вспомнит) ученый, писавший дотоле в основном о социально-экономической истории России, резко сменил стиль. На строгом худом лице проступило происхождение, на мизинце поселился родовой сердолик-печатка в рыже-золотом ободке. Павел Сергеевич занялся персоналиями осьмнадцатого столетия.
Документ ожил. Направляемый умелой рукой ученого стилиста, вынырнул и задышал портрет. Личность сближала века, намекала подтекстом на то, что едва различимым зародышем пряталось в сухой идеологизированной экономике прошлых академических штудий. Его книги имели успех как здесь, так и за океаном. Возникла небольшая полуопальная школа, создавшая перво-наперво особый элитарный язык: старомодно галантный, полный неподдельного веселого юмора и скрытых цитаций, коими блеснуть почиталось за честь, – язык сообщества позволял с ходу вычислить и отделить своего от чужого, «непосвященного». «Птенцы гнезда Дербетева», упиваясь игрой, прощали шефу все ради истинных знаний, даже патриархальное самодурство и желчность, столь отличные от холопского сибаритства потомственных паркетных холуев.
Демократичные американцы ценили архивные знания, точное слово и начитанность Профессора не менее его отмененного историей титула, звали наперебой читать лекции, но Павел Сергеевич ссылался на лень и не изменил Отчизне ни разу. Зато когда дочь его Ольга в восемьдесят третьем вышла за стажировавшегося у Профессора Ларри Корса (он же Ларион Корсунский – из первой волны), когда ректорат затерзал Павла Сергеевича вызовами и разбирательствами, он проявил жесткость, не поддался, не уступил ни пяди. Победно-презрительно язвил, в перестройку вышел из партии, отослав билет по почте, и доживал теперь с младшей Татьяной, полностью им закабаленной после смерти жены, много работал за столом, оставив в университете узкий спецкурс, выросший из потайного «кухонного» кружка шестидесятых. Чуя время, он спешил: Екатерина Вторая – Просветительница одна занимала его внимание всерьез.
Профессор вышел на террасу, как только он и умел, вроде незаметно, несуетно, но значительно ступая, исподлобья обозрел присутствующих. В руках держал перевязанную лентой коробочку темно-зеленого фетра. Сразу пала тишина. Когда напряжение достигло высшей точки, опустился в кресло и, не глядя ни на кого отдельно, начал по существу, уверенный, что каждое слово услышат и запомнят.
– Мне скоро помирать, господа, факт. Значит, нет больше смысла хранить семейную тайну. Люди здесь не чужие, сына мне Бог не дал, но даровал девчонок, коими я порой весьма бывал доволен.
Вы знаете, что родовое наше – Пылаиха – с шестидесятых не существует как деревня. Знаете, что есть у меня домик в Бобрах, в пятнадцати километрах. Поселились мы там так.
В тридцать пятом после перековки на заводе «Серп и молот» я поступил в ИФЛИ. Жениться случилось поздно, уже после войны. Вера Анисимовна и уговорила меня съездить в Пылаиху, которую смутно помнил по детским воспоминаниям и знал более по преданию о кладе, зарытом в родовом одним из Дербетевых после Пугачевской войны. Причем легенда говорила, что страшный вурдалак сгубил в конце концов бравого драгуна, завладевшего сокровищами. Не веря особо ни в Бога, ни в черта, мы отправились в путь. Не ради денег, конечно; мы их тогда, и всегда, впрочем, презирали – готический роман и сказки теток волновали куда сильней.
Шли полем. Попутный мужичок объяснил, что до Пылаихи километров пятнадцать кругалем и пять через поле, но в баньке поселилась ведьма и в десять вечера летает над лесом на помеле. Осмеянный, он обиженно хмыкнул и пошел стороной. Нарочито и весело отправились мы напрямки.
Близилось к десяти. Пылаихинская церковь виднелась на бугре за деревьями, на луг опускался туман. Какая-то банька с трубой, просевшая и явно бесхозная, прилепилась у ручейка на нашем пути. Я засек время. Ровно в десять в полном безветрии в тишине сумерек из трубы отвесно в небо взлетел, воспарил – не подберу слово и сегодня – огненный шар. Потрясенные, мы пали в траву. Повисев с минуту, шар стал кататься по воздуху кругами, набирая скорость. От него исходило прерывистое гудение, отдаленно похожее на всхлипы ветра или скулеж зверя. Круг в воздухе замкнулся. Потом я вычислил время – семь минут, тогда нам показалось – вечность. Огненный шар летал и летал, затем завис опять над банькой и со щелчком всосался в трубу.
Наступила мертвая тишина. Вера молила возвращаться – я настоял идти. Было страшно. Но ничего больше не случилось. Банька в темноте чернела пятном, появился ветерок, затем закапал дождик. Ночевали в Пылаихе у бабки. Расспрашивали о шаре и получили выговор за свое безрассудство: падушевская банька считалась здесь проклятым местом. Охота смеяться у нас совсем отпала.
Тем не менее места нам понравились. За бесценок выглядели дом в Бобрах – девчонки больше там и воспитывались. Татьяна, как вы знаете, и теперь туда наезжает: грибочки и брусника на столе – ее рук дело. Я, понятно, не был там давно, впрочем, и не жалею… Так вот, в Пылаиху и в те годы ходили мы редко, в основном за опятами, да и то пока там жили люди, мрачное, признаюсь, стало место. Крестьяне, перемещенные в начале тридцатых, фамилию мою не знали или не сопоставляли с помещицкой – таиться хоть здесь не приходилось. С тех пор при случае я всегда расспрашивал естественников – шаровой молнией сие быть никак не могло. Не скажу, что струсил, нет, тут иное: я вдруг понял, что клад мне в руки не дастся. Свидетельство сему – остатки, передаваемые по наследству.
Профессор аккуратно размотал ленту, раскрыл коробочку. Гости подались вперед и разом ахнули.
– Оля, Таня, подойдите, – произнес Профессор торжественно. – Колье и перстень – Тане, брошка – Ольге, – объявил он. – Ты, – добавил старшей, – все равно увезешь, пусть большее останется тут, на Родине. Вот так, господа, клад искать теперь девочкам, их мужьям, Волюшке, он хоть из Чигринцевых, но родня. Вам цвесть – нам тлесть, – пошутил Павел Сергеевич мрачно.
Драгоценности пошли по рукам, поднялся гам. Профессор возвышался над столом, наслаждаясь произведенным эффектом.
– Тут в перстне инталия – вырезной сапфир, погодите, погодите, – вглядываясь в камень, закричал приглашенный Аристовым Княжнин, – буквы…
– Не буквы, а иероглифы, молодой человек, – оборвал язвительно Павел Сергеевич. – Впрочем, и буквы имеются – арабская вязь, но их можно разглядеть только в лупу. По чести, я боялся носить по спецам – время не благоприятствовало, за такие камешки большевики могли б и срок намотать. Теперь бизнес шагает, так, господин Княжнин?
Но его ироническое подчеркивание фамилии, как и последующий уход остались незамеченными – музейные, огроменные камни примагнитили всех до одного.
2
Более, наверное, всех принял случившееся к сердцу Воля Чигринцев. Поразили его даже не камни, а адресованные ему слова Павла Сергеевича. Отныне он официально признавался членом большой семьи Дербетевых, с которой состоял в прямом, но далеком родстве по матери. Вряд ли ответственное решение принималось Профессором накануне или сегодня поутру. Хотя князь, или «красный мурза», как заглазно величала его тетушка Чигринцева, был непроницаем, – что варилось в его голове, оставалось всегда тайной за семью печатями.
Волюшка, как и все окружающие, с детства страдал от грубой резкости Павла Сергеевича, тот часто высмеивал мальчика, держал на дистанции, именно как юнца, не допускаемого в священный круг взрослых. Тепло, забота, внимание – проявление подобных чувств было для князя равносильно потере собственного достоинства. Иное дело – показное хорошее настроение, сытный покой после доброго обеда и рюмашки. Князь подсаживался к «своему» столику, доставал из футлярчика карельской березы специальные маленькие карты, принимался за гранд-пасьянс. Тут он позволял себе краем уха прислушаться к пустословию общего стола, подпустить незлобную шпильку, реплику, порой остроумную, порой даже добродушную. Традиционный послеобеденный воскресный «отдыханчик» (дербетевское словечко) бывал самым спокойным временем в семье.
Остальные часы, минуты, расписанные с немецкой пунктуальностью и английским снобизмом, подчинены были ученому – вокруг него все вертелось. Пожалуй, одна Ольга – наследница отцовской крови – умела пойти напролом против папиной воли или, по-профессорски презрев, не расслышать до нее касаемое. Танюша дулась про себя, но смиренно подчинялась, плакала от незаслуженной обиды в тиши, одна, незаметно – и часто получала после отповедь отца: «Опять рева-корова». Дразнилка вгоняла в краску по новой, Таня прятала глаза или уносилась вихрем к себе, не показываясь порой до следующего утра.
Воля, приводимый с детства на обеды родителями, сборища Дербетевых терпеть не мог Знал: обязательно ткнут пальцем и унизят. Долгое время казалось, что «красный мурза» избирал его объектом насмешек специально. Поcле гибели родителей Воля часто пропускал воскресенья, но князь, не замечая пассивного протеста, неизменно встречал особой вежливой насмешкой: «А-а-а, Вольдемар пожаловали, иже зовомый Волюшка-вольница, милости прошу». Тут был явный намек на его свободную профессию, не одобряемую дисциплинированным академическим умом.
Воля, пристроенный в жизни мудрыми родственниками, оформлял детские книжки. Дело это было ранее весьма хлебное, он и в ус не дул – рисовал все, что дадут, за длинным рублем не гнался, себя не насиловал, стараясь получить заказ, по возможности связанный с историей, стройки и пионерию никогда не воспевал. История тешила его дилетантское самолюбие – не достигнув больших высот, он тем не мене профессионально просиживал в музеях и библиотеках, знал историю костюма, мебели и, положив за правило по вольнолюбию характера не быть коллекционером, восхищался красотой и добротностью вещи, как, верно, раньше конюхи, понимая сызмальства толк в лошадях, позволяли себе бескорыстно любоваться статными хозяйскими красавцами. Подобная жизнь его устраивала.
Прекрасный пол, весьма долго его занимавший – он был знатный донжуан, – теперь, к тридцати трем годам, несколько прискучил однообразием сюжета. Друзья давно все оженились, завели семьи, Воля же держался, сам, впрочем, не понимая почему, в угрюмого сыча не превратился – жизнь в нем пульсировала полно, но все же последние годы он несколько остепенился, реже и реже срывался в полеты, раз навсегда решив довериться Провидению, в кое верил без ханжества, но крепко и радостно.
И все же чем дальше, тем больше тянуло к Дербетевым. Князь безусловно фиглярничал, как себялюбец со стажем, но что-то недосказанное, невыраженное крепко пристегивало к нему, помимо знаний, дивных рассказов за столом, всегда фабульных, всегда глубоких. Павел Сергеевич, чего у него не отнять, был редкий профессионал. Иронизировать над собой позволял только себе самому, делал это тонко и к месту, порой снимая им же созданное напряжение. Смешил общество преувеличенным покаянием или дежурной фразой: «Дербетевы, знаете, все недополучившие чина поручики», – но замечал сие без тени улыбки, пожимал плечами, подчеркивал просто сам факт и… через пять минут снова вычитывал дочкам или жене за безделицу.
Сегодняшнее «прощальное слово» обставил по законам риторики, с пафосом уставшего аристократа, и все б показалось привычной игрой, кабы не драгоценности и клад, завещанный теперь и ему, Владимиру Чигринцеву.
Волюшка скрылся в саду, устроился в шезлонге за кустом жасмина. Легкое опьянение, в начале застолья забравшее, исчезло совершенно. Легенду он слышал с детства, как все в семье в нее не верил, ан, оказалось, зря. Княжнин, бизнесмен из новых российских эмигрантов, а также по совместительству поэт-любитель, чем-то пленивший в последний месяц Аристова, говорил о необходимости оценки, срочной страховки, – вместе с Ларри они взялись разработать план вывоза Ольгиной броши через знакомого дипломата в посольстве.
Воля удрал на воздух наслаждаться одиночеством и тишиной. Княжнин (Чигринцев знал, что это литературный псевдоним, ставший американской фамилией) его раздражал. Казалось, он не заметил иронии Профессора, но скорее-то всего, заметив ее, прикрылся деловым разговором, как щитом.
Выходило, Профессор ценил Чигринцева издавна, или делал уступку родству?
– Надо собираться за кладом, – проговорил он вслух и, разом приняв решение и, как всегда, загоревшись, уже спешил действовать, то есть мечтал за кустом, сладко потягиваясь, хрустел пальцами здоровенных и сильных своих рук, приятно сцепленных на затылке. Крупный мясистый нос и далеко открытый лоб без единой философической морщины выделяли и отягощали лицо, намекали на спящую, укрощенную агрессию, за что мать ласково обзывала его «мой Мишук», но никак не медведь, – большие черные и теплые глаза с детства слегка удивленно взирали на мир, но лишь невнимательный человек мог заподозрить в Чигринцеве легкомысленного простачка. На деле простодушие и открытость были лишь маской, а невинная улыбка зачастую ставила даже строгих и волевых в тупик, ибо за крепкими скулами читался терпеливый и выносливый характер. Где-то заголосил петух, мерно капала вода из крана на участке, жарило, не доставая, солнце – в тени за кустом клонило в сладкую дрему.
– Всего хорошего, вечером созваниваемся, как сговорились. Надеюсь, я его застану. – Княжнин прощался с Ольгой, Аристовым и Ларри на крылечке дачи.
– Не очень-то утруждайтесь, Сергей, не сейчас, так в другой раз заберем, – проявляя вежливость, отговаривала Ольга.
– Не стоит разговора – надо действовать, и немедленно, он мне приятель по покеру, да и история романтическая – тут американец сделает больше возможного. О’кей, я исчезаю, всем общий поклон, а перед Павлом Сергеевичем извинитесь особо. Рад был познакомиться, ба-ай, – растягивая гласную, пропел Княжнин напоследок.
Ольга с Ларри скрылись в доме, Аристов завопил с крыльца:
– Волька, ты где, идем допивать!
– Я тут, – лениво отозвался Чигринцев.
– Изволите отдыханчикать, – сострил Аристов и было собрался присоединиться к нему, как резкий голос Татьяны остановил его:
– Хватит, никакой водки! Как всегда, есть все мастера, а убирать со стола некому! Виктор, изволь вымыть посуду!
Аристов картинно развел руками и громко прокомментировал:
– Баре зовуть! – Театрально поклонился кусту и ушел на кухню.
«Какая у них может быть любовь?» – в который раз подумал Чигринцев. Аристов, профессорский ставленник, сын деревенских фельдшеров из-под Костромы, был вывезен Павлом Сергеевичем, поступлен в университет и нынче, рано защитив докторскую, всерьез рассматривался как потенциальный завкафедрой и всемогущий секретарь ученого светила. Свойский парень, со своеобразным мрачноватым чувством юмора, обладал он стопроцентной надежностью и преданностью шефу. Князь, помыкая и кляня, как «своего», Виктора, пожалуй что, и любил, если способен был на такое. Неудачно отроманившая юность Татьяна к тридцати двум, кажется, поддавалась аристовскому напору – тот втюрился в нее с первых дней. Умело держа осаду, он выжидал и все чаще поговаривал об их возможной женитьбе. Профессор эти разговоры молчаливо поощрял. Волюшка от одной Татьяны получал в доме настоящую сердечную теплоту и, дружа с Аристовым, ее откровенно почему-то жалел. Впрочем, это было сугубо их дело.
3