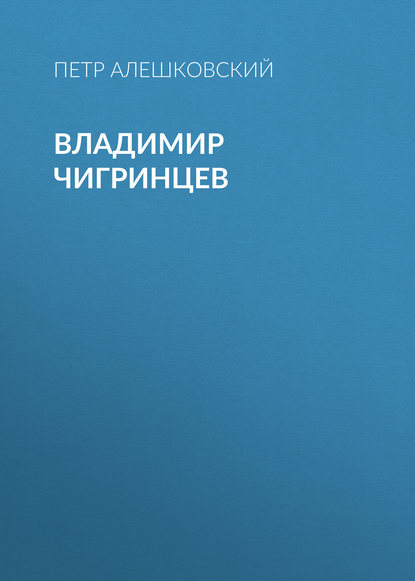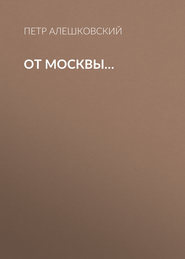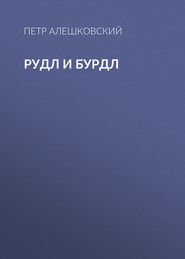По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Владимир Чигринцев
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Поговоришь у меня, смерд! Разговорчики в строю! – Виктор начинал просыпаться. Опасаясь скандала, Воля немедленно скормил ему остатки водки, и Аристов опять сник.
– Не люблю мутных, – пожаловался шофер, – или заблюют, или орать начинают – горе.
– У него и правда горе, – приврал Воля. – Ты не обижайся, шеф.
– На обиженных воду возят, – отчеканил водила, – я не к тому: выпил – ляжь и молчи, а то лезет, лезет наружу вся хмарь. – И вдруг помягчел и принялся травить истории про пьяных.
Наконец доехали до Теплого Стана. Воля расплатился. Неожиданно по собственному почину водитель бросился помогать – втащили Аристова по ступенькам в подъезд, приставили к лифту.
– Давай, парень, спать его ложи, а будет бузить – бей в лоб, я их знаю, – серьезно посоветовал шофер на прощанье.
В квартире Аристов опять очнулся.
– Спасибо, Волюшка, дальше я сам. – Побрел к кровати, рухнул, зарылся в подушку, пробормотал сонно: – Я в норме, я в пор-рядке, Воля, спасибо, друг, ты вались рядом, я в норме.
Делить с ним на двоих узкую кровать Чигринцев не собирался. Немытая холостяцкая берлога, кислый, застоявшийся запах, книги и грязная кастрюля сожительствовали на полу; старенький черно-белый телевизор – таракан на ножках, не метенный столетьями ковер и яркая деревенская герань, одиноко и бурно цветущая на узком подоконнике. В углу тяжело храпящий хозяин. Воля выждал минуту для приличия, накрыл мертвяка одеялом, погасил свет и вышел, захлопнув дверь раздраженно и громко.
Ему случалось напиваться с Витькой и один на один, и в компании, но не так мрачно, как сегодня. Аристовские вопли вертелись в голове. Тело одеревенело от усталости. Он поймал такси и Дорогой молчал.
Москва опустела. Машина сыто урчала на подъемах. Пронеслись ненавистным Аминьевским. Призрачные фабрики жевали свою вечную жвачку. В Филевском парке темная зелень шевелилась на ветерке, как водоросли в аквариуме. Из размытых чернил ночи выпирала агрессивная сущность города: контраст черного и серо-белого, грязного и обшарпанного, прямые углы и параллельные линии, мучающие глаз однотонным повтором, устойчивые рисунки хрущевских панелей: веселенький «горошек», идиотические «полоски», гофрированные поверхности – техническое скудоумие, лишенное понятия прекрасного, – униформа, строй, ранжир – равнение на середину, – однояйцевые близнецы – бесконечные квадратики окон, лишь подсвеченные занавески полуночников горели как редкие угольки. Распахнутые, ловили ночную свежесть астматические форточки и фрамуги. Луна затонула в низких облаках. Город угрюмо затих и усыплял.
– Дур-рак, дур-рак, – прорычал сквозь зубы Чигринцев, подходя к дому. Живот и горло сдавило как обручем. Хотелось по-детски, обиженно зареветь. Но вдруг он беспомощно улыбнулся, развел руками. На душе немедленно потеплело.
4
Соленые огурцы-младенцы, хвостики, как у поросят, тугие и веселые, толстоногие моховички. Брусок масла на блюдечке. Столовое серебро. Селедка при луковых кружевах в печальном фарфоровом карпе. Графин твердой огранки с притертой пробкой. Гостевой, глубокий кожаный диван.
Тепло. Слегка голодно. Закуска манит, лишает остатков воли, но кусочничать строго запрещено с детства: пока накрывают, глазей молча. Картинки по стенам, аппетитные «штучки» в книжных шкафах, алюминиевая пивная английская кружка с карандашами на столе, неизменная с детства, до детства, всегда.
И наконец долгожданное: «Наливай, от первой и архиерей не отказывается». Тягучая, желтоватая, настоянная водка льется в специальные рюмочки.
Екатерина Дмитриевна, милая, я вроде по делу пришел, а ты праздник устроила. Давай за тебя, ты же вечная красавица, – не стесняясь произнести банальность, от сердца выдохнул Воля.
– Благодарствуйте, сударь, – подыграла старушка, бойко бросила рюмку в рот, посмаковала с удовольствием, бережно опустила на скатерть.
– Грибочком, наперед грибочком закуси, – опережая ее, задразнился Воля.
– А и закушу, обязательно и непременно, бобрянский моховик – ба-ажественный, как Вера Анисимовна говаривала, – по-московски на «а» пропела тетушка Чигринцева.
Старая каракатица, тяжелая книзу, корячащая при ходьбе ноги, с толстым добрым лицом, провисшим вниз, как у породистой собаки. Глубоко ушедшие, горящие вниманием глаза. Чистая комната, чистая кофточка, чистая простецкая юбка, теплые глубокие шлепанцы. Белая блузка с кружевным воротничком заколота большим резным сердоликом. Давным-давно живет она тут бесхитростно и одиноко, но вкусно на мизерную пенсию музработника.
– Тетушка, как тебе все удается? – закричал через стол Воля, не называя это все конкретно, уверенный, что та поймет.
– Божьими заботами, батюшко, – усмехнулась старушка, – помнишь, как Лизавета говорила?
Лизавета – покойная тетушкина подружка-домработница с Малой Никитской, подобранная в эвакуации, прожила жизнь, тяжелейшей своей судьбы вроде и не заметив.
– Нет, ну все же? – напирал радостно Воля.
– Это вам все денег не хватает, а мне в самый раз. Давай закусывай, не болтай, рассольник на кухне дожидается.
Рассольник, дивно-жаркий, глазастый, вплыл на стол в ритуальной супнице. С утиными потрошками. Гузка и шейка немедленно перекочевали в Волину тарелку.
– Тот глуп, кто не пьет под суп, наливай-ка еще! – скомандовала тетушка.
Пьется еще, и как пьется! Только после котлет позволено говорить о серьезном. Воля рассказал о профессорском юбилее, о кладе.
– Мало ли чего он наплетет! – Тетушка недовольно заерзала на стуле. – Охота тебе к ним таскаться. Когда Вера была жива – другое дело, а его я не люблю. Имей в виду: фамилией кичиться – хуже нет греха. Юродство – оно от Бога и по благословению. Дворянство умерло – ни земли, ни государя нет. Ты видал, кстати, наш с Клинтоном как носится, подачки просит? Вот стыдоба настоящая – ведь все у нас есть, всего вволю, а они думают на подачки прожить.
– Екатерина Дмитриевна, ты еще и за этой мурой успеваешь следить, зачем тебе?
– Паш-шел вон, списал меня совсем со счетов?
– Нет, нет, что ты…
– Именно списал. Я сама себя списала. Ну да будет. Заруби на носу, все, что Павел Сергеевич говорит, дели на шестнадцать. Какой там клад – колечко, брошка, колье, держали про черный день, Вера говорила, а больше ничего. Дачу в поселке академиков и ту бесплатно хапнул. Вертихвост, приспособленец, а за одно все б простила – талантливый.
– Тетушка, я Павла Сергеевича с детства боюсь и недолюбливаю, но все-таки родня…
– Родня, родня, хуже горькой редьки эта родня – фазан персидский, и Ольга такая. Танька – та в Чигринцевых. Ларри Ольгин мне милей – простак, а наш «красный мурза» не прост, давно его знаю. Про вурдалака рассказывал?
– Конечно, и про ведьму на помеле.
– Ведьма не ведьма – это они видали, Вере я доверяю, простая и чистая была душа, но мало ли чего ни случается? Ты лучше скажи, как с работой ладишь, платят?
– Должны на днях заплатить – частное издательство. «Сказка о золотом петушке» Пушкина, слыхала?
– Хорошо, что не Марианна или «Звездные войны», ты эту шелуху, надеюсь, не рисуешь?
– Нет, Бог миловал. Соблазняют тут на «Священную историю для детей»: денежно, почетно, и сам митрополит благословит.
– Держись от белых клобуков подальше: у них свое дело – у тебя свое, и хлебное, слава Богу. Ходить надо к простым попам, не так суетно. От заказа откажись – как у Доре, не выйдет, а клюкву и без тебя развели, – что ни день, по ящику кажут.
– Тетушка, никак ты меня жизни учишь?
– Оно б и хорошо, да поучишь вас, как же. Наелся?
От пуза! Спасибо усим, що наивси Максим, – помнишь Лизаветино?
– Помню, все я помню, кончай трепаться. Снеси на кухню, после помою, и не смей там ничего трогать, слышишь? – Тетушка перевалилась в кресло, глядела уже через силу – устала. Своротить такой обед в восемьдесят с хвостиком – подвиг.
– Тетушка, а где бычок? – Чигринцев подошел к столу. Незаметно положил на книгу три десятитысячных – напрямую тетка никогда б не взяла.
– Бычок? Не знаю, в шкафу, хочешь – забирай, сам ты бычок ласковый. Ты почему не женишься, Воля?
– Время не приспело, – отшутился Чигринцев. Он искал бычка. Деревянный, с колечком на веревочке, тот ставился на стол. Колечко тянуло к краю. Раскачиваясь, бычок шагал на шарнирных ногах, качал головой и замирал всегда перед самым обрывом.
– Ладно, бычка в другой раз возьмешь, иди-ка ко мне. – Тетка вертела в руках шитый бисером кошелек, старинный, перемотанный ниткой. – На, ты же любитель рухляди. Екатерина Вторая им капитана Владимира Николаевича Чигриндева за участие в Кучук-Кайнарджийском посольстве одарила. Разглядывать после станешь – устала. Целуй.