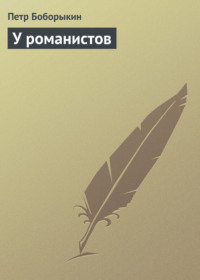Поумнел

Петр Дмитриевич Боборыкин
Поумнел
Повесть
На Рыбной улице, там, где перекресток поднимается немного на изволок, против церкви Алексея Митрополита, протянулся деревянный одноэтажный дом и по улице, и по Зыбину переулку, идущему под гору, к кузницам и к задам запущенного, когда-то роскошного барского сада князей Токмач-Пересветовых.
Дом выкрашен в сизо-розовую краску, еще часто попадающуюся в губернских городах. Красили его уже давно, и кое-где, вдоль стен, краска отколупилась, и старое побурелое дерево выглядывало наружу. Окон теснилось много, штук до десяти, вдоль уличного фаса, все с зелеными ставнями и лепными украшениями фризов на старо-дворянский манер.
Подъезд был, однако, приделан уже позднее, когда пошла мода на подъезды с улицы, – прежнее крыльцо с длинным вырезанным навесом помещалось на дворе, с переулка.
Снежок покручивал по перекрестку часу в четвертом после обеда. Только что ударили к вечерне. Тут же, на перекрестке, стояло несколько извозчиков: двое местных лихачей, на резных санках, с толстогрудыми битюгами, без полостей, сами нарядно одетые, и "Ванька" в кафтане из мужицкой дерюги. Его пошевни, низенькие, лубочные, покрывал коврик из суконных покромок, внутри лежало сенцо.
Ездоков не видать что-то еще было ниоткуда, ни со стороны площади, где стоял суд, ни от спуска по переулку, где издали белели полные инея липы и клены барского запущенного сада.
Ванька поднял высокий воротник своего кафтана, надетого поверх полушубка, и морщился от снега, попадавшего ему на щеку. Те двое лихачей с ним не знались и, когда он тут остановился, только переглянулись между собою на особый лад: "вот, мол, пожаловала ворона на первую в городе биржу".
Один – толстый, затянутый кушаком с набором из серебра с чернью, в котиковой шапке – перевел голубыми вожжами и выговорил тоном зажиточного мещанина, знающего хороших господ:
– Александр Ильич из правления покатит, поди, вскоре?
– Не раньше как в исходе четвертого.
Другой извозчик смотрел еще очень молодым парнем. Курчавый и веснушчатый, он ушел головой в триковый ваточный картуз; из-под стоячего воротника синего кафтана выглядывала розовая рубашка. Шарфа он не носил.
– Да он и завсегда сидит по правилу, а седни у них день особенный, суббота, больше народу бывает.
– Это точно, – подтвердил толстый лихач.
Они помолчали. Слышно было только похрапывание одной лошади, серой в яблоках, норовившей достать языком свою товарку, бурую… Лошади были в дружбе, хотя и стояли на разных дворах.
– Балуйся! – дал на нее окрик молодой парень. – Мерин несуразный!
И он ударил вожжой по широкому крупу своего серого.
Опять они помолчали. Толстый глядел в ту сторону, где стояло здание присутственных мест. К вечерне отблаговестили. С последним ударом он вдруг почему-то перекрестился, приподнял котиковую шапку и показал свой череп, совсем лысый, белый, с маленькою прядью темных волос напереди, череп умного плута дворника, круглый и с выпуклостями лобной кости. От него пошел сейчас же легкий пар.
– Господи Иисусе Христе! – чуть слышно выговорил лихач.
Молодой парень покосился на него и спросил:
– Папиросочки не соблаговолите, Ефим Иванович?
Он говорил толстому "вы", а тот ему "ты".
– Нешто я курю?.. Ишь, что выдумал! – брезгливо и с усмешкой сказал Ефим.
– Ужли на старую веру повернули?
– Мели еще!
Ванька в мужицком кафтане начал прислушиваться к их разговору. Его пошевни стояли поодаль от саней молодого парня. На эту биржу заехал он покормить лошадь и уже подвязал ей торбу… Он замечал, что лихачи на него косятся, и уехал бы, да надо было дать лошаденке пожевать овсеца.
Извозничал он в губернском городе первую зиму, был из соседнего уезда, городские порядки еще мало знал, и выручки у него не спорились. Только на чугунку да с чугунки приводилось довезти путевого седока, а так, по городу, целыми часами никого или за самую нищенскую цену. Особенно барыни! Те и на вокзал норовят за гривенник доехать; да гривенник еще ничего, а то восемь, семь копеек.
Вот сейчас он конец сделал, порядочный кончик, за четыре копейки. Тоже в салопе, старушка.
Идет да кричит:
– Ванька, хочешь две семитки?
Он было совестить ее начал. Она идет себе, палочкой постукивает по тротуару. И он за ней по улице плетется.
Посадил!
Мужик он тихий, немолодой, подслеповатый, немножко хворый. Кабы не выдалась осень такая – сына угнали, да другого женить пришлось, да неурожай льну – их главный промысел, он бы не поехал в город… Думал: "прокормлюсь, подать привезу".
Но рубля в день он не наколачивал. Не то что те двое лихачей. Каждый из них либо два с полтиной, либо три и три с четвертаком привезет. Толстый-то сам хозяйствует, а молодой – работник, так тот из выручки себе откинет не меньше двух двугривенных.
Положение такое: двадцать копеек конец по городу, на чугунку – тридцать, с багажом – сорок. Так ему, Ваньке, никто этой "такции" не даст, а чуть заикнется – на смех поднимают:
– Ну, ты гужеед желтоглазый, туда же – такция! Когда и при городовом на вокзале – и городовой смеется.
А те двое за таксу не двинутся. На них все такие господа ездят, без ряда. И всегда выше таксы отвалят.
Так перебирал про себя деревенский, поглядывал больше на обоих лихачей, чем на прохожих. Ему было тут жутко, да и зябнуть он начал в плоховатом полушубке и в старых, невысоких валенках.
И толстый извозчик, Ефим, думал почти в том же роде. Стоял и он без дела больше часу и спрашивал себя: прогадал он или нет тем, что от гостиницы отъехал?.. По утрам, после чугунки, он там стоял. Гришка – молодой парень – тоже. У них у обоих один и тот же круг езды, только Ефима выбирал народ постепеннее.
От гостиницы они уехали потому, что ничего стоящего там не было. И там простояли зря. Время тугое. Проезд средний, больше мелкий купец. Помещики съезжаться начнут позднее, недели через три. К святкам подойдут и выборы.
Ефим ездит около тридцати лет, и вся жизнь губернского города уложилась у него в голове, и знает он ее так, как никакому полицейскому не знать.
Вот длинный розовый дом. Пареньком помнит он его серым, и въезжали в ворота, к крыльцу с навесом. Предводителев он был. Так из рода в род. Сначала отец, потом сын. Жили широко, приемы, вечера, игра большая. И все расползлось… От фамилии звания нет, в уезде где-то никак одна дочь замужем. Дом продали… Много годов жил пароходчик, из разночинцев какой-то, в гору шел, завод железный завел, потом перебрался в столицу. В розовом доме после него контора была. Да и весь город к тому времени из помещичьего стал на деловой купеческий лад: конторы пошли, банки, склады. Однако от этого езды хорошей не прибавилось. Господ мало. Если б не судейские да не инженеры, не с кем и рассчитывать на хорошую выручку. Ну, налетит из Москвы адвокат, тороватый, особливо коли охотник до теплых мест… Так для этого есть вон "лодыри", вроде Гришки… И каждый раз, когда Гришка ему рассказывает, где он с заезжим седоком побывал, Ефим непременно скажет:
– Охальники!.. Как есть охальники!
Все посжалось. И губернатора-то не признаешь, не будь он генерал: так себе старик, живет один, лошадей держит пару, плохоньких, часто извозчика берет… Его губернатор зовет по имени-отчеству.
Вообще, господ настоящих, с вотчинами, коренных, – один, другой, да и обчелся.
Ефим доволен хоть тем, что в розовом доме опять живет барин как следует, уже третий год, хотя и этот барин занимается не дворянским делом, не предводителем служит, а в правлении частного общества.
Про него-то они сейчас и говорили с Гришкой.
II– Ефим Иваныч! – окликнул Гришка. – Вот и Гаярин катит на вороной из правления.
– Кто? – переспросил Ефим, смотревший в другую сторону.
– Александр Ильич Гаярин, говорю, на вороной… Лошадка-то резвая, с побежкой. Чьего она будет завода?
– Должно быть, собственного.
– А нешто у них свой завод?
– Завод, в жениной вотчине, в дальней округе, там луга…
– Сама-то из богатеньких… Как, бишь, ее?..
– Антонина Сергеевна… Известно, из богатеньких… Не беднее его… И рода княжеского… Мать-то ее, Елена Павловна… Я и ту помню…
– Тех вон?.. Пересветовых?
Гришка указал глазами по направлению к Зыбину переулку, откуда, из-под изволока, виднелась верхушка большого сада.
– Известно… Князь-то приходится ей дядей, только вряд ли родным.
Ванька с самого начала этого разговора стал прислушиваться, чего лихачи не замечали.
Лошадка его поела. Он снял торбу и пододвинулся к Гришке.
– Вы про какова барина баете? – спросил он жиденьким, чисто крестьянским тенорком.
Гришка не сразу ему ответил и сначала переглянулся с Ефимом.
– Ты чего гоношишь?
– Про барина, мол, какова…
Сани с полостью, на вороном рысаке, уже поравнялись с дальним углом розового дома. В санях видна была фигура барина, в ильковой шубе и бобровой шапке-боярке.
– А тебе что? – спросил через Гришку Ефим и повел, на особый манер, своими толстыми властными губами.
– Про Гаярина баяли!.. Коли это Александр Ильич… то мы его довольно знаем. Мы завьяловские… барыни… супруги их, значит… От папеньки вотчина досталась. И ее знаем… Еще когда маленькая была… по летам-то у нас больше живали… Вот мне про кого!..
– Ишь ты! – насмешливо выговорил Гришка и стал глядеть вбок на Ваньку. – А ты, дяденька, нам отрапортуй: правда ли, что Александр Ильич, как еще молоденький был, чем там ни на есть проштрафился в Питере и как, ровно слыхали мы, под присмотром жил у себя в вотчине?.. Еще перед тем, как ему жениться…
Мужичок не сразу ответил.
Сани уже подкатили к подъезду, и барин в ильковой шубе быстро поднялся на крыльцо, обернулся лицом к кучеру, что-то сказал ему и позвонил.
– Он, он и есть, – выговорил Ванька, прищурившись вдаль. – Немного и постарел-то…
– Так как же, дяденька, – расспрашивал Гришка, – враки это все или такое с ним истинно попритчилось?
Ефим тихо улыбался, повернув голову в их сторону, но сам в разговор не вступал. И он слыхал кое-что в таком роде про Гаярина, но не любил зря болтать.
– Это точно, – выговорил Ванька и забавно тряхнул головой.
В нем виден был большой добряк, и он только смотрел "михрюткой", а в его подслеповатых глазах проглядывала смекалка и даже юмор.
– Надо так сказать, это верно, – продолжал он уже гораздо посвободнее. – Вотчина-то дальняя, его, значит, собственная, поблизости от нашей… Красный Плес прозывается… Приехал он в те поры млад-младешенек… баяли, заместо наказания его туда отправили из Питера. И спервоначалу чудил, паря…
– А что? – смешливо спрашивал Гришка.
– Да по-мужицки одеваться учал, и как следует – рубаха, портки… Чуть сенокос али жнитво – ремешок на голову взденет и пошел сам косой отмахивать. Однако жив этом его ограничили… Потому присмотр был строгий.
– Вот оно что, – как бы про себя вымолвил Ефим, не проронивший ни слова.
– Строгий… – протянул Ванька, – то и дело исправник наезжал.
– Значит, и до мужиков был хорош?
– Известное дело, паря, коли сам таким манером…
– Ну, теперь, любезный друг, косить не пойдет в ремешке, – выговорил вполголоса Ефим и поглядел на одно из окон розового дома.
– Извозчик! – сзади из переулка раздался крик и так внезапно, что даже Ефим вздрогнул.
Оба лихача враз ударили вожжами и покатили вперебивку на зов.
Ванька так и остался с недоконченным рассказом про барина, жившего в розовом доме.
Барин нашел в передней, кроме двоих лакеев во фраках при белых галстуках, еще какого-то малого, вроде посыльного или артельщика.
Пока один человек снимал с него легкую, очень дорогую ильковую шубку, другой доложил тоном дрессированного лакея, что нынче редкость, особенно в провинции:
– Из правления, с депешей, Александр Ильич… Сейчас принесли.
– После меня принесли? – спросил барин и, не снимая шапки, поглядел на адрес телеграммы и вскрыл ее тут же.
На его лице, бледном, очень тонком, с красиво подстриженною черною бородою, разделенною на две пряди, и в темно-серых острых глазах не выразилось ничего: ни досады, ни беспокойства. Только на белом, высоком, но сдавленном лбу, где плоские, лоснящиеся волосы лежали еще густою прядью, чуть заметно обозначилась одна линия, над самым носом, крепким, несколько хрящеватым, породистым. Усы он поднимал над волосами бороды, и концы их немного торчали.
– Хорошо, скажи там, что я вечером дам ответ.
– Слушаю-с, – выговорил артельщик и поклонился быстрым наклоном головы, характерным жестом местных мещан и купцов.
В дверях залы Александр Ильич остановился, поглядел вбок и назад и спросил:
– Антонина Сергеевна у себя?
– У себя-с, – ответили разом оба лакея.
– Никого нет на той половине?
– Никого нет-с.
Он прошел из залы, какие еще сохранились в губернских городах, сейчас же налево, в дверку, спустился две ступеньки и через темный коридорчик попал в свое отделение – две обширные комнаты, ниже остальной части дома, выходившие окнами в сад.
Прежде, когда дом принадлежал Порфирьевым, бывшим из рода в род предводителями, целых семь или восемь трехлетий, это были "детские".
И к ним вели ступеньки в ту и другую комнату. Первую Александр Ильич отделал себе под кабинет. По некоторым подробностям можно было распознать покой старинного помещичьего дома: по косякам окон и дверей, по притолкам и потолкам и по тому, как стоят печи. В кабинете уже недавно устроили камин из темного северного мрамора; в спальне – угловой, с четырьмя окнами – печь, в изразцах, занимала добрую четверть всего пространства. Там нарочно было мало мебели, для воздуха, обои светлые, на окнах короткие драпировки, по полу натянуто зеленое сукно, кровать железная, узкая, с байковым одеялом, на стене собрание ружей, два шкапа, кушетка, обширный умывальный стол с педалью и туалетный со множеством разных щеток и щеточек. По стенам – гравюры, старинные, английские, с кирпичным оттенком краски, перевезенные сюда из усадьбы, как и все почти остальные вещи.
Кабинет смотрел уже совсем по-новому: тяжелые гардины, мебель, крытая шагреневою кожей, с большими монограммами на спинках, книжный шкап резного дуба, обширное бюро, курильный столик, много книг и альбомов на отдельном столе, лампы, бронза, две-три масляные картины с рефлекторами и в углу – токарный станок.
Вся эта комната была устлана восточными коврами, и в ней звук шагов совершенно пропадал. Запах дорогих сигар и каких-то тонких духов, доходивший из спальни, куда вела стеклянная низкая дверь, подходил к убранству этого не очень высокого, но поместительного покоя, драпированного, по-заграничному, темно-красным сукном.
В кабинете Гаярин подошел к бюро, выдвинул один из ящиков и положил в него депешу. На письменном столе и по всей комнате замечался порядок, редко бывающий у самых аккуратных русских. Каждая вещь лежала и стояла на своем месте, но без жесткости и педантства, как будто даже с некоторою небрежностью, но над всем был неизменный надзор острых, темно-серых глаз хозяина.
Неслышными шагами прошел он в спальню. Перед обедом он, по-аглицки, менял туалет и одевался один, без прислуги.
IIIНа другом конце дома, в угловой комнате – по-старинному «диванная», – разделенной пополам перегородкою с драпировками, у маленького письменного столика сидела и дописывала письмо, в полутемноте, не зажигая свечи, жена Александра Ильича Гаярина, Антонина Сергеевна.
В ее будуаре, за перегородкой, помещалась постель, все смотрело скромно и немножко суховато: старинная мебель, белого дерева, перевезенная также из родовой усадьбы, обитая ситцем с крупными разводами, занавески из такого же ситца, люстра той же эпохи, белая, с позолотой, деревянная, в виде лебедя, обои и шкапчик с книгами, экран и портреты, больше фотографии по стенам и на письменном бюро. Никаких ненужностей и никакой склонности к новому жанру: превращать свои комнаты не то в музеи, не то в аукционные залы.
Между отделкой этой бывшей диванной и личностью женщины чувствовалось соотношение. Ни в ней, ни на ней не было ничего ненужного, с претензией, крикливого… Наружность Антонины Сергеевны в зимних сумерках выходила полутонами. Пепельные волосы уже седели, но казались как бы напудренными, очень просто, совсем не по моде, зачесанные за уши, с маленькой косой, прикрытою черным кружевом. Никаких золотых вещей, ни серег, ни браслет; худенький, узкий в плечах корсаж светло-серого, хорошо сшитого платья, со стоячим воротником; рост средний, худые тонкие руки и на правой руке одно только обручальное кольцо.
Голову она, по близорукости, низко наклоняла над листком бумаги и водила стальным пером быстро-быстро. Щеки ее, кверху, под веками, слегка покраснели. Обыкновенно лицо было бескровное, желтоватое, с чертами утомления, вдоль носа, которому вырез ноздрей, неправильный, но своеобразный, придавал несомненную пленительность. Промежуток между носом и верхней губой удлиненный, с резким желобком, и когда она говорила, эта особенность усиливала выражение больших, совсем темных глаз, очень молодых по игре и цвету. Зубы не успели еще пожелтеть – небольшие и блестящие, белизны цельного молока.
От всей фигуры этой почти сорокалетней женщины – ей пошел уже тридцать восьмой – отделялся неуловимый запах необычайной чистоплотности, редкий даже у наших светских женщин, и что-то нетронутое, целомудренное и действительно скромное проявляли ее жесты, обороты головы, движение пишущей руки и поза, в какой она сидела.
Письмо было дописано. Она его не стала перечитывать, ей не хотелось еще звонить, чтобы зажгли лампу, не хотелось зажигать свечей на своем столе; она любила эти зимние сумерки в ясные дни, с полосой ярко-пурпурного заката, видной из ее окон, в сторону переулка, позади извозчичьей биржи.
Она заклеила конверт и выпрямилась, не глядя на то, что написала, поставила адрес и прошлась по комнате.
В простенке висело узкое зеркало в раме, обитой тем же ситцем. Она мельком взглянула в него, не нужно ли ей причесаться, прилично ли все на голове.
Если "прилично", больше ей не нужно. Она не любила и не желала "рядиться" ни для себя, ни для других. Одевалась она хорошо, выписывала свои туалеты из Москвы, кое-что делала здесь. Но заказы ее сводились к трем зимним и трем летним платьям неизменно. На балы она не ездила.
Для приемов, к обеду и вечеру, она любила светлосерый туалет, бывший на ней и сегодня.
По звонку и шагам через залу она подумала о муже. Он прошел к себе и переодевается. Может быть, он найдет, что она слишком просто одета.
Ничего! Платье от Шумской, и носит она его всего с прошлого поста… Но ей представилось, когда она отошла от зеркала, бледное, красивое и значительное лицо ее мужа и его темно-серые глаза с известным ей выражением внутреннего контроля.
Под этим взглядом она постоянно чувствует себя неловко. До сих пор, по прошествии шестнадцати лет замужества, еще не умерло в ней чувство влюбленности.
Она не хочет и в таких пустяках противоречить тому, что он считает приличным, обязательным для жены такого человека, как он.
!!!!!"Il faut se devoir à sa position" [1],– приходит ей на ум его фраза.
Прежде он подобных фраз не употреблял, там, в деревне, в первые годы их супружества.
Будет обедать губернатор. Он простой старик, умный, без всяких претензий. Кто еще обедает, она не знает. Александр Ильич вскользь сказал ей:
– У нас сегодня гости, к обеду.
Распоряжается столом он, а не она, заказывает, и даже любит это, повару Василию, их деревенскому, и отдает приказания старшему лакею, Левонтию, исправляющему должность дворецкого.
От всех этих забот она не отказывалась, но муж давно уже начал заниматься и домовым хозяйством, еще в деревне. Она стала болезненна, после того как сама выкормила детей, и сына Сережу, и дочь Лили. Вести хозяйство было ей иногда в тягость. Он это заметил и устранил ее.
Теперь, в городе, с того времени, как она осталась без детей, досугу у ней очень много… Она рада была бы войти в хозяйство, но так уж заведено, а Александр Ильич не любит, чтобы менялось то, что раз заведено. С этою чертой его характера, и не с нею одной, бороться трудно, да она и не желает.
В нем, с годами, развилась особого рода уклончивость, он избегает всякого повода к столкновению с ней, даже в пустяках… А хозяйство всегда дает к этому повод… Все идет в доме по часам, без малейшей зацепки, во всем чувствуется его властная рука, его ум, забота, такт, выбор.
В доме она точно почетная жилица или начальница какого-нибудь важного учреждения, которая не входит в мелочи хозяйства… И досуг начинает тяготить ее. Ее тянет в Петербург, к детям. В конце зимы она поедет, но раньше Александру Ильичу это не понравится. Он говорит, что детей надо оставлять одних, в их заведениях, одного в лицее, другую в институте, не волновать их постоянными свиданиями, иначе они не научатся никогда "стоять на своих ногах".
Прежде, когда они были еще маленькие, и речи никогда не заходило о том, чтобы отдать их в привилегированные заведения, особенно сына в лицей, в тот лицей, где отец сам учился и откуда вынес самое недружелюбное отношение к таким "местам систематической порчи", – так он тогда выражался… И об институтах он не иначе говорил как с насмешкой.
А когда подошел им возраст "готовиться", явились на очередь и "лицей" и "институт". Она, впервые, сильно протестовала и не отстояла своего протеста. Это желание отца было первым признаком того, что прежний Гаярин, тот человек, в которого она уверовала девушкой, чьею женой стала после тяжкой борьбы, уже покачнулся.
Внутри она близка к убеждению, что это так, но ничего не может схватить резкого, крупного, такого, чтобы нельзя уже было ему не сознаться…
В чем?
Вот этого-то слова она сама и не произносит… Ей жутко, хоть она и готова становиться на его место, желает выгораживать его перед собою, перед той Антониной Сергеевной, на суд которой он когда-то любил отдавать свои мысли, чувства, упования, поступки.
И в деле воспитания детей вышло так, что он, не прибегая к спорам и окрикам, без грубого противоречия с тем, что говорил когда-то вслух, приводил при ней разные соображения и делал это исподволь долго, целый год.
Вышло так, что Сережа попал в подготовительное училище, а Лили в тот же год отвезена была в Смольный, – разумеется, в дворянское отделение, а не в Елизаветинское.
Сейчас она писала о детях кузине, княгине Мухояровой, лучшему своему другу. Сестра ее живет тоже в Петербурге, но с ней она никогда не была дружна. Она даже не очень любит, чтобы Сережа ходил к тетке по воскресеньям на целый день.
Но и в кузине, в том, как она живет, каков у ней круг знакомых, что читает, во всем этом уже больше двух лет замечает она перемену, хотя и не совсем в таком же роде, как в своем муже.
И эти думы все чаще и чаще захватывают ее по нескольку раз на дню.
Вот и теперь она так задумалась посредине комнаты, что даже с удивлением увидала, как сгустились сумерки.
Она сама зажгла свечи на письменном столе и позвонила.
Все-таки лучше было узнать, на сколько приборов накрывают, – обедали они в зале, – и спросить у Александра Ильича, можно ли ей остаться в том же платье? Она узнает и то, кончил ли он переодеваться. К нему она не входит в спальню, когда он занимается своим туалетом, да и в кабинете не любит ему мешать неожиданным приходом.
Прежде это было иначе, совсем иначе.
IVТуалет Александра Ильича Гаярина подходил к концу. Он охотно надел бы сегодня фрак, но в губернском городе это может показаться ненужною претензией. Губернатор – человек, не любящий никакой парадности, явится, наверное, в сюртуке с погонами, а не в эполетах. Другой гость – приезжий, правда, много живший и в Петербурге и за границей, но знает губернские порядки и во фраке не явится.
Английский обычай – обязательность парадного туалета для мужчин и женщин – считает он и красивым, и самым порядочным. Надо же поднимать чем-нибудь будничный строй жизни, особенно в России, в провинции, где все за последние двадцать лет так опустилось, впало в такую распущенность, дошло до полного отсутствия всякого декорума, при грубом франтовстве разночинцев.
В спальне, сидя уже одетым перед туалетным зеркалом, Александр Ильич медленно расчесывал бороду, разделяя ее на две большие пряди. Даже и при таких занятиях он не мог не думать… Фатовства в нем не было. Он видел в зеркале красивое лицо мужчины с тонким профилем, еще молодое, способное произвести впечатление не на одну женщину…
Но о женщинах он всего меньше думал. Если его потянуло из деревни, то уж, конечно, не за тем, чтобы искать здесь нетрудной интриги с какою-нибудь местною дамой… Иметь в числе знакомых тонко воспитанную женщину для "чашки чая" по вечерам было бы приятно, но такая "чашка чая" что-то не представлялась. Довольствоваться кое-чем он не хотел. Это значило бы искать связи, показывать, что ему скучно дома, что он удовлетворяется первою попавшеюся губернскою барынькой, что он вульгарный развратник.