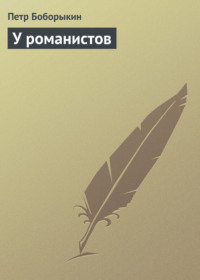За полвека. Воспоминания

Петр Дмитриевич Боборыкин
За полвека
Воспоминания
Жизнь успокаивает, как смерть,
примиряет с теми, кто мыслит или
чувствует иначе, чем мы.
М.Гюйо(«Иррелигиозность будущего».)
Кто знает: сколько каждый живу-
щий на земле оставляет семян, кото-
рым суждено взойти только после его
смерти.
Ив. Тургенев («Фауст», 7-е письмо).Вступление
Итоги писателя – Опасность всяких мемуаров – Два примера: Руссо и Шатобриан – Главные две темы этих воспоминаний: 1) жизнь и творчество русских писателей, 2) судьбы нашей интеллигенции – Тенденциозность и свобода оценок – Другая половина моих итогов: книга «Столицы мира»
Пришел час оглянуться на всю или почти всю прожитую жизнь.
Полвека, и даже с придатком, – срок достаточный. Он охватывает полосу уже вполне сознательной жизни, с того возраста, когда отрок готовится быть юношей.
Для меня – в годы моего первоначального ученья – это совпадало с переходом в пятый класс гимназии, то есть к 1851 году. Через два года я был студент.
Я высидел уже тогда четыре года на гимназической «парте», я прочел к тому времени немало книг, заглядывал даже в «Космос» Гумбольдта, знал в подлиннике драмы Шиллера; наши поэты и прозаики, иностранные романисты и рассказчики привлекали меня давно. Я был накануне первого своего литературного опыта, представленного по классу русской словесности.
Писатель уже был в зародыше.
Записки мои и будут итогами писателя по преимуществу.
Под этим заглавием «Итоги писателя» я набросал уже в начале 90-х годов, в Ницце, и дополнил в прошлом году, как бы род моей авторской, исповеди. Я не назначал ее для печати; но двум-трем моим собратам, писавшим обо мне, давал читать.
Эта чисто личная писательская исповедь появится в печати после меня.
Мемуары – предательское дело для самих авторов, да и для публики.
Для авторов – потому, что слишком велик соблазн говорить обо всем, что для читателей вовсе не интересно, перетряхать сотни житейских случаев, анекдотов, встреч, знакомств и впадать в смертный грех старчества.
Для публики – потому, что она так часто не находит того, чего законно ищет, и принуждена поглощать десятки и сотни страниц безвкусных воспоминаний, прежде чем выудить что-нибудь действительно ценное.
Мне кажется, так выходит всего чаще оттого, что составители записок не выбирают себе главной темы, то есть того ядра, вокруг которого должен кристаллизоваться их рассказ.
Без такого «ядра» всякие воспоминания будут непременно рисковать перейти в беспорядочную болтовню.
Мемуары и сами-то по себе – слишком личная вещь. Когда их автор не боится говорить о себе беспощадную, даже циническую правду, да вдобавок он очень даровит – может получиться такой «человеческий документ», как «Исповедь» Ж.-Ж. Руссо. Но и в них сколько неизлечимой возни с своим «я», сколько усилий обелить себя, обвиняя других.
И такой талант, как Шатобриан в своих «Memoires d'outre tombe» грешил, и как! той же постоянной возней с своим «я», придавая особенное значение множеству эпизодов своей жизни, в которых нет для читателей объективного интереса, после того как они уже достаточно ознакомились с личностью, складом ума, всей психикой автора этих «Замогильных записок».
На всемирную известность Руссо и Шатобриана никто из нас не будет претендовать. Я это говорю затем только, чтобы подтвердить верность того, что я сейчас написал о необходимости «ядра».
В этих воспоминаниях ядром будет по преимуществу писательский мир и все, что с ним соприкасается, и вообще жизнь русской интеллигенции, насколько я к ней приглядывался и сам разделял ее судьбы.
Это спасет меня, я надеюсь, от Излишних «оборотов на себя», как пишется на векселях. Гораздо больше речь пойдет о тех, с кем я встречался, чем о себе самом.
И всю-то русскую жизнь, через какую я проходил в течение полувека, я главным образом беру как материал, который просился бы на творческое воспроизведение. Она составит тот фон, на котором выступит все то, что наша литература, ее деятели, ее верные слуги и поборники черпали из нее.
Вопрос о том, насколько была тесна связь жизни с писательским делом, – для меня первенствующий. Была ли эта жизнь захвачена своевременно нашей беллетристикой и театром? В чем сказывались, на мой взгляд, те «опоздания», какие выходили между жизнью и писательским делом? И в чем можно видеть истинные заслуги русской интеллигенции, вместе с ее часто трагической судьбой и слабостями, недочетами, малодушием, изменами своему призванию?
Хуже всего – узкая тенденциозность, однотонный колорит мнений, чувств, оценок. Быть честным – не значит еще ходить вечно в шорах, рабски служа известному лозунгу без той смелости, которую я всегда считал высшей добродетелью писателя.
И какая, спрошу я, будет сладость для публики находить в воспоминаниях старого писателя все один и тот же «камертон», одно и то же окрашивание нравов, событий, людей и их произведений?
Этим, думается мне, грешат почти все воспоминания, за исключением уже самых безобидных, сшитых из пестрых лоскутков, без плана, без ценного содержания. То, что я предлагаю читателю здесь, почти исключительно русские воспоминания. Своих заграничных испытаний, впечатлений, встреч, отношений к тамошней интеллигенции, за целых тридцать с лишком лет, я в подробностях касаться не буду.
Тот отдел моей писательской жизни уже записан мною несколько лет назад, в зиму 1896–1897 года, в целой книге «Столицы мира», где я подводил итоги всему, что пережил, видел, слышал и зазнал в Париже и Лондоне с половины 60-х годов.
Там я сравнительно гораздо больше занимаюсь и характеристикой разных сторон французской и английской жизни, чем даже нашей в этих русских воспоминаниях. И самый план той книги – иной. Он имеет еще более объективный характер. Встречи мои и знакомства с выдающимися иностранцами (из которых все известности, а многие и всесветные знаменитости) я отметил почти целиком, и галерея получилась обширная – до полутораста лиц.
Эта книга была тогда же приобретена покойным издателем «Нивы», но по разным причинам до сих пор не напечатана.
Если читателю моих русских воспоминаний было бы интересно сопоставить оба отдела моей жизни, я, к сожалению, не могу еще удовлетворить его желание, но не по своей вине.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Нижегородская гимназия – Первые задатки – Страсть к чтению – Гувернеры – Дворовые – Николаевская эпоха – Круг чтения – Театр – Чем жило общество – Литераторы Мельников-Печорский и Авдеев – Мои дяди – Поездка в Москву – Париж на Тверской – Островский в Малом театре – Щепкин – Другие знаменитости – Садовский – Шуйский – Театральная масленица – Дружба с сестрой – Обязан женщинам многим – Босяков тогда не было – Василий Теркин – Итоги воспитывающей среды
Не помню, чтобы я при переходе из отрочества в юношеский возраст определенно мечтал уже быть писателем или «сочинителем», как тогда говорили все: и большие, и мы, маленькие. И Пушкин употреблял это слово, и в прямом смысле, а не в одном том ироническом значении, какое придают ему теперь.
Но свою умственную дорогу нас заставили самих решить еще годом раньше, при переходе в четвертый класс гимназии, то есть по четырнадцатому году.
Было это при министре просвещения Ширинском-Шихматове.
Когда мы к 1 сентября собрались после молебна, перед тем как расходиться по классам, нам, четвероклассникам, объявил инспектор, чтобы мы, поговорив дома с кем нужно, решили, как мы желаем учиться дальше: хотим ли продолжать учиться латинскому языку (нас ему учили с первого класса) для поступления в университет, или новому предмету, «законоведению», или же ни тому, ни другому. «Законоведы» будут получать чин четырнадцатого класса; университетские – право поступить без экзамена, при высших баллах; а остальные – те останутся без латыни и знания русских законов и ничего не получат; зато будут гораздо меньше учиться.
Этого мало. От нас потребовали, даже от тех, кто пожелает продолжать латынь – обозначить еще, какой факультет мы выбираем.
Теперь это показалось бы невероятным; а так оно было, и было в самый разгар «николаевского» режима, до Крымской войны, когда на нее еще не было и намека.
И по всей гимназии наделал шуму ответ гимназиста 5-го класса С-на, который написал: «на первое отделение философского факультета», что по-тогдашнему значило: в историко-филологический факультет. Второе отделение было физико-математическое.
Я нарочно начинаю с гимназии.
Место учения, где вы просидели семь лет, дает если не всему, то многому основной тон.
В моем родном городе Нижнем (где я родился и жил безвыездно почти до окончания курса) и тогда уже было два средних заведения: гимназия (полуклассическая, как везде) и дворянский институт, по курсу такая же гимназия, но с прибавкой некоторых предметов, которых у нас не читали. Институт превратился позднее в полуоткрытое заведение, но тогда он был еще интернатом и в него принимали исключительно детей потомственных и личных дворян.
И форму «институты» носили не общую (красный воротник с серебряными пуговицами, по казанскому округу), а свою – с золотыми пуговицами. Сюртуков у них не было, а только мундиры с фалдочками (как у гимназистов) и куртки.
Выбор гимназии состоялся не сразу. Меня хотели было отдавать в кадеты. Была речь и об училище правоведения. В институт не отдали, вероятно для того, чтобы держать меня дома, а также и оттого, что гимназия дешевле.
Поверят ли мне, что во все семь лет учения годовая плата была пять рублей?! Ее вносили в полугодия, да и то бывали недоимщики. Вся гимназическая выучка – с правом поступить без экзамена в университет своего округа – обходилась в 35 рублей!
Нельзя придумать более доступного, демократического заведения! Оно было им и по составу учеников, как везде. За исключением крепостных, принимали из всех податных сословий. Но дворяне и крупные чиновники не пренебрегали гимназией для детей своих, и в нашем классе очутилось больше трети барских детей, некоторые из самых первых домов в городе. А рядом – дети купцов, мелких приказных – мещан и вольноотпущенных. Один из наших одноклассников оказался сыном бывшего дворового отца своего товарища. И они были, разумеется, на «ты»…
Наша гимназия была вроде той, какая описана у меня в первых двух книгах «В путь-дорогу». Но когда я писал этот роман, я еще близко стоял ко времени моей юности. Краски наложены, быть может, гуще, чем бы я это сделал теперь. В общем верно, но полной объективности еще нет.
Если все сообразить и одно к другому прикинуть, то выйдет, что все было еще гораздо лучше, чем могло бы быть, и при этом не забывать, какое тогда стояло время.
Начать с того, что мы, мальчуганами по десятому году, уже готовили себя к долголетнему ученью и добровольно. Если б я упрашивал мать; «Готовьте меня в гусары», очень возможно, что меня отдали бы в кадеты. Но меня еще за год до поступления в первый класс учил латыни бывший приемыш-воспитанник моей тетки, кончивший курс в нашей же гимназии.
И я без всякого отвращения склонял «mensa» (стол) и спрягал «ато» (люблю), повторяя вслух «amaturus, amatura, amaturum, sim, sis, sit», и когда поступил, то знал уже наизусть Эзоповскую басню о двух раках: «Cancrum retrogradum monebat pater…» (Рак поучает сына, привыкшего пятиться задом.)
Некоторых из нас рано стали учить и новым языкам; но не это завлекало, не о светских успехах мечтали мы, а о том, что будем сначала гимназисты, а потом студенты. Да! Мечтали, и это великое дело! Студент рисовался нам как высшая ступень для того, кто учится. Он и учится и «большой». У него шпага и треугольная шляпа. Вот почему целая треть нашего класса решили сами, по четырнадцатому году, продолжать учиться латыни, без всякого давления от начальства и от родных.
Это факт характерный.
«Николаевщина» царила в русском государстве и обществе, а вот у нас, мальчуганов, не было никакого пристрастия к военщине. Из всех нас (а в классе было до тридцати человек) только двое собирались в юнкера: процент – ничтожный, если взять в соображение, какое это было время.
Но дело в том, что общий гнет совсем не чувствовался нами так, как принято признавать до сих пор в русской публицистике.
Меня дома держали строже, чем кого-либо из моих одноклассников; но эта строгость была больше внешняя, да и то по известным только пунктам. Самый главный, от которого приходилось всего обиднее, это – надзор, в виде гувернера, запрет ходить одному по улице, посещать своих товарищей без дозволения. Но на таком «положении» был едва ли не я один во всем классе. Остальные – особенно дети мелких чиновников и разночинцев – пользовались большой свободой. Да и в гимназии мы не знали настоящего гнета. Начальство, когда мы стали подрастать, то есть директор и инспектор, не внушало нам страха. Мы над ними, за глаза, подсмеивались. Секли в нашей гимназии только до четвертого класса. Да и большинство никогда не проходило через эти экзекуции. Учили нас плохо, духовное влияние учителей было малое. В этом картина классной жизни в романе «В путь-дорогу» достаточна верна. Но нас не задергивали, не муштровали, у нас было много досуга и во время самых классов читать и заниматься чем угодно. Много не учебных книжек, журналов и романов, прочитывалось на уроках. И первые по счету (мы сидели по успехам) ученики всего больше уклонялись от классной дисциплины. Уроки они знали хорошо. Сидеть и слушать, как отвечают другие, – скука. Они читали или писали переводы и упражнения для приятелей.
Мой товарищ по гимназии, впоследствии заслуженный профессор Петербургского университета В.А.Лебедев, поступил к нам в четвертый класс и прямо стал слушать законоведение. Но он был дома превосходно приготовлен отцом, доктором, по латинскому языку и мог даже говорить на нем. Он всегда делал нам переводы с русского в классы словесности или математики, иногда нескольким плохим латинистам зараз. И кончил он с золотой медалью.
Да и дома приготовление уроков брало каких-нибудь два часа. Тяжелых письменных работ мы не знали.
В результате – плохая школьная выучка; но охота к чтению и гораздо большая развитость, чем можно бы было предположить по тем временам.
Разносословный состав товарищей делал то, что мальчики не замыкались в кастовом чувстве, узнавали всякую жизнь, сходились с товарищами «простого звания».
Дурного я от этого не видал. Тех, кто был держан строго, в смысле барских запретов, жизнь в других слоях общества скорее привлекала, была чем-то вроде запретного плода. И когда, к шестому классу гимназии, меня стали держать с меньшей строгостью по части выходов из дому (хотя еще при мне и состоял гувернер), я сближался с «простецами» и любил ходить к ним, вместе готовиться, гулять, говорить о прочитанных романах, которые мы поглощали в больших количествах, беря их на наши крошечные карманные деньги из платной библиотеки.
Беллетристика – переводная и своя – и сказалась в выборе сюжета того юмористического рассказа «Фрак», который я написал по переходе в шестой класс. Он был послан в округ (как тогда делалось с лучшими ученическими сочинениями), и профессор Булич написал рецензию, где мне сильно досталось, а два очерка из деревенской жизни – «Дурачок» и «Дурочка» ученика В.Ешевского (брата покойного профессора Московского университета, которого я уже не застал в гимназии) – сильно похвалил, находя в них достоинства во вкусе тогдашних повестей Григоровича.
Мы все изумлялись тому, как он мог написать такие два очерка, и даже заподозрили подлинность этого сочинительства. Беллетриста из него не вышло, а только чиновник, кажется провиантского ведомства.
Рецензия профессора Булича привела меня в некоторое смущение и посбавила моей школьной славы.
Хотя я и не мечтал еще тогда пойти со временем по чисто писательской дороге, однако, сколько помню, я собирался уже тайно послать мой рассказ в редакцию какого-то журнала, а может, и послал.
Учитель словесности уже не так верил в мои таланты. В следующем учебном году я, не смущаясь, однако, приговором казанского профессора, написал нечто вроде продолжения похождений моего героя, и в довольно обширных размерах. Место действия был опять Петербург, куда я не попадал до 1855 года. Все это было сочинено по разным повестям и очеркам, читанным в журналах, гораздо больше, чем по каким-нибудь устным рассказам о столичной жизни.
Читал я эту эпопею вслух в классе, по мере того как писал. Все слушали с интересом, в том числе и учитель.
Репутация «бойкого пера» утвердилась за мною. Но в округ наших сочинений уже не посылали. Не было, когда мы кончали, и тех «литературных бесед», какие происходили прежде. Одну из таких бесед я описал в моем романе с известной долей вымысла по лицам и подробностям.
На этих «беседах» происходили настоящие прения, и оппонентами являлись ученики. В моей памяти удержалась в особенности одна такая беседа, где сочинение ученика седьмого класса читал сам учитель, а автор стоял около кафедры.
На меня же, в двух последних классах, возлагалась почти исключительно обязанность читать вслух отрывки из поэтических произведений и даже прозу, например из «Мертвых душ». Всего чаще читались стихотворения и главы из поэм Лермонтова.
Выходит, стало быть, что две главных словесных склонности: художественное письмо и выразительное чтение – предмет интереса всей моей писательской жизни, уже были намечены до наступления юношеского возраста, то есть до поступления в университет.
Всего более отзывалось николаевским временем тогдашнее начальство: директор и инспектор. Они оставались все те же за все время учения. Не то чтобы они были бездарны и неумелы. Директор был из учителей словесности, и Ф.И.Буслаев с сочувствием говорит о нем в своих воспоминаниях о пензенской гимназии, где учился. Тогда этот самый «Янсон Петрович» выдавался как способный преподаватель, сумевший возбуждать в учениках любовь к словесности. А у нас он превратился в алкоголика и пугалу, никогда не бывал в классах и только на экзаменах желал выказывать свои познания в латинском языке и риторике. То, что приведено в моем романе о его способе экзаменовать по стихосложению, не выдумано.
Инспектор был из наших же учителей, духовного звания, как и директор; учил нас в первых двух классах латыни очень умело, хоть и по-семинарски; но, попав в инспекторы, сделался для нас «притчей во языцех», смешной фигурой полицейского, с наслаждением ловившего мальчуганов, возглашая при этом: «Стань столбом!» или: «Дик видом».
Не то что уже обаяния, высшего руководительства, но даже простого признания их формального авторитета они в наших глазах не имели. Но, как я говорю выше, в общем весь этот школьный режим не развращал нас и не задергивал настолько, чтобы мы делались, как недавно, забитыми гимназической «муштрой».
Доказательство того, что у нас было много времени, – это запойное поглощение беллетристики и журнальных статей в тогдашней библиотеке для чтения, куда мы несли все наши деньжонки. Абонироваться было высшим пределом мечтаний, и я мог достичь этого благополучия только в шестом классе; а раньше содержатель библиотеки, старик Меледин, из балахнинских мещан, давал нам кое-какие книжки даром.
Это была типичнейшая фигура. Из малограмотных мещан уездного города он сделался настоящим просветителем Нижнего; имел на родине лавчонку, потом завел библиотеку и кончил свою жизнь заведующим городской публичной библиотекой, которая разрослась из его книгохранилища.
Он говорил на «он» и делал такие ударения: «Двадцать лет спустя», а не «спустя», называя заглавие романа Дюма-отца: «Vingt ans apres». Всякую книгу он знал и прочел, конечно, две трети томов своей библиотеки, тогда исключительно русской. С нами, подростками, он держал себя строговато и добродушно вместе, и втянуть его в разговор было нетрудно. Мы его выспрашивали насчет сюжета книжки или содержания статьи, и он умел возбуждать наш интерес, как никто. И впоследствии, в бесплатной городской библиотеке, он сам давал читателю то, что ему «нужно», видя каждого посетителя насквозь.
В такой библиотеке для чтения стоял воздух того, что теперь зовется «интеллигенцией», воздух если не научной, то словесной любознательности, склонности к произведениям изящного слова и критической мысли. Разумеется, мы бросались больше на романы. Но и в этой области рядом с Сю и Дюма читали Вальтера Скотта, Купера, Диккенса, Теккерея, Бульвера и, поменьше, Бальзака. Не по-французски, а по-русски прочел я подростком «Отец Горио» («Le Pere Goriot»), а когда мы кончали, герои Диккенса и Теккерея сделались нам близки и по разговорам старших, какие слышал я всегда и дома, где тетка моя и ее муж зачитывались английскими романистами, Жорж Зандом и Бальзаком, и почти исключительно в русских переводах.
Наших беллетристов мы успели поглотить если не всех, то многих, включая и старых повествователей и самых тогда новых, от Нарежного и Полевого до Соллогуба, Гребенки, Буткова, Зинаиды Р-вой, Юрьевой (мать А.Ф.Кони), Вонлярлярского, Вельтмана, графини Ростопчиной, Авдеева – тогда «путейского» офицера на службе в Нижнем.
«Евгений Онегин», «Капитанская дочка», «Повести Белкина», «Арабески» Гоголя, «Мертвые души» и «Герой нашего времени» стояли над этим. Тургенева мы уже знали; но Писемский, Гончаров и Григорович привлекали нас больше. Все это было до 1853 года включительно.
Самое ценное, что было в гимназии, это идея открытого и всесословного заведения. Она была для каждого неглупого мальчика символом знания, умственной культуры, преддверием в университет.
Вместе со многими моими товарищами-дворянами, детьми местных помещиков и крупных чиновников, я был, в полном смысле, питомец министерства «народного просвещения», за ученье которого заплатили те же тридцать пять рублей за семилетний курс, как и за сына какой-нибудь торговки на Нижнем базаре или мелкого портного.
Бытовая сторона жизни гимназиста для будущего писателя была бы еще богаче содержанием, если б меня не так строго держали дома, если б до шестнадцатилетнего возраста при мне не состояли гувернеры.
Об этих гувернерах я уже рассказывал в отдельных очерках. Они печатались когда-то в газете «Новости», лет около двадцати назад.
Как учителя они были плохи. Не очень хороши и как воспитатели; но они нас не портили. А многое общекультурное пришло прямо через них. Немец, сын пастора в приволжской колонии, был ограниченный малый, но добродушный и умел привязать к себе, влиял всем своим бытовым складом, развивал рассказами, возбуждая любознательность, давал чувствовать, что такое сохранять достоинство и в некрасной доле «немца». Француз, живший у нас около четырех лет, лицо скорее комическое, с разными слабостями и чудачествами, был обломок великой эпохи, бывший военный врач в армии Наполеона, взятый в плен в 1812 году казаками около города Орши, потом «штаб-лекарь» русской службы, к старости опустившийся до заработка домашнего преподавателя.
От него чего я только не наслушался! Он видал маленького капрала целыми годами, служил в Италии еще при консульстве, любил итальянский язык, читал довольно много и всегда делился прочитанным, писал стихи и играл на флейточке. Знал порядочно и по-латыни и не без гордости показывал свою диссертацию на звание русского «штаб-лекаря» о холере: «De cholera morbus».
Это была старая Европа, Франция героической эпохи, не умиравший до смерти интерес к умственным и художественным впечатлениям! А то, чего он не мог мне дать как преподаватель, то доделал другой француз – А.-И. де Венси (de Vincy), тоже обломок великой эпохи, но с прекрасным образованием, бывший артиллерийский офицер времен Реставрации, воспитанник политехнической школы, застрявший в русской провинции, где сделался учителем и умер, нажив три дома. Ему я обязан очень большой словесной муштрой, вплоть до выхода из гимназии, на тех уроках, которые ходил брать у него на дому. Так, насколько я потом наблюдал, уже не учили и самые патентованные педагоги. О простых гимназических учителях и говорить нечего.
Уроки дома языков, музыки, учителя и репетиторы, вплоть до семинаристов, делали ученье разнообразным и позволяли завязывать приятельские отношения со всем этим народом, не исключая и семинаристов, являвшихся ко мне зимой в тулупах, покрытых нанкой.
И все это шло как-то само собой в доме, где я рос один, без особенного вмешательства родных и даже гувернеров. Факт тот, что если физическая сторона организма мало развивалась – но далеко не у всех моих товарищей, то голова работала. В сущности, целый день она была в работе. До двух с половиной часов – гимназия, потом частные учителя, потом готовиться к завтрашнему дню, а вечером – чтение, рисование или музыка, кроме послеобеденных уроков.