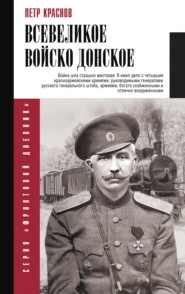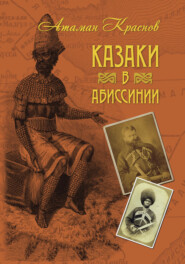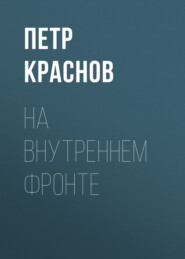По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Цареубийцы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Все это Вера переживала болезненно. Она осторожно расспрашивала деда о тех войнах, в которых тот участвовал. Она с трепетом слушала его рассказы о тысячах убитых, о раненых, умирающих на поле без помощи, о голоде и жажде, о героизме русского офицера и солдата.
Она думала: «Тут не один случайно убившийся матрос – несчастный случай, воля Божия, тут предумышленное убийство, массовое истребление ближних».
Было страшно. Ночью вдруг проснется Вера и долго лежит, устремив глаза в угол, где перед образом Казанской Божией Матери в синем стекле мигает лампада, затепленная горничной. Сама Вера уже не возжигала лампады. Крошечное семя сомнения, неверия, материализма, посеянное в ее сердце князем Болотневым и теми книгами, которые она читала, разрасталось громадным деревом.
Вера смотрела в сумрак спальни на игру теней на золотом окладе и лике Пречистой и думала: «Война недопустима с христианской точки зрения, недопустима и с точки зрения социализма, зовущего к общему миру, свободе, равенству и братству».
Вера читала Достоевского и слышала, как про него говорили: «Пророк… провидец… знаток человеческой души… сам много перестрадал и знает до дна душу русского человека». Вера знала биографию Достоевского, слышала о деле петрашевцев, о том, как замешанный в этом деле Достоевский был приговорен к смертной казни и прощен уже на эшафоте. Знала, что он отбывал каторжные работы в Сибири. Она читала «Записки из мертвого дома» и, читая, сознавала, что человек, так много переживший и повидавший, может знать больше других людей.
Вере казалось, что Достоевский должен непременно осудить войну, что он должен быть единомышленником тех студентов и курсисток, которые митинговали на Казанской площади, что он, так много сам страдавший, должен всею душою понять, что такое война, и что он укрепит все то, что продумала Вера в долгие молодые бессонные ночи, когда так мучительны думы и так хочется на кого-нибудь опереться, кем-нибудь подтвердить продуманное и выношенное.
Но перед Верой встал сейчас же вопрос: как пойдет она к совершенно незнакомому, «не представленному ей» человеку? Как пойдет к чужому мужчине – она, девушка? После долгих размышлений она пришла к выводу, что писатель, которого она столько раз читала и перечитывала, стал для нее как бы знакомым, что она все это объяснит, что он человек немолодой, поймет и не осудит ее. Вера думала: «А если бы я была курсисткой? Перовская, наверное, пошла бы». Колебания и сомнения продолжались долго, наконец Вера решилась.
Было то предвесеннее время в Петербурге, когда основной лед на Неве уже прошел, снег лежал только по окраинам, где его не сгребали и не вывозили, а в центре гремят железными шинами колеса дрожек по обнаженной мостовой, звенят ручьи стекающей по трубам в кадки воды с крыш, уже местами обнаженных, без снега, когда у водопойных колод особенно ароматно пахнет растоптанным лошадьми сеном и громко воркуют голуби, а извозчичьи лошади стоят в блестящих завитках еще зимней шерсти и мотают головами с навешенными на них торбами, разбрасывая овес, словно чтобы нарочно дать подкормиться голубям и звонко кричащим воробьям; когда на деревьях садов и скверов уже нет инея, но ветки набухли внутренними соками и нет-нет да и проглянет сквозь легкие тучи клочок голубого неба и ярко заблестит на мокрой мостовой солнце – и станет тогда все по-весеннему радостно.
Вера шла, бойко постукивая каблуками, направляясь по Владимирскому проспекту в Кузнечный переулок – к Достоевскому. Она поднялась на четвертый этаж скучного и темного доходного дома и позвонила в колокольчик на пружине.
За дверью послышался тяжелый кашель, звякнул откладываемый крюк, и дверь медленно открылась. Отворил ее сам писатель.
– Простите, Федор Михайлович, – сказала робко Вера, – могу я попросить у вас несколько минут времени?
– По делам редакции? – стоя в дверях, сказал Достоевский.
– Нет… По личному, очень важному делу.
Достоевский внимательно из сумрака прихожей вгляделся в смущенное, порозовевшее лицо Веры, окинул взглядом ее скромный, но дорогой костюм, попятился назад и, приглашая рукою войти, сказал:
– Тогда пожалуйте ко мне, в кабинет.
Несмотря на то что день был светлый, солнечный, в кабинете Федора Михайловича было сумрачно. Единственное окно с двойными рамами, выходившее на тенистый петербургский двор, было мутно и запылено. Между рамами, в вате с пестрыми шерстинками, были вдвинуты стаканчики с ржавой водой. Большой стол стоял боком к окну. Он был завален рукописями и длинными полосами корректурных гранок. На полу лежали перевязанные веревками высокие стопки книг «Дневника писателя». Против стола был книжный шкаф, два кресла и широкий диван, обитый потертым коричневым репсом. На круглом столе подле дивана – графин с водой и два граненых стакана. Керосиновая лампа под зеленым картонным абажуром стояла на письменном столе. Все это мелькнуло, как в тумане, перед глазами смущенной Веры, но запомнилось навсегда.
Писательская бедность, большой, тяжелый, одинокий труд, борьба с врагами, завистниками и ненавистниками, временами, вероятно, томящая усталость и мучительная болезнь, казалось, смотрели из этой скромной обстановки.
– Я к вашим услугам, сударыня, – сказал Достоевский, подвинув кресло Вере, и сам тяжело опустился в широкое кресло у письменного стола.
Вера молча смотрела на сухое, изможденное лицо писателя. Из-под низко опущенных над глазными впадинами тонких прямых бровей сосредоточенно и умно глядели темные, ушедшие в себя глаза. Они напомнили Вере другие глаза. Вот так же пристально, бывало, смотрел на нее духовник в институте, когда, трепетная и верующая, смущенная и пристыженная, стояла она за ширмами, на клиросе, и готовилась каяться в своих детских грехах. Федор Михайлович не духовник, не священник, святости сана нет на нем, и Вера пришла к нему не с грехами и покаянием, но с вопросами и сомнениями.
– Так в чем же дело? Садитесь, пожалуйста, – повторил Достоевский. – Я вас слушаю.
– Простите, пожалуйста, – сказала Вера и замолчала.
В кабинете было жарко, и Вера расстегнула кофточку и сняла с шеи шарфик. Потом решилась и начала говорить то, что давно в бессонные ночи придумала сказать:
– Это очень бесцеремонно и неумно с моей стороны. Вы же меня совсем не знаете… Но мне так трудно все эти дни. Все это время я боролась с собою… У меня столько сомнений… Мои дядя и троюродный брат уехали на войну… Кругом люди едут на войну… Но ведь война – это ужас! Война – это умышленное убийство! – с отчаянием почти прокричала Вера. – И как совместить это с правдой, о которой вы так много и так сильно писали… Я ищу и хочу знать эту правду. И я слышала, что и народ русский ищет и верит в правду. Как же поймет народ войну? Как? Что скажет он, когда гонят его на войну…
– Он идет на войну, – тихо вставил в страстную речь Веры Достоевский.
– Идет, – как бы не веря своим ушам, повторила Вера. – Идет… Но разве он понимает, зачем он идет?.. Убивать!.. Славяне… Славянский вопрос? Доступно это его пониманию? Я понимаю, мой дядя, он это знает – он это изучал… Но народ?.. Они, мужики то есть, они, я знаю, и газет не читают…
– Да, конечно, – серьезно и вдумчиво начал Достоевский, – про славян и славянский вопрос народ наш в массе своей ничего не знает. Может быть, один кто-нибудь на много сотен тысяч деревенский грамотей или побывавший в городе человек слыхал, что есть там какие-то сербы, черногорцы, болгары, единоверцы наши… Но весь народ-то наш, почти весь или в чрезвычайном большинстве, слышал и знает, что есть православные христиане под игом Магометовым, что они страдают и мучаются… Что самые святые для нас, христиан, места – Иерусалим, Афон – принадлежат иноверцам. Ведь столько паломников ежегодно со всей святой Руси идет поклониться гробу Господню. Ну и приносят оттуда вести о том, как мучительно тяжело там православным… Вот эти-то самые муки от иноверцев, эта несправедливость, эта неправда и известна народу… Вот почему так охотно жертвуют все – и простые и знатные – на добровольцев.
– Да… Добровольцы… Это другое… Но вы знаете, что война уже объявлена…
– Конечно, знаю… Но ведь это, сударыня, война, еще неслыханная никогда… Да было ли когда-нибудь, чтобы война начиналась не для того, чтобы отнять жизнь и свободу, поработить народ, а напротив – за слабых и угнетенных, для того, чтобы им дать и жизнь и свободу. Эта неслыханная в мире цель войны для верующих в Христа утвердила веру в них… а для холодной, материалистической Европы явилась большим соблазном. И Европа нам не поверила. Она возмутилась, назвала нашу войну коварством… И испугалась… И пугает Европу не то, что война может усилить Россию, но то, что Россия способна на такое благородство, на какое Европа неспособна. Предпринимать что-нибудь не для прямой своей выгоды материалистической Европе кажется столь непривычным, столь вышедшим из международных обычаев, что поступок России принимается Европой как варварство отставшей и непросвещенной нации, способной на низость и глупость затеять в наш век что-то вроде прежде бывших в темные века крестовых походов. Так перевернулись понятия, что Европе это кажется безнравственным и угрожающим ее будто бы великой цивилизации.
– Это говорите вы, Федор Михайлович, и я вас понимаю вполне, но как поймет все это народ?
– Характерной чертой русского народа является искание правды и беспокойство о ней… С этого, кажется, мы и начали нашу беседу с вами. И наш народ теперь именно и обеспокоен нравственно. Обеспокоен судьбою тех несчастных, кто страдает от турок.
– Да, – тихо сказала Вера. – Все это ясно… Но как совместить это с тем, что сказано: «не убий»?.. Там насилие. На него ответить насилием еще большим!.. Вот где, мне кажется, лежит зло войны. Война – это страшный бич.
– Не всегда война – бич!.. Иногда война – спасение.
– Как же это может быть?..
– Все зависит от цели войны. В нынешнем случае – какая великодушная цель! Освобождение угнетенных!.. Идея войны бескорыстна и свята!
– Ужас!..
– Да, верно – ужас… Но и гроза – ужас. Валит деревья, молнией сжигает дома… Но и очищает воздух. Эта война тоже очистит воздух от скопившихся миазмов. Она излечит наши души, прогонит позорную трусость и лень. Эта война укрепит слабых сознанием нашего самопожертвования. Дух всего русского народа, а с ним и освобожденного славянства подымется и воспарит от сознания солидарности и общего единения, составляющих то, что мы называем нацией!.. Ведь, сударыня, нет ничего выше сознания исполненного долга!.. А когда притом долг в хорошем, святом деле – что выше и лучше этого?!
Не того ожидала Вера от писателя Достоевского, пророка, провидца, читавшего в душах людей, самого так много страдавшего. Она встала и сказала, протягивая руку:
– Благодарю вас… И простите, что обеспокоила вас и отняла ваше время… Вас, верно, часто так беспокоят… Прощайте.
Достоевский провожал Веру. Он поднял вверх тяжелый, тугой крюк входной двери. Когда Вера уже была на лестнице, пронизанной золотыми лучами солнца, игравшими перламутровыми пылинками, Достоевский вышел за Верой на площадку и, осиянный солнцем, сказал глубоко, сильно и проникновенно:
– Помните слова Христа: «Больше сея любве никто же имать, да кто душу свою положит за други своя…» Тут – это… В полной мере-с… В полной-с!..
Вера остановилась. Она одной рукой держалась за перила лестницы и повернулась лицом к писателю. Серебром горели волосы, тонкая бородка шевелилась на груди. Глаза смотрели остро и строго… «Пророк», – подумала Вера.
– Выходит, – с вызовом, гордо вскинув голову, сказала Вера, – жить по Евангелию?..
– Как же иначе-то!.. – твердо произнес Достоевский. – Иного пути нет-с!.. На нем истина!..
Он попятился назад, скрылся в тень. Медленно, шурша обивочной клеенкой по каменным плитам, замкнулась дверь. Было слышно, как крепко щелкнул закладываемый крюк.
Точно отгораживался писатель от сумасбродной девицы.
Часть вторая
I
Порфирий ехал в действующую армию. Так его и провожали – на войну!.. Графиня Лиля служила в часовне Христа Спасителя на Петербургской стороне напутственный молебен. Даже скептически смотревший на войну отец благословил Порфирия образом, а приехал Порфирий в Кишинев и никакой войны, никакой действующей армии не нашел.
Был март. Стоял мороз, и была колоть. Небо было синее и солнце по-южному яркое, но не греющее. Ледяной ветер шумел в высоких голых раинах улицы-бульвара. Мороз хватал за нос и за уши. Фаэтон то катился по накатанной колее, то погромыхивал и покряхтывал на замерзших колеях недавно здесь бывшей ужасающей грязи. Со двора казарм Житомирского полка неслись крики команд:
– К церемониальному маршу… поротно, на двухвзводные дистанции…