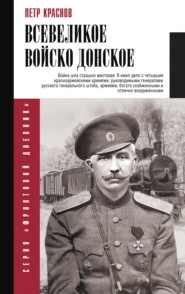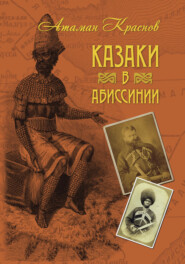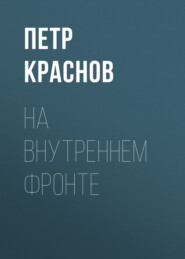По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ненависть
Автор
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, это, сказала тоже, мать. У них ить гатчинские гуси, а наши донские… Полагаю я, немалая разница. Попробуют, поди – поймут, какие слаже. А Шурочка… Ей-богу, кабы не двоюродная – вот нашему Степану невеста… Так я, мать, пойду распоряжусь, а ты рогожи и холсты приготовь.
* * *
Только хотели садиться полудничать, как на дворе залаяли собаки.
– Кого это Бог несет, – сказал, поднимаясь из-за стола, Тихон Иванович. – А ить это кум!.. Николай Финогенович… Аннушка, – крикнул он девушке, прислуживавшей у стола, – проси гостя, да поставь еще прибор.
Столовая, узкая комната, с одним окном на станичную улицу, отделенную маленьким палисадником и с двумя широкими окнами на галдарейку со стеклянною стеною, была вся напоена ярким, зимним, солнечным светом.
Тихон Иванович достал хрустальные графинчики с водками. Заиграл радужными цветными огнями хрусталь в солнечном луче.
– Пост, ведь, Тиша, – тихо сказала Наденька. – Можно ли?
– И, мать… Не знаешь. Казаку и водка постная. Что в ней – хлеб, да тмин, да тысячелистник? Гость дорогой, уважаемый кум, притом же хуторской атаман. Да и старик. Георгиевский кавалер. Как можно такого гостя да не уважить?
Николай Финогенович Калмыков, хорунжий из простых казаков, высокий, плотный, крепкий, осанистый появился на пороге комнаты, истово перекрестился на иконы, почтительно поцеловал руку у Наденьки и крепкими мужицкими пальцами принял тонкую руку Тихона Ивановича.
– Ты прости меня, кум. Сам понимаю: «незваный гость хуже татарина». Да ить дело-то какое у меня. Спозаранку встамши, услыхал я – гуси у тебя кричат, ну и догадался. Значит, к празднику режут. Посылку готовите сродственникам. Вот я и пришел вам поклониться.
Старый казак, разгладив широкой ладонью окладистую седую бороду, низко в пояс поклонился сначала хозяину, потом и хозяйке.
Он был в длинном, до колен, чекмене, без погон, серого домодельного сукна, в синих с широким алым лампасом шароварах и в низких стоптанных сапогах на высоких каблуках.
Как ни привыкла Наденька к станице и ее обитателям, но всякий раз, как приходили к ней такие старики, как Калмыков, ей казалось, что это были совсем особенные люди. Да и люди ли еще? Калмыков был еще и не так большого роста, ниже во всяком случае ее Тихона, а вошел и точно собою всю горницу наполнил. Густые седые волосы серебряной волной ниспадали к бурому уху, где посверкивала серебряная серьга, усы, борода, все было какое-то иконописное, точно сорвавшееся с картины Васнецова, с его богатырей на заставе. На Георгиевской ленточке на груди висел серебряный крестик, крепкие, сильные руки прочно легли на стол. Человек без образования, полуграмотный, в полку был вахмистром, а случись что, к кому идти за советом, кто научит, как с коровами обращаться, кто по каким-то ему одному ведомым приметам скажет, когда наступит пора пахать, когда сеять, когда косить? Точно кончил он какой-то особенный, жизненный университет, с особыми практическими дисциплинами и с прочными, непоколебимыми убеждениями вошел в жизнь, чтобы так и идти, никуда не сворачивая. Который раз единодушно и единогласно избирался он хуторским атаманом и с каким тактом атаманил на хуторе. Как умел он подойти к ней, столичной барыне, и как умел обойтись с хуторскими казачками, лущившими тыквенные и подсолнечные семечки. Одним языком и об совсем особом говорил он с Тихоном Ивановичем и иначе говорил с казаками-малолетками. Проскочит иной раз неверно услышанное «ученое» слово, скажет «волосапет», «канкаренция», «ихфизономия», но так скажет, что и не поймешь, – нарочно он так сказал или не знает, как надо говорить.
Тихон Иванович очень полюбил своего кума и часто отводил с ним душу, беседуя то на хозяйственные темы, то говоря с ним о том, что у него на душе наболело.
– Садись, садись, Николай Финогенович, гостем будешь.
– Да вы как же, ужли же не полдничали еще?
– Припоздали маленько, с птицей возившись, – сказала Наденька, – милости просим, откушайте нашего хлеба-соли.
– Разве что только попробовать, – сказал Николай Финогенович, усаживаясь на пододвинутый ему Аннушкой стул.
И сел он прочно, точно вместе со стулом врос в землю, как громадный кряжистый дуб.
– Какой начнем?.. Простой?.. Или Баклановской?.. Глянь-ка каким огнем в ней перец-то горит! Чистый рубин! Или мягчительное, на зелененькой травке, или полынной?
– Да уж давайте полынной.
– Икорки, Николай Финогенович?
– Да что это вы право, Тихон Иванович, на меня разоряетесь, а ить я еще к вам притом же и с просьбою. Ну, бывайте здоровеньки!
– И тебе того же.
– Огонь, а не водка… Так вот, Тихон Иванович, иду это я, значит, сегодня на баз, скотине корма задать, и слышу – гуси у вас раскричались. Меня как осенило: значит, кумовья посылку своим готовят. Так?.. Угадал, аль нет?..
– Угадали, Николай Финогенович. Рождество близко. Пора своим послать, чем Господь нас благословил… Еще позволишь?..
– Разве уже по маленькой?.. Когда же посылать-то надумали?
– Если погода продержит, завтра с рассветом коней запрягу, да и айда на станцию.
– Так… так… Вот к вам моя просьбица. Не свезете ли вы и мои посылочки… Ить у меня в лейб-гвардейском полку внук, сухарей ему домашних старуха моя изготовила, мешок, да горшочек своего медку… Ишшо племенник у меня в Питере в училище, хотелось бы ему колбас домашних, да окорочок ветчинки…
– Что же… Валяй, вместе все и отправлю.
– Спасибочко!.. Вы ить, Тихон Иванович, в январе и на службу…
– Да в полк. Опять мать одна останется за хозяйством смотреть. Уж у меня на тебя надежда, что ты ее не забудешь, поможешь, когда нужда придет.
– Это уже не извольте беспокоиться.
– С рабочими теперь трудно стало.
– И всегда нелегко было, Тихон Иванович.
– Этот год, не знаю сам почему, мне как-то особенно трудно уходить на службу.
– Что так?..
– Да, пустяки, конечно… Страхи ночные. Бес полуночный.
– А вы его крестом, Тихон Иванович. Он супротив креста не устоит. Мигом в прах рассыпется.
– Я тебе, Николай Феногенович, про своего племянника, Володьку не рассказывал?
– Видать – видал у вас летом какой-то скубент по куреню вашему шатался, а рассказывать – ничего не рассказывали.
– Ну так вот, слушай… Еще рюмочку под постный борщ пропустим. Смутил меня в тот приезд Володька, можно сказать, сна лишил, шалай проклятый, сукин кот!.. Видишь ли ты, какая у меня вышла с ним преотвратительная история.
– Прошлым летом, значит, приезжает ко мне мой племянник и в самый разгар лета. На степу косить кончали, стога пометали, выгорать стала степь.
Николай Финогенович, со смаком закусывая большим ломтем пшеничного хлеба, уписывал тарелку щей, Тихон Иванович и есть перестал, тарелку отставил и повернулся пол-оборотом к гостю.
– Приезжает… Под вечер дело уже было. Подрядил он хохла на станции, в бричке приехал. Телеграммы мне не давал, значит, по-новому, не хотел родного дядю беспокоить. А сам понимаешь, какое тут беспокойство – одна радость – родного племянника принять. Вылазит из брички… Я его допреж не видал. Росту он среднего, так, щупловатый немного, с лица чист. Студенческая куртка на нем на опашь надета поверх рубашки красной, ну, фуражка. Я было обнять его хотел, расцеловать, как полагается, по-родственному… Чувствую – отстраняется. Значит, опять по-новому, без родственных нежностей. Отвели мы его в горницу, вечерять сготовили, про родных расспросили, а наутро обещал я ему хозяйство свое показать, похвалиться тем, что сам своими трудами создал.
– Так ить и то, похвалиться-то есть чем, – сказал Николай Финогенович и невольно подставил тарелку под протянутый ему Надеждой Петровной уполовник со щами… – Ну и щи у вас, мать-командирша, – сказал он, как бы оправдываясь, – не поверишь, что постные. Не иначе, как вы там чего-нибудь такого да положили. Замечательные щи. Моей старухе у вас поучиться надо.
– Наутро… А уже какое там утро!.. Все кочета давным-давно пропели, рабочий день в полном ходу. А я, знаете, с Павлом-работником все прибрал, верите ли по саду, по двору, по стежкам белым песочком присыпали, где у плетня дурнопьян порос повыдергали, чисто, как на инспекторский смотр какой изготовился. Ну да понимаете, ее сестры сын, родной же!.. Я ведь их всех как полюбил! Отец его опять же замечательный человек, математик!.. Астроном! Думаю, пусть посмотрит, как в степу люди живут, как с песками, с засухой борются, как с природой воюют, как все сами добывают, да в Питере потом своим и расскажет…
– Да и точно есть ить чего и показать, – опять повторил гость.
– Ну, ладно. Выходит. Куртка на нем белая, ну, чисто, женская кофта, воротник широкий, отложной на грудь спускается, шея, грудь открытые, чисто девка… Срамота смотреть… Мне перед работником стыдно за него. Конечно, жара, да только лучше бы он в одной рубахе что ли вышел, чем в таком-то костюме. Хотел ему замечание сделать по-родственному, однако сдержался. Вижу, все одно не поймет он меня. Студент… Мать ему к чаю-то напекла, наготовила, чего только на стол не наставила. И каймак, и масло свежее, сама вручную сбивала, и хлебцы, и коржики, и сухари, и бурсачки, и баранки… Он и не глянул, чаю постного, без ничего, хватил два стакана, задымил папиросу, а я этого, знаете, не люблю, чтобы, где иконы, курили, и говорит: «что же, пойдемте, Тихон Иванович, посмотрим»… Понимаешь, не – «дядя», – а «Тихон Иванович»… Это чтобы грань какую-то положить между нами.
– Да полно, Тихон, – сказала Наденька. – Право… Одно воображение. Ничего у него такого в душе не было. Просто стеснялся молодой человек. Первый раз в доме.
* * *
Только хотели садиться полудничать, как на дворе залаяли собаки.
– Кого это Бог несет, – сказал, поднимаясь из-за стола, Тихон Иванович. – А ить это кум!.. Николай Финогенович… Аннушка, – крикнул он девушке, прислуживавшей у стола, – проси гостя, да поставь еще прибор.
Столовая, узкая комната, с одним окном на станичную улицу, отделенную маленьким палисадником и с двумя широкими окнами на галдарейку со стеклянною стеною, была вся напоена ярким, зимним, солнечным светом.
Тихон Иванович достал хрустальные графинчики с водками. Заиграл радужными цветными огнями хрусталь в солнечном луче.
– Пост, ведь, Тиша, – тихо сказала Наденька. – Можно ли?
– И, мать… Не знаешь. Казаку и водка постная. Что в ней – хлеб, да тмин, да тысячелистник? Гость дорогой, уважаемый кум, притом же хуторской атаман. Да и старик. Георгиевский кавалер. Как можно такого гостя да не уважить?
Николай Финогенович Калмыков, хорунжий из простых казаков, высокий, плотный, крепкий, осанистый появился на пороге комнаты, истово перекрестился на иконы, почтительно поцеловал руку у Наденьки и крепкими мужицкими пальцами принял тонкую руку Тихона Ивановича.
– Ты прости меня, кум. Сам понимаю: «незваный гость хуже татарина». Да ить дело-то какое у меня. Спозаранку встамши, услыхал я – гуси у тебя кричат, ну и догадался. Значит, к празднику режут. Посылку готовите сродственникам. Вот я и пришел вам поклониться.
Старый казак, разгладив широкой ладонью окладистую седую бороду, низко в пояс поклонился сначала хозяину, потом и хозяйке.
Он был в длинном, до колен, чекмене, без погон, серого домодельного сукна, в синих с широким алым лампасом шароварах и в низких стоптанных сапогах на высоких каблуках.
Как ни привыкла Наденька к станице и ее обитателям, но всякий раз, как приходили к ней такие старики, как Калмыков, ей казалось, что это были совсем особенные люди. Да и люди ли еще? Калмыков был еще и не так большого роста, ниже во всяком случае ее Тихона, а вошел и точно собою всю горницу наполнил. Густые седые волосы серебряной волной ниспадали к бурому уху, где посверкивала серебряная серьга, усы, борода, все было какое-то иконописное, точно сорвавшееся с картины Васнецова, с его богатырей на заставе. На Георгиевской ленточке на груди висел серебряный крестик, крепкие, сильные руки прочно легли на стол. Человек без образования, полуграмотный, в полку был вахмистром, а случись что, к кому идти за советом, кто научит, как с коровами обращаться, кто по каким-то ему одному ведомым приметам скажет, когда наступит пора пахать, когда сеять, когда косить? Точно кончил он какой-то особенный, жизненный университет, с особыми практическими дисциплинами и с прочными, непоколебимыми убеждениями вошел в жизнь, чтобы так и идти, никуда не сворачивая. Который раз единодушно и единогласно избирался он хуторским атаманом и с каким тактом атаманил на хуторе. Как умел он подойти к ней, столичной барыне, и как умел обойтись с хуторскими казачками, лущившими тыквенные и подсолнечные семечки. Одним языком и об совсем особом говорил он с Тихоном Ивановичем и иначе говорил с казаками-малолетками. Проскочит иной раз неверно услышанное «ученое» слово, скажет «волосапет», «канкаренция», «ихфизономия», но так скажет, что и не поймешь, – нарочно он так сказал или не знает, как надо говорить.
Тихон Иванович очень полюбил своего кума и часто отводил с ним душу, беседуя то на хозяйственные темы, то говоря с ним о том, что у него на душе наболело.
– Садись, садись, Николай Финогенович, гостем будешь.
– Да вы как же, ужли же не полдничали еще?
– Припоздали маленько, с птицей возившись, – сказала Наденька, – милости просим, откушайте нашего хлеба-соли.
– Разве что только попробовать, – сказал Николай Финогенович, усаживаясь на пододвинутый ему Аннушкой стул.
И сел он прочно, точно вместе со стулом врос в землю, как громадный кряжистый дуб.
– Какой начнем?.. Простой?.. Или Баклановской?.. Глянь-ка каким огнем в ней перец-то горит! Чистый рубин! Или мягчительное, на зелененькой травке, или полынной?
– Да уж давайте полынной.
– Икорки, Николай Финогенович?
– Да что это вы право, Тихон Иванович, на меня разоряетесь, а ить я еще к вам притом же и с просьбою. Ну, бывайте здоровеньки!
– И тебе того же.
– Огонь, а не водка… Так вот, Тихон Иванович, иду это я, значит, сегодня на баз, скотине корма задать, и слышу – гуси у вас раскричались. Меня как осенило: значит, кумовья посылку своим готовят. Так?.. Угадал, аль нет?..
– Угадали, Николай Финогенович. Рождество близко. Пора своим послать, чем Господь нас благословил… Еще позволишь?..
– Разве уже по маленькой?.. Когда же посылать-то надумали?
– Если погода продержит, завтра с рассветом коней запрягу, да и айда на станцию.
– Так… так… Вот к вам моя просьбица. Не свезете ли вы и мои посылочки… Ить у меня в лейб-гвардейском полку внук, сухарей ему домашних старуха моя изготовила, мешок, да горшочек своего медку… Ишшо племенник у меня в Питере в училище, хотелось бы ему колбас домашних, да окорочок ветчинки…
– Что же… Валяй, вместе все и отправлю.
– Спасибочко!.. Вы ить, Тихон Иванович, в январе и на службу…
– Да в полк. Опять мать одна останется за хозяйством смотреть. Уж у меня на тебя надежда, что ты ее не забудешь, поможешь, когда нужда придет.
– Это уже не извольте беспокоиться.
– С рабочими теперь трудно стало.
– И всегда нелегко было, Тихон Иванович.
– Этот год, не знаю сам почему, мне как-то особенно трудно уходить на службу.
– Что так?..
– Да, пустяки, конечно… Страхи ночные. Бес полуночный.
– А вы его крестом, Тихон Иванович. Он супротив креста не устоит. Мигом в прах рассыпется.
– Я тебе, Николай Феногенович, про своего племянника, Володьку не рассказывал?
– Видать – видал у вас летом какой-то скубент по куреню вашему шатался, а рассказывать – ничего не рассказывали.
– Ну так вот, слушай… Еще рюмочку под постный борщ пропустим. Смутил меня в тот приезд Володька, можно сказать, сна лишил, шалай проклятый, сукин кот!.. Видишь ли ты, какая у меня вышла с ним преотвратительная история.
– Прошлым летом, значит, приезжает ко мне мой племянник и в самый разгар лета. На степу косить кончали, стога пометали, выгорать стала степь.
Николай Финогенович, со смаком закусывая большим ломтем пшеничного хлеба, уписывал тарелку щей, Тихон Иванович и есть перестал, тарелку отставил и повернулся пол-оборотом к гостю.
– Приезжает… Под вечер дело уже было. Подрядил он хохла на станции, в бричке приехал. Телеграммы мне не давал, значит, по-новому, не хотел родного дядю беспокоить. А сам понимаешь, какое тут беспокойство – одна радость – родного племянника принять. Вылазит из брички… Я его допреж не видал. Росту он среднего, так, щупловатый немного, с лица чист. Студенческая куртка на нем на опашь надета поверх рубашки красной, ну, фуражка. Я было обнять его хотел, расцеловать, как полагается, по-родственному… Чувствую – отстраняется. Значит, опять по-новому, без родственных нежностей. Отвели мы его в горницу, вечерять сготовили, про родных расспросили, а наутро обещал я ему хозяйство свое показать, похвалиться тем, что сам своими трудами создал.
– Так ить и то, похвалиться-то есть чем, – сказал Николай Финогенович и невольно подставил тарелку под протянутый ему Надеждой Петровной уполовник со щами… – Ну и щи у вас, мать-командирша, – сказал он, как бы оправдываясь, – не поверишь, что постные. Не иначе, как вы там чего-нибудь такого да положили. Замечательные щи. Моей старухе у вас поучиться надо.
– Наутро… А уже какое там утро!.. Все кочета давным-давно пропели, рабочий день в полном ходу. А я, знаете, с Павлом-работником все прибрал, верите ли по саду, по двору, по стежкам белым песочком присыпали, где у плетня дурнопьян порос повыдергали, чисто, как на инспекторский смотр какой изготовился. Ну да понимаете, ее сестры сын, родной же!.. Я ведь их всех как полюбил! Отец его опять же замечательный человек, математик!.. Астроном! Думаю, пусть посмотрит, как в степу люди живут, как с песками, с засухой борются, как с природой воюют, как все сами добывают, да в Питере потом своим и расскажет…
– Да и точно есть ить чего и показать, – опять повторил гость.
– Ну, ладно. Выходит. Куртка на нем белая, ну, чисто, женская кофта, воротник широкий, отложной на грудь спускается, шея, грудь открытые, чисто девка… Срамота смотреть… Мне перед работником стыдно за него. Конечно, жара, да только лучше бы он в одной рубахе что ли вышел, чем в таком-то костюме. Хотел ему замечание сделать по-родственному, однако сдержался. Вижу, все одно не поймет он меня. Студент… Мать ему к чаю-то напекла, наготовила, чего только на стол не наставила. И каймак, и масло свежее, сама вручную сбивала, и хлебцы, и коржики, и сухари, и бурсачки, и баранки… Он и не глянул, чаю постного, без ничего, хватил два стакана, задымил папиросу, а я этого, знаете, не люблю, чтобы, где иконы, курили, и говорит: «что же, пойдемте, Тихон Иванович, посмотрим»… Понимаешь, не – «дядя», – а «Тихон Иванович»… Это чтобы грань какую-то положить между нами.
– Да полно, Тихон, – сказала Наденька. – Право… Одно воображение. Ничего у него такого в душе не было. Просто стеснялся молодой человек. Первый раз в доме.