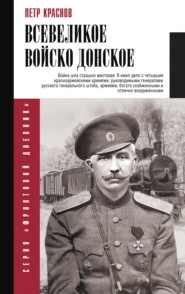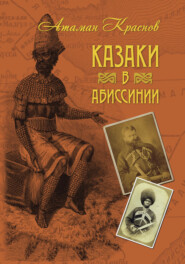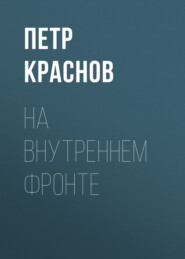По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ненависть
Автор
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Какое там стеснение!.. С полной ласкою, с горячей любовью к нему – ведь Олечкин же сын он, не чужой какой, посторонний человек, – вышел я с ним во фруктовый сад. Конечно, лето… Затравело кое-где, полынь вдоль плетня потянулась, ну, только – красота!.. Тихо, небо голубое, кое-где облачками белыми позавешено. Вошли мы туда и точно слышу я, как яблоки наливаются соками. Повел я его по саду. Объясняю. Вот это, мол, мой кальвиль французский из Крыма выписан, это антоновка, это «золотое семечко», тут «черное дерево», тут крымские зимние сорта. Урожай, сам помнишь, был необычайный. Всюду ветви жердями подперты, плодами позавешаны, прямо пуды на каждой ветке. Кр-расота!.. А промеж дерев мальвы поросли, бледно-розовые, да голубые, глаз радуют. Маки цветут. Чебарем пахнет. Пчелки жужжат. У меня у самого, аж дух захватило. Все позабыть можно – такой сад.
– Он ведь как, мой Тиша, – вмешалась в разговор Наденька, – когда у него первые-то выписные яблоки поспели – он и есть их не захотел. Кальвилей всего четыре штуки родилось, так он по одному всем нашим послал в Москву, в Петербург и Гатчину. Похвалиться хотел, что на песке у себя вывел, а четвертое поставил у себя на письменном столе на блюдце и любовался на него, как на какую бронзовую статуэтку. И только когда, совсем зимою, когда тронулось оно, разрезал пополам, мне дал и сам съел. И кожи не снимал.
– Еще бы, Николай Финогенович, – яблоко то было точно золотое, а на свет посмотришь – прозрачное. А какие морщинки, какие складочки, как утоплен в них стерженек! На выставку можно… Ну ладно. Обвел я его по саду и говорю: «Это вот, изволите видеть, – мой сад»… А он мне на это будто даже с такою насмешкой говорит: «А почему же это, Тихон Иванович, ваш сад?» Я, признаться сказать, сразу и не понял, к чему он такое гнет. – «Как почему, – говорю. – Да я сам садил его на своей усадебной земле, сам окапывал, сам от червя хранил, канавки для орошения устроил, колодезь выкопал, вот поэтому по всему он и мой сад». Он криво так, нехорошо усмехнулся и пошли мы дальше по куреню. От гулевой земли у меня к саду чуток был прирезан, липы и тополи посажены и травы там разные – пчельник у меня там был. «Вот, – говорю, – это мои пчелы». А он опять свое: «А почему это ваши пчелы?» Я еще и подумал: «Господи, ну что за дурак питерский, право». А какое там дурак! Он оказался умнее умного. Знал, к чему гнул. Я ему терпеливо объясняю, как брал я рой, как устраивал ульи, как пчелы меня знают, так что даже и не жалят меня, все, как ребенку объяснил. Ну, ладно. Пошли мимо амбаров, на базы. Я для него и лошадей и скотину оставил, на толоку не погнал. Показываю ему. Это мои волы, мои лошади, мои телки, мои коровы. Каждой твари ее характер ему объясняю. Потом подвел его к гуменным плетням, откуда, знаете, степь видна, показываю… Вправо меловая хребтина серебром на солнце горит, а влево займище широко протянулось.
– Стало быть так – на свою деляну вывел.
– Ну ладно. Говорю ему: «Видишь, по степи точно облако, точно узор какой серо-белый… Видишь» А сам аж трясусь от радости, от гордости. «Ну, – говорит, – вижу». – «Так то, – говорю, – овцы!.. Мои овцы… Триста голов!!.. И все как одна тонкорунные»… И, надо быть, захватил я его, наконец. Стал он против меня, ноги расставил, коровий постав у него, сам стоит без шапки, копна волос на голове, а возле ушей сбрито, чисто дурак индейский, стал он вот таким-то образом против меня, смотрит куда-то мимо меня и говорит: «Вы, может быть, когда-нибудь читали Достоевского “Бесы”?» Читать нам, сам понимаешь, Николай Финогенович, некогда. На службе когда – службой заняты. Теперь в полках не по-прежнему, так гоняют – только поспевай, а дома – с первыми кочетами встанешь, а как солнышко зайдет, так не до чтения, абы только до постели добраться. Но когда был в училище, помню, читал. Я ему говорю: «Читать-то я читал, а только невдомек мне, к чему это вы мне такое говорите». И вот тогда-то я и почувствовал, что ошибся в нем. Что он не племянник, жены моей родной сестры сын, а чужой совсем, и даже больше, враждебный мне человек. А он… и будто это ему сорок лет, а мне двадцать три и говорит: «Так вот там описывает Достоевский, как Степан Трофимович Верховенский рассказывает про административный восторг. Так вот теперь я вижу, что в России есть не только административный восторг, но есть и восторг собственнический».
* * *
После полдника Николай Финогенович поднялся уходить. Дело было сделано – согласие отвезти на станцию и послать посылки было получено, но чутьем он понял, что оборвать теперь рассказ Тихона Ивановича на полуслове, да еще тогда, когда в голосе его звучали слезы, было нельзя. Наденька, вероятно, не первый раз слышавшая этот рассказ тихонько с Аннушкой прибирала со стола. Тихон Иванович откинулся на стуле и несколько мгновений молча смотрел в узкие глаза Колмыкова.
– Ты понимаешь, – наконец, сказал он, – меня, как пришило к месту. Я и сказать ничего не нашелся. Молча повернулся и пошел к дому. Он идет рядом со мною. Нарочно не в ногу. Я подлажусь, – он расстроить. Пришли, пообедали, после обеда он пошел, спать лег – вишь утомила его утренняя прогулка. За чаем я и говорю ему. И так уже с места у нас вышло, что мы не «ты» друг другу, как полагается по-родственному, говорили, а «вы». Я и говорю ему: «Изъяснитесь, Володя… Что это вы хотели мне сказать о моем… моем восторге?» – «Ах, это… видите… вы мне свое хозяйство показывали и говорили: это мои деревья, мои пчелы, мои коровы, лошади, земля, мои овцы. А собственно, почему это все ваше?.. Надолго ли ваше?.. Правильно ли, что это ваше?..» Я стал ему объяснять наше казачье положение, рассказал о паевом наделе, который и мне как природному казаку полагается, рассказал об усадебной земле, о праве пользоваться общественными станичными землями, о покупке помещичьей земли… Он и слушать долго не стал. Перебил меня, встал из-за стола и начал ходить. «Этого больше не будет, этого не должно быть, Тихон Иванович, – прямо, аж даже визжит, в такой раж пришел. – Не может быть никакой собственности, потому что это прежде всего несправедливо…» И начал мне говорить о трудовом народе, о заводских рабочих, о городском пролетариате, о волжских батраках, о киргизах, о неграх…
– О неграх? – как-то испуганно переспросил Николай Финогенович. Он подумал, не ослышался ли.
– Да, о неграх же… О тяжелой их доле. «И все, – говорит, – потому, что богатства распределены неравномерно, что у вас в доме полная чаша и все собственное, а у другого и хлебной корки нет, с голоду подыхает, в ночлежке ютится».
– Мы эту песню, Тихон Иванович, – задумчиво сказал Николай Финогенович, – еще когда слыхали!.. В 1905 году, помните, как были мы мобилизованы на усмирения, так вот такие именно слова нам кидали в разных таких летучках, ну и в прокламациях этих вот самых… Мало тогда мы поработали, не до конца яд этот вывели…
– Вот, вот… Я ему это самое и сказал. «Что же, – говорю ему, – Володя, раньше помещиков жгли и разоряли, теперь казаков и крестьян зажиточных жечь и грабить пойдете, – так ведь так-то и подлинно все с голода подохнете. Опять делить хотите? Другим отдавать не ими нажитое». Он, как вскипит, кулаки сжал, остановился у окна, говорит так напряженно, тихим голосом, да таким, что, право, лучше он закричал бы на меня: «Делить, – говорит, – никому не будем… И никому ничего не дадим, ибо никакой собственности быть не должно». – «Что же, – говорю я ему, – а эта кофточка?..» – Заметь, уже у меня вся родственная любовь к нему куда-то исчезла, насмешка и злоба вскипели на сердце. – »Что ж, эта кофточка, что на вас, разве она не ваша?» Он одернул на себе кофту и говорит: «Постольку поскольку она на мне, – она моя. Но и этого не будет. Все будет общественное. Будет такая власть, такая организация, которая все будет распределять поровну и безобидно, чтобы у каждого все было и ничего своего не было». – «Что же, – говорю я, – казенное что-либо будет?..» – «Нет… Общественное». – «Кто же, – говорю, – и когда такой порядок прекрасный устроит?..» Он мне коротко бросил: «Мы». Тут я на него, можно сказать, первый раз как следует поглядел. Да, хотя и такого отца всеми уважаемого и такой распрекраснейшей матери сын, и даже сходствие имеет, а только… Страшно сказать – новый человек!.. Лоб низкий, узкий, глаза поставлены близко один к другому. Взгляд какой-то сосредоточенный и, заметь, никогда он тебе прямо в глаза не посмотрит, а все как-то мимо… Сам щуплый, плетью пополам перешибить можно, склизкий, а глаза, как у волка… Комок нервов.
– Да, – задумчиво протянул Николай Финогенович, – новое поколение.
– Ну ладно… Я не стал с ним рассуждать. Знаю, таких ни в чем убедить нельзя, они всего света умнее. Вышел я из хаты, запрег бегунки и поехал в поля, душу отвести, хлеба свои поглядеть. А хлеба!.. Пшеница, как солдаты на царском смотру, – ровная, чистая, высокая, полновесная, стеною стоит. Благословение Господне!.. Еду – сердцу бы радоваться, а оно кипит… Моя пшеница… Мои поля. Кобылка вороненькая Льстивая бежит неслышным ходом, играючись бегунки несет – моя Льстивая. А в глубине где-то стучит, стучит, стучит, тревогу бьет, слезами душу покрывает… Нет не твое, нет, не твои… Общественное… Придут, пожгут, отберут, как в пятом году было… Вот эти вот самые новые люди… Приехал домой. Сердце не отдохнуло. Ядом налито сердце. Нарочно допоздна провозился на базах, в хату не шел, чувствую, что видеть его просто-таки не могу. И уже ночью пошел к себе. Он спал в проходной комнате, свет из столовой – меня Наденька ожидала с ужином – падал в ту горницу. Мутно виднелась щуплая его фигура под одеялом. Я бросил взгляд на него и думаю: «Вот эти-то вот, слизняки, ничего не знающие, ничего не умеющие, придут и отберут…»
И стала у меня в сердце к нему лютая ненависть…
* * *
Тихон Иванович замолчал. Севший снова на стул Колмыков заерзал, вставать хотел, домой идти, совестно было хозяина задерживать, но Тихон Иванович рукою удержал его.
– Погоди!.. Да погоди же чуток! – почти сердито сказал он… – Дай все сказать… Душу дай облегчить… Ну, ладно… Ночь я не спал. Однако поборол себя, погасил в сердце ненависть, многое продумал. Ведь в конце концов все это только одна болтовня. Молод, неразумен. Стало быть, такие у него товарищи подобрались, книжками, поди, заграничными его наделяют, заразился дурью… С годами сам поймет, какого дурака перед дядей валял. Мне его учить не приходится. Что я ему? – офицер!!. Он за одно это мое звание, поди, меня как еще презирает. Жизнь его научит и образумит. Но только и держать его у себя, сам понимаешь, не могу. Враги!.. Чувствую, вот-вот снова сразимся, и тогда уже не одолеть мне моего к нему скверного чувства. Встал я утром спозаранку. С нею переговорил, – Тихон Иванович кивнул головою на Наденьку, севшую у окна с рукодельем, – она со мною во всем была согласна. Да и то надо сказать – время горячее, уборка идет, рабочих на хуторе видимо-невидимо, кто его знает, может быть, еще и подослан от кого, от какой ни на есть партии, пойдет мутить, книжки, брошюры раздавать, с него это очень даже просто станет – неприятностей потом не оберешься. Помолился я Богу, и пока он почивать изволил, вышел я в сад. А там со вчерашнего весь наш смотр остался. Стежки песочком белым понасыпаны. Инспекторский смотр!!.. Собственнический восторг!.. Прошелся я и надумал… Приказал бричку запрягать. Да ведь как его прогонишь? А гостеприимство?.. Да и родной же он мне!.. Дядя – племянника… Иду домой в большом сомнении, а дома она, милушка, все уже по-хорошему устроила. Сговорила, что скучно ему на хуторе, нехай едет людей посмотреть, в Новочеркасск, в Ростов, и даже хотя и в Крым. И денег ему дала – уезжай только от нас, Христа ради, подале. Сам его на станцию повез. Работнику доверить побоялся. Ну как начнет ему свои теории разводить, смущать малого, еще хуже не стало бы. Едем, молчим. Все ожидаю я, скажет он мне на прощанье: «Извините, мол, дядя, я это так по молодости, непродуманно сказал»… ну и там помиримся мы с ним, поцелуемся. Ну ладно… Ничего он мне не сказал. Только так строго и значительно на меня посмотрел. Ей-богу, так посмотрел, казалось, лучше что ли он мне пальцем погрозил бы. Да, послали мы!.. Чисто на свою голову пустили козла в огород.
– Да чего же, Тихон Иванович, еще такого?..
– А вот слушай… Послали. Ну, конечно, мать не утерпела, поручила с оказией моему Степану в корпус разного деревенского гостинца отвезти. Он и отвез. А только как эти гостинцы-то нам обернулись, мы летом узнали, когда Степа к нам на вакации приехал… Да. Подлинно гад…
Тихон Иванович покрутил головой и прошелся по горнице. Колмыков опять завозился.
– Нет… Сиди… сиди… Не обращай на меня внимания. Как все это начну вспоминать, так аж кровь кипит, не могу сидеть. Приехал к нам Степа и через малое время заявляет мне, что он по окончании корпуса не желает идти в военное училище, чтобы по примеру отцов и предков служить царю и Родине в строю, но пойдет в Политехнический институт…
– Да ить не пошел же…
– Не пошел… Да какие у нас разговоры были… «Все, – это он мне сказал, – все люди братья, и не могу я в братскую грудь стрелять, а теперь развитие техники столь могущественное, что всякий должен, если желает быть полезным народу, именно технические науки изучать…» Здравствуйте, пожалуйста… Ну ладно… Понял я откуда этот ветер задул. Значит, тот мне под самое сердце напакостил, сына моего развратил. Будь другие времена, кажется, взял бы тут же нагайку, да на совесть его и отлупцевал бы.
– И то. Ить вы отец. Значит, право ваше такое, чтобы сына уму-разуму учить…
– Отец… Да времена, Николай Финогенович, не те стали. Не те нонеча люди. Поглядел я на Степу, и мне показалось, что и он такой же, как Володя, стал. Глаза от меня отводит. Взгляд неискренний, чужой. Ну, я спорить не стал. Время, думаю, обломает его. Да и кадетская накваска в нем, видать, все-таки осталась. А тут на мое счастье Шурка, племянница, приехала, закрутила, заворожила, опять его ко мне повернула, поговорил я с ним и вышиб дурь эту из головы. А то, поверишь ли, я и сам было чуть не стал сына своего родного ненавидеть.
Тихон Иванович кончил рассказ. Колмыков наконец мог проститься и уйти…
VI
На другой день, задолго до света, Тихон Иванович с фонарем «летучая мышь» пошел запрягать сани. Наденька в длинной казачьей шубе, в теплой шлычке, в валенках, совсем как простая казачка, вышла провожать мужа. Рано потревоженные лошади храпели, когда работник вздевал на них хомуты и протягивал шлейки. От супони и гужей сладко пахло дегтем, из конюшни тянуло навозным паром. По темному двору квадратами лег свет от окон. Аннушка в шубке на опашь, в ковровом платке носила и укладывала в низкие и широкие розвальни рогожные кульки с ярлыками. Собаки подле суетились и внимательно, со вкусом обнюхивали посылки. Со двора от света окон и фонарей небо казалось темным и холодным.
– Ну, кажется, все, – пересчитывая кульки, сказала Наденька. – Олечке в Петербург, Машеньке в Гатчино, батюшке в Москву, это вот особо – от Николая Финогеновича.
– Готово, что ли, – хриплым, непроспавшимся голосом спросил Тихон Иванович.
– Пожалуйте ехать, – протягивая скрутившиеся ременные вожжи, ответил работник.
Тихон Иванович взялся за грядки саней.
– Ну, с Богом…
В тяжелой длинной шубе, в высокой папахе, в валенках Тихон Иванович долго умащивался на сене, покрытом ковром. Лошади тронули. Работник побежал открывать ворота. Наденька шла рядом.
– Тиша, – сказала она. – Что я тебя попрошу…
– Ну что, дорогая, – придерживая лошадей, сказал Тихон Иванович.
– Как рынком-то проезжать будешь, посмотри, нет ли там елочки?
Мягкая улыбка показалась под усами Тихона Ивановича.
– На что нам, родная, елочка? Малых детей у нас нет.
– А все посидим, посмотрим, как горит она. Шурочка прислала мне украшения, Женя свечки, Гурочка фейерверк комнатный. Зажжем и всех своих так-то славно вспомним. У каждого из нас такая, поди, горит. На звезду погляжу, подумаю: у Олечки такая, у Маши, у Мити в Пржевальске в полковом собрании, у батюшки… Точно как и они все с нами побудут. Сердце отмякнет.
– Ладно. Привезу. Если на рынке не будет, я к Петру Федоровичу проеду, у него в саду молоденькую срубим.
– Разве решил все-таки ехать к нему?
– Хочу жеребца того, что я тебе рассказывал, поторговать. На службу в январе идти, сотней командовать, надо коня иметь на совесть.
– Дорого просит… Нам не управиться.
– Просит тысячу, дам шестьсот, глядишь и поладим. Свой он – не чужой. Одного училища… Уступит…
Тихон Иванович попустил лошадей. Мимо него проплыла бесконечно милая, родная голова в шлычке с неубранными со сна волосами, словно чужая в тяжелой казачьей шубе. Стукнул обвод саней о столбик у ворот, покачнулись на ухабе сани.
В степи казалось светлее. Сильно вызвездило на темно-синем небе. Звезды под утро разыгрались. На ресницы иней налип, и от него казались звезды громадными и мутными. Сухая поземка шуршала по обледенелому крепкому насту. Лошади по льдистой мало наезженной дороге бежали легко и споро. Комья снега щелкали по холщовым отводам саней. Клонило ко сну. Бесконечной казалась степная дорога и длинной зимняя ночь. Все не погасали в небе звезды, не бледнел восток, не загоралась румяная заря.
«Так, так, – думал тихую думу Тихон Иванович. – Что же, если ей так хочется и зажжем мы у себя елочку, как у людей, и вспомним родных и близких. Может быть, из станицы барышни Чебаковы приедут, ряженые какие-нибудь набредут на елочные наши огни, все ей, моей милой питерской птичке, веселее станет. Рождество Христово… Святки. Привыкла она, чтобы с елкой их встречать».
Лошади бежали – тюп, тюп… Летели комья снега, и не заметил Тихон Иванович, как вдруг погасли в небе звезды, как позеленело холодное небо, а на востоке широко раздвинулась степь и белое вдали небо слилось со снеговыми просторами.
– Он ведь как, мой Тиша, – вмешалась в разговор Наденька, – когда у него первые-то выписные яблоки поспели – он и есть их не захотел. Кальвилей всего четыре штуки родилось, так он по одному всем нашим послал в Москву, в Петербург и Гатчину. Похвалиться хотел, что на песке у себя вывел, а четвертое поставил у себя на письменном столе на блюдце и любовался на него, как на какую бронзовую статуэтку. И только когда, совсем зимою, когда тронулось оно, разрезал пополам, мне дал и сам съел. И кожи не снимал.
– Еще бы, Николай Финогенович, – яблоко то было точно золотое, а на свет посмотришь – прозрачное. А какие морщинки, какие складочки, как утоплен в них стерженек! На выставку можно… Ну ладно. Обвел я его по саду и говорю: «Это вот, изволите видеть, – мой сад»… А он мне на это будто даже с такою насмешкой говорит: «А почему же это, Тихон Иванович, ваш сад?» Я, признаться сказать, сразу и не понял, к чему он такое гнет. – «Как почему, – говорю. – Да я сам садил его на своей усадебной земле, сам окапывал, сам от червя хранил, канавки для орошения устроил, колодезь выкопал, вот поэтому по всему он и мой сад». Он криво так, нехорошо усмехнулся и пошли мы дальше по куреню. От гулевой земли у меня к саду чуток был прирезан, липы и тополи посажены и травы там разные – пчельник у меня там был. «Вот, – говорю, – это мои пчелы». А он опять свое: «А почему это ваши пчелы?» Я еще и подумал: «Господи, ну что за дурак питерский, право». А какое там дурак! Он оказался умнее умного. Знал, к чему гнул. Я ему терпеливо объясняю, как брал я рой, как устраивал ульи, как пчелы меня знают, так что даже и не жалят меня, все, как ребенку объяснил. Ну, ладно. Пошли мимо амбаров, на базы. Я для него и лошадей и скотину оставил, на толоку не погнал. Показываю ему. Это мои волы, мои лошади, мои телки, мои коровы. Каждой твари ее характер ему объясняю. Потом подвел его к гуменным плетням, откуда, знаете, степь видна, показываю… Вправо меловая хребтина серебром на солнце горит, а влево займище широко протянулось.
– Стало быть так – на свою деляну вывел.
– Ну ладно. Говорю ему: «Видишь, по степи точно облако, точно узор какой серо-белый… Видишь» А сам аж трясусь от радости, от гордости. «Ну, – говорит, – вижу». – «Так то, – говорю, – овцы!.. Мои овцы… Триста голов!!.. И все как одна тонкорунные»… И, надо быть, захватил я его, наконец. Стал он против меня, ноги расставил, коровий постав у него, сам стоит без шапки, копна волос на голове, а возле ушей сбрито, чисто дурак индейский, стал он вот таким-то образом против меня, смотрит куда-то мимо меня и говорит: «Вы, может быть, когда-нибудь читали Достоевского “Бесы”?» Читать нам, сам понимаешь, Николай Финогенович, некогда. На службе когда – службой заняты. Теперь в полках не по-прежнему, так гоняют – только поспевай, а дома – с первыми кочетами встанешь, а как солнышко зайдет, так не до чтения, абы только до постели добраться. Но когда был в училище, помню, читал. Я ему говорю: «Читать-то я читал, а только невдомек мне, к чему это вы мне такое говорите». И вот тогда-то я и почувствовал, что ошибся в нем. Что он не племянник, жены моей родной сестры сын, а чужой совсем, и даже больше, враждебный мне человек. А он… и будто это ему сорок лет, а мне двадцать три и говорит: «Так вот там описывает Достоевский, как Степан Трофимович Верховенский рассказывает про административный восторг. Так вот теперь я вижу, что в России есть не только административный восторг, но есть и восторг собственнический».
* * *
После полдника Николай Финогенович поднялся уходить. Дело было сделано – согласие отвезти на станцию и послать посылки было получено, но чутьем он понял, что оборвать теперь рассказ Тихона Ивановича на полуслове, да еще тогда, когда в голосе его звучали слезы, было нельзя. Наденька, вероятно, не первый раз слышавшая этот рассказ тихонько с Аннушкой прибирала со стола. Тихон Иванович откинулся на стуле и несколько мгновений молча смотрел в узкие глаза Колмыкова.
– Ты понимаешь, – наконец, сказал он, – меня, как пришило к месту. Я и сказать ничего не нашелся. Молча повернулся и пошел к дому. Он идет рядом со мною. Нарочно не в ногу. Я подлажусь, – он расстроить. Пришли, пообедали, после обеда он пошел, спать лег – вишь утомила его утренняя прогулка. За чаем я и говорю ему. И так уже с места у нас вышло, что мы не «ты» друг другу, как полагается по-родственному, говорили, а «вы». Я и говорю ему: «Изъяснитесь, Володя… Что это вы хотели мне сказать о моем… моем восторге?» – «Ах, это… видите… вы мне свое хозяйство показывали и говорили: это мои деревья, мои пчелы, мои коровы, лошади, земля, мои овцы. А собственно, почему это все ваше?.. Надолго ли ваше?.. Правильно ли, что это ваше?..» Я стал ему объяснять наше казачье положение, рассказал о паевом наделе, который и мне как природному казаку полагается, рассказал об усадебной земле, о праве пользоваться общественными станичными землями, о покупке помещичьей земли… Он и слушать долго не стал. Перебил меня, встал из-за стола и начал ходить. «Этого больше не будет, этого не должно быть, Тихон Иванович, – прямо, аж даже визжит, в такой раж пришел. – Не может быть никакой собственности, потому что это прежде всего несправедливо…» И начал мне говорить о трудовом народе, о заводских рабочих, о городском пролетариате, о волжских батраках, о киргизах, о неграх…
– О неграх? – как-то испуганно переспросил Николай Финогенович. Он подумал, не ослышался ли.
– Да, о неграх же… О тяжелой их доле. «И все, – говорит, – потому, что богатства распределены неравномерно, что у вас в доме полная чаша и все собственное, а у другого и хлебной корки нет, с голоду подыхает, в ночлежке ютится».
– Мы эту песню, Тихон Иванович, – задумчиво сказал Николай Финогенович, – еще когда слыхали!.. В 1905 году, помните, как были мы мобилизованы на усмирения, так вот такие именно слова нам кидали в разных таких летучках, ну и в прокламациях этих вот самых… Мало тогда мы поработали, не до конца яд этот вывели…
– Вот, вот… Я ему это самое и сказал. «Что же, – говорю ему, – Володя, раньше помещиков жгли и разоряли, теперь казаков и крестьян зажиточных жечь и грабить пойдете, – так ведь так-то и подлинно все с голода подохнете. Опять делить хотите? Другим отдавать не ими нажитое». Он, как вскипит, кулаки сжал, остановился у окна, говорит так напряженно, тихим голосом, да таким, что, право, лучше он закричал бы на меня: «Делить, – говорит, – никому не будем… И никому ничего не дадим, ибо никакой собственности быть не должно». – «Что же, – говорю я ему, – а эта кофточка?..» – Заметь, уже у меня вся родственная любовь к нему куда-то исчезла, насмешка и злоба вскипели на сердце. – »Что ж, эта кофточка, что на вас, разве она не ваша?» Он одернул на себе кофту и говорит: «Постольку поскольку она на мне, – она моя. Но и этого не будет. Все будет общественное. Будет такая власть, такая организация, которая все будет распределять поровну и безобидно, чтобы у каждого все было и ничего своего не было». – «Что же, – говорю я, – казенное что-либо будет?..» – «Нет… Общественное». – «Кто же, – говорю, – и когда такой порядок прекрасный устроит?..» Он мне коротко бросил: «Мы». Тут я на него, можно сказать, первый раз как следует поглядел. Да, хотя и такого отца всеми уважаемого и такой распрекраснейшей матери сын, и даже сходствие имеет, а только… Страшно сказать – новый человек!.. Лоб низкий, узкий, глаза поставлены близко один к другому. Взгляд какой-то сосредоточенный и, заметь, никогда он тебе прямо в глаза не посмотрит, а все как-то мимо… Сам щуплый, плетью пополам перешибить можно, склизкий, а глаза, как у волка… Комок нервов.
– Да, – задумчиво протянул Николай Финогенович, – новое поколение.
– Ну ладно… Я не стал с ним рассуждать. Знаю, таких ни в чем убедить нельзя, они всего света умнее. Вышел я из хаты, запрег бегунки и поехал в поля, душу отвести, хлеба свои поглядеть. А хлеба!.. Пшеница, как солдаты на царском смотру, – ровная, чистая, высокая, полновесная, стеною стоит. Благословение Господне!.. Еду – сердцу бы радоваться, а оно кипит… Моя пшеница… Мои поля. Кобылка вороненькая Льстивая бежит неслышным ходом, играючись бегунки несет – моя Льстивая. А в глубине где-то стучит, стучит, стучит, тревогу бьет, слезами душу покрывает… Нет не твое, нет, не твои… Общественное… Придут, пожгут, отберут, как в пятом году было… Вот эти вот самые новые люди… Приехал домой. Сердце не отдохнуло. Ядом налито сердце. Нарочно допоздна провозился на базах, в хату не шел, чувствую, что видеть его просто-таки не могу. И уже ночью пошел к себе. Он спал в проходной комнате, свет из столовой – меня Наденька ожидала с ужином – падал в ту горницу. Мутно виднелась щуплая его фигура под одеялом. Я бросил взгляд на него и думаю: «Вот эти-то вот, слизняки, ничего не знающие, ничего не умеющие, придут и отберут…»
И стала у меня в сердце к нему лютая ненависть…
* * *
Тихон Иванович замолчал. Севший снова на стул Колмыков заерзал, вставать хотел, домой идти, совестно было хозяина задерживать, но Тихон Иванович рукою удержал его.
– Погоди!.. Да погоди же чуток! – почти сердито сказал он… – Дай все сказать… Душу дай облегчить… Ну, ладно… Ночь я не спал. Однако поборол себя, погасил в сердце ненависть, многое продумал. Ведь в конце концов все это только одна болтовня. Молод, неразумен. Стало быть, такие у него товарищи подобрались, книжками, поди, заграничными его наделяют, заразился дурью… С годами сам поймет, какого дурака перед дядей валял. Мне его учить не приходится. Что я ему? – офицер!!. Он за одно это мое звание, поди, меня как еще презирает. Жизнь его научит и образумит. Но только и держать его у себя, сам понимаешь, не могу. Враги!.. Чувствую, вот-вот снова сразимся, и тогда уже не одолеть мне моего к нему скверного чувства. Встал я утром спозаранку. С нею переговорил, – Тихон Иванович кивнул головою на Наденьку, севшую у окна с рукодельем, – она со мною во всем была согласна. Да и то надо сказать – время горячее, уборка идет, рабочих на хуторе видимо-невидимо, кто его знает, может быть, еще и подослан от кого, от какой ни на есть партии, пойдет мутить, книжки, брошюры раздавать, с него это очень даже просто станет – неприятностей потом не оберешься. Помолился я Богу, и пока он почивать изволил, вышел я в сад. А там со вчерашнего весь наш смотр остался. Стежки песочком белым понасыпаны. Инспекторский смотр!!.. Собственнический восторг!.. Прошелся я и надумал… Приказал бричку запрягать. Да ведь как его прогонишь? А гостеприимство?.. Да и родной же он мне!.. Дядя – племянника… Иду домой в большом сомнении, а дома она, милушка, все уже по-хорошему устроила. Сговорила, что скучно ему на хуторе, нехай едет людей посмотреть, в Новочеркасск, в Ростов, и даже хотя и в Крым. И денег ему дала – уезжай только от нас, Христа ради, подале. Сам его на станцию повез. Работнику доверить побоялся. Ну как начнет ему свои теории разводить, смущать малого, еще хуже не стало бы. Едем, молчим. Все ожидаю я, скажет он мне на прощанье: «Извините, мол, дядя, я это так по молодости, непродуманно сказал»… ну и там помиримся мы с ним, поцелуемся. Ну ладно… Ничего он мне не сказал. Только так строго и значительно на меня посмотрел. Ей-богу, так посмотрел, казалось, лучше что ли он мне пальцем погрозил бы. Да, послали мы!.. Чисто на свою голову пустили козла в огород.
– Да чего же, Тихон Иванович, еще такого?..
– А вот слушай… Послали. Ну, конечно, мать не утерпела, поручила с оказией моему Степану в корпус разного деревенского гостинца отвезти. Он и отвез. А только как эти гостинцы-то нам обернулись, мы летом узнали, когда Степа к нам на вакации приехал… Да. Подлинно гад…
Тихон Иванович покрутил головой и прошелся по горнице. Колмыков опять завозился.
– Нет… Сиди… сиди… Не обращай на меня внимания. Как все это начну вспоминать, так аж кровь кипит, не могу сидеть. Приехал к нам Степа и через малое время заявляет мне, что он по окончании корпуса не желает идти в военное училище, чтобы по примеру отцов и предков служить царю и Родине в строю, но пойдет в Политехнический институт…
– Да ить не пошел же…
– Не пошел… Да какие у нас разговоры были… «Все, – это он мне сказал, – все люди братья, и не могу я в братскую грудь стрелять, а теперь развитие техники столь могущественное, что всякий должен, если желает быть полезным народу, именно технические науки изучать…» Здравствуйте, пожалуйста… Ну ладно… Понял я откуда этот ветер задул. Значит, тот мне под самое сердце напакостил, сына моего развратил. Будь другие времена, кажется, взял бы тут же нагайку, да на совесть его и отлупцевал бы.
– И то. Ить вы отец. Значит, право ваше такое, чтобы сына уму-разуму учить…
– Отец… Да времена, Николай Финогенович, не те стали. Не те нонеча люди. Поглядел я на Степу, и мне показалось, что и он такой же, как Володя, стал. Глаза от меня отводит. Взгляд неискренний, чужой. Ну, я спорить не стал. Время, думаю, обломает его. Да и кадетская накваска в нем, видать, все-таки осталась. А тут на мое счастье Шурка, племянница, приехала, закрутила, заворожила, опять его ко мне повернула, поговорил я с ним и вышиб дурь эту из головы. А то, поверишь ли, я и сам было чуть не стал сына своего родного ненавидеть.
Тихон Иванович кончил рассказ. Колмыков наконец мог проститься и уйти…
VI
На другой день, задолго до света, Тихон Иванович с фонарем «летучая мышь» пошел запрягать сани. Наденька в длинной казачьей шубе, в теплой шлычке, в валенках, совсем как простая казачка, вышла провожать мужа. Рано потревоженные лошади храпели, когда работник вздевал на них хомуты и протягивал шлейки. От супони и гужей сладко пахло дегтем, из конюшни тянуло навозным паром. По темному двору квадратами лег свет от окон. Аннушка в шубке на опашь, в ковровом платке носила и укладывала в низкие и широкие розвальни рогожные кульки с ярлыками. Собаки подле суетились и внимательно, со вкусом обнюхивали посылки. Со двора от света окон и фонарей небо казалось темным и холодным.
– Ну, кажется, все, – пересчитывая кульки, сказала Наденька. – Олечке в Петербург, Машеньке в Гатчино, батюшке в Москву, это вот особо – от Николая Финогеновича.
– Готово, что ли, – хриплым, непроспавшимся голосом спросил Тихон Иванович.
– Пожалуйте ехать, – протягивая скрутившиеся ременные вожжи, ответил работник.
Тихон Иванович взялся за грядки саней.
– Ну, с Богом…
В тяжелой длинной шубе, в высокой папахе, в валенках Тихон Иванович долго умащивался на сене, покрытом ковром. Лошади тронули. Работник побежал открывать ворота. Наденька шла рядом.
– Тиша, – сказала она. – Что я тебя попрошу…
– Ну что, дорогая, – придерживая лошадей, сказал Тихон Иванович.
– Как рынком-то проезжать будешь, посмотри, нет ли там елочки?
Мягкая улыбка показалась под усами Тихона Ивановича.
– На что нам, родная, елочка? Малых детей у нас нет.
– А все посидим, посмотрим, как горит она. Шурочка прислала мне украшения, Женя свечки, Гурочка фейерверк комнатный. Зажжем и всех своих так-то славно вспомним. У каждого из нас такая, поди, горит. На звезду погляжу, подумаю: у Олечки такая, у Маши, у Мити в Пржевальске в полковом собрании, у батюшки… Точно как и они все с нами побудут. Сердце отмякнет.
– Ладно. Привезу. Если на рынке не будет, я к Петру Федоровичу проеду, у него в саду молоденькую срубим.
– Разве решил все-таки ехать к нему?
– Хочу жеребца того, что я тебе рассказывал, поторговать. На службу в январе идти, сотней командовать, надо коня иметь на совесть.
– Дорого просит… Нам не управиться.
– Просит тысячу, дам шестьсот, глядишь и поладим. Свой он – не чужой. Одного училища… Уступит…
Тихон Иванович попустил лошадей. Мимо него проплыла бесконечно милая, родная голова в шлычке с неубранными со сна волосами, словно чужая в тяжелой казачьей шубе. Стукнул обвод саней о столбик у ворот, покачнулись на ухабе сани.
В степи казалось светлее. Сильно вызвездило на темно-синем небе. Звезды под утро разыгрались. На ресницы иней налип, и от него казались звезды громадными и мутными. Сухая поземка шуршала по обледенелому крепкому насту. Лошади по льдистой мало наезженной дороге бежали легко и споро. Комья снега щелкали по холщовым отводам саней. Клонило ко сну. Бесконечной казалась степная дорога и длинной зимняя ночь. Все не погасали в небе звезды, не бледнел восток, не загоралась румяная заря.
«Так, так, – думал тихую думу Тихон Иванович. – Что же, если ей так хочется и зажжем мы у себя елочку, как у людей, и вспомним родных и близких. Может быть, из станицы барышни Чебаковы приедут, ряженые какие-нибудь набредут на елочные наши огни, все ей, моей милой питерской птичке, веселее станет. Рождество Христово… Святки. Привыкла она, чтобы с елкой их встречать».
Лошади бежали – тюп, тюп… Летели комья снега, и не заметил Тихон Иванович, как вдруг погасли в небе звезды, как позеленело холодное небо, а на востоке широко раздвинулась степь и белое вдали небо слилось со снеговыми просторами.