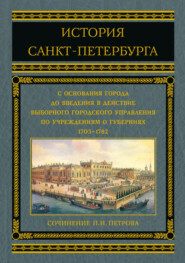По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Белые и черные
Автор
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не надо, Алексей Васильевич: пусть отец как хочет. Его ведь добро. Мне и царской милости довольно за глаза. Один я что перст остался… чего мне копить? Зачем, подумаешь иной раз, в живых остался?
– Ну, вот уже не похвально! Неблагодарному быть перед Богом грех и перед людьми стыд. Да твоя, правду-матку молвить, и жисть-от начинается, чего доброго, теперя, может… пойдешь в чины… Отличен будешь… силен будешь… Мы тебя, ты – нас оберегай! И все как по маслу пойдет. Невесту сыщем раскрасавицу… коли раздумал с Ильиничной родниться. А мой совет: Дуньку не бросать – подпора будет и прекрепкая и надежная. Затем, что при лице… И… во как заживем! Никакие Андрюшки Ушаковы не будут страшны! – заключил свой совет Макаров и сам вперил в Ивана свои быстро бегающие, вечно улыбающиеся глазки.
– Мне Андрея Ивановича и то бояться нече… На что в крепости прошлое дело покрывал как мог, не тиранил, – так и привезли к нему: милость обещал и обошелся словно родной. Да и родной другой так тебя не встретит, не обласкает. Сам, веришь Богу, и государыне представил и при мне же говорил: «Грешно будет вам Ивана не помнить… Что не выдал – уж я засвидетельствую…» А я в ту пору – сказал мне только Андрей Иваныч про смерть жены, да про бабушку – я, знаете, словно шальной был… в чаду: говорить не мог, как теперь с тобой. Только упал государыне в ноги да ну плакать. Не плаксив я, Алексей Васильич, – я думаю, знаете сами, а тут слез удержать не мог – плачу-разливаюсь. Выплакался – и словно полегчало. А государыня милостиво изволила мне волосы разглаживать, словно мать родная, да тихонько уговаривает: «Перестань!..» Как полегчало, я схватил ручку ее величества да ну целовать… Такая смелость нашла! А ее-то величество осчастливила меня: в лоб поцеловала!.. Вот я мало-маля и оправился.
– А-а! Вот как!.. Так это Андрей тут посодействовал? Ну, коли тебе милость, – Господь с тобой… От тебя зазору да лиха не ожидать – свои люди. Я тебе поперек дороги не стану. Ты всегда меня знал – спервоначалу. Я тебя, знаешь, не выдам, ты – меня. Что скажу – ты как следует, начистоту выполнишь. Я – в свою очередь… А насчет Ушакова… Я тебе, братец, скажу по душе: на его лисьи подбеганья ты не сдавайся! Есть ли такой другой шельмец?! А коли знать хочешь: в вашем деле поноровку чинил Андрюшка – и то, разумеется, не ради тебя. А сам он плут преестественный, и подлипала, и мошенник – может, почище еще Павлушки Ягужинского, хоша и тот угар! Ты не гляди, что у Андрюшки свиное рыло, уж коли умел отвести очи что ни есть зоркого государя покойного, так, значит, всем шельмецам голова! Чего доброго, закабалит он тебя своим приголубливаньем в соглядатаи всем добрым людям на беду! И ты не поддавайся, смотри у меня! Узнаю, что Андрюшке поддался, – беда тебе: на глаза не пущу! А Дуньки Ильиничниной держись, не плошай. Чтоб ее у тебя из-под носу какой ни есть немчик голштинский не увел. Голштинцам, братец ты мой, лафа теперь, я тебе скажу. Эти голштинские немцы уж на что лучше щука, чем светлейший, – и того осилили. С виду простаками прикидываются: и выпить не прочь или там песенку спеть, а дело у них делается! И дружно стоят как один за своего. И герцог Голштинский, к примеру молвить, добряк, а все себе на уме! Он теперя жених цесаревны. Помолвили – ты не слыхал, должно, – в Катеринин день. Тебя, может, уже услали тогда?
– Нет еще… а скоро потом увезли в Ревель проклятый! – сказал и с досадою плюнул Иван Балакирев, припомнив заключение.
Пришла Ильинична, и за нею следом Дуня.
Макаров встал и вызвал Ильиничну, заявив, что ему необходимо переговорить с нею немедленно.
Дуня осталась с Ваней, и только началась между ними интимная беседа шепотом, как послышался за дверью легкий шорох. Балакирев подлетел и, распахнув дверь, отступил на шаг в крайнем изумлении. Это же ощущение охватило мгновенно и Дуню.
Перед смущенною парою оказался сам Павел Иванович Ягужинский, не менее изумленный, но к тому же взбешенный.
По всей вероятности, гофмаршал или не сюда шел, или шел видеть Ильиничну, но никак не думал найти Балакирева. Найдя же не того, кого хотел, при всем смущении первый нашелся.
– Так как ты, Иван, вступил по воле ее величества в бессменную службу в приемной государыни, то я требую раз и навсегда, чтобы ты был исправен в выполнении своих обязанностей. А обязанность твоя заключается в том, чтобы ты доносил мне ежедневно о лицах, принимаемых на аудиенцию ее величеством.
Чтобы ты все приносимые письменные посылки передавал женщинам в следующую комнату, а сам в опочивальню не входил. Чтобы, получив письмо, спрашивал, от кого оно, и докладывал об этом. Но ты не обязан ни с кем из приходящих вступать в объяснения. За малейшее опущение в чем-либо из перечисленных теперь твоих обязанностей я строго взыщу. Государыня непременно хочет, чтоб ее воля исполнялась буквально, несмотря ни на какое лицо. Если же в чем противно поступишь, не жалуйся.
– Все, что мне когда бы ни было поручалось, я твердо помнил и исполнял, кажется, так что не заслуживал выговоров, – почтительно, но твердо и с сознанием своей правоты ответил, кланяясь, Балакирев.
Павел Иванович, хотя посмотрел на новопожалованного слугу государыни по-прежнему неблагосклонно, но, уже понизив тон, отдал последний приказ:
– Главное, мой милый, мне аккуратно доноси об удостоенных аудиенции…
Затем Ягужинский, не желая, должно быть, слышать о неудобствах выполнения этого своего приказания, поспешно оборотился и направился к лестнице.
– Отлучаться, сами изволите знать, мне нельзя, – заговорил Иван, но этого, вероятно, не расслышал гофмаршал.
III. Новое знакомство
В новом преображенском мундире прапорщика Иван Алексеевич Балакирев сидел в приемной ее величества. Приходили с письмом от светлейшей княгини. Письмо Иван взял и подал ее величеству, да по приказу государыни распечатал и прочел. Выслушав и выразумев смысл грамотки, велено было передать посланному, что ее величество соизволяет, чтобы светлейшая княгиня пожаловала и привезла старшую княжну – прокатиться с их высочествами в санях.
Передав ответ, Балакирев стал спрашивать посланного, провожая его до дверей, про Шульца, управляющего: здоров ли, была ли свадьба у дочери его и где зять пристроен?
– В канцелярии светлейшего, известно… протоколист по военной коллегии, годный человек… смыслит дела…
– Как прозывается-то? – полюбопытствовал Иван. – Дитрихс… из курляндчиков. Да никак он сам сюда идет и ведет с собою еще какого-то молодца, бравый из себя… и коренаст довольно.
– Да… Он, кажись…
Договорить не удалось, как распахнулась дверь и в переднюю вступили двое молодых людей, довольно статных и пригожих из себя.
Посланный из дома светлейшего поклонился, и ему ответили поклоном.
– Не знаете ли, – спросил Дитрихс княжеского посланного по-немецки, – к кому здесь следует обратиться, чтобы рекомендовать его честь господина камер-юнкера, приехавшего с чрезвычайным поручением к ее императорскому величеству от ее высочества светлейшей герцогини Курляндской?
– Черезвычайные поручения передаются через посредство иностранной коллегии, – ответил по-немецки же Балакирев.
– Позвольте, благо вы разумеете по-нашему, вам высказать особенные побуждения герцогини писать государыне, – обратился к Балакиреву камер-юнкер. – Уделите мне две-три минуты внимания, и вы поймете, что коллегии иностранных дел этих интимных излияний доверять не следует. Усердие чиновников ничего не усмотрит из родственной формы обращения к душе и сердцу императрицы признательной ее племянницы… А государыня умеет тонко определять, не по формальным фразам, выражения преданности, теплоту чувства и доверие герцогини к неуклонной правоте и святому беспристрастию ее величества. Эти чувства дали ее высочеству смелость просить ее величество допустить меня, преданнейшего из рабов ее высочества, до личной аудиенции, без свидетелей, где бы я мог высказать, что мне повелено и что ни в каком случае не должно быть передаваемо кому бы ни было, кроме ее величества… Бумаге доверить этого нельзя… Понимаете?
Выслушав эту тираду, Иван Балакирев не шутя призадумался. Как быть? Рассудок и сердце подсказывали, что камер-юнкеру необходима секретная аудиенция, но останавливал личный запрет Павла Ивановича Ягужинского: не сметь позволять себе вступать с ее величеством ни в какой разговор и не пытаться что-либо добавлять дальше подачи принесенного письма, произнося только имя приславшего. Наказано было даже, передав женщине в следующей комнате письмо, немедленно поворачиваться и уходить, не выжидая ни одного мгновения. Если бы последовало монаршее повеление, то ее величество изволило бы выслать свою женщину или приказать, чтобы прапорщик лейб-гвардии вошел. Такова неизменная воля ее величества, желающей, чтобы ее как можно меньше тревожили и не прерывали докладом ее августейшую думу.
Видя Балакирева, предавшегося раздумью, Дитрихс и курляндский камер-юнкер переглянулись. Первый легонько взял за обшлаг Балакирева и, приподнявшись к уху его, прошептал по-немецки:
– Не медлите, камрад, благодарность будет – верная… господин камер-юнкер боится, что приезд его сюда будет замечен и, чего доброго, случай немедленно видеть ее величество будет потерян из-за одного вашего промедления…
– Господин Дитрихс, – сказал ему громко Балакирев, – промедление, вами замечаемое, не более как невозможность с моей стороны выполнить требование господина камер-юнкера. Подав письмо, хотя это мне и запрещено, я выполню все, что желал бы господин камер-юнкер… Но вы хотите, чтобы в прибавок к передаче письма я доложил и о просьбе камер-юнкера: представиться ее величеству немедленно, для личного сообщения воли ее высочества герцогини Курляндской? Не так ли?
– Точно так, – ответил камер-юнкер.
– Вот этого я сделать не смогу имея строгий наказ от господина обер-гофмаршала.
– Но… может быть, вы, мейнгер[8 - Мейнгер – господин (от нем. mein Here).], не так понимаете данный вам наказ? – с живостью спросил, подступив к Балакиреву, камер-юнкер.
– Нет… Совершенно так, как я вам докладываю… Мне указана обязанность подавать письма (и то от одних здешних особ, не принимая ни одного, привезенного помимо почты). И, подав письмо, произнести: от такого-то или от такой-то… Затем, добавив: посланный дожидается, самому немедленно уходить. В настоящем же случае я не знаю, могу ли я доложить ее величеству о том, что письмо это привезено на имя государыни от царевны Анны Ивановны? Оно ведь, как я сказал, должно быть передано в коллегию, и оттуда уже его привезет курьер или передаст мне тамошний рассыльный.
– Мой любезный господин! Вы окажете величайшую услугу ее высочеству герцогине, если возьмете здесь от меня письмо и прямо передадите… Ее величество наверное не прогневается на вас за это отступление от буквы закона… Сущность его от того нисколько не изменится, и вам не будет высказано неудовольствия.
– Не смею, – отвечал Балакирев и остановился снова в раздумье. Дитрихс, взглянув на задумчивого Ивана, что-то сказал на ухо камер-юнкеру, а тот, вынув из кармана куверт, вложил его в руку царского слуги, сделавшего недовольное движение в сторону.
– Не могу брать, сказано вам, – возвращая куверт, молвил Балакирев, оправившись.
Камер-юнкер с поклонами стал подаваться назад и лишь глазами выражал свою горячую просьбу. Балакирев остановился и снова погрузился в раздумье. Ему припомнились сказанные государынею накануне слова, что ее величество изо всех племянниц больше всего расположена к Анне Ивановне. При таких чувствах, питаемых к ее высочеству государынею, может быть, ей и будет приятно письмо от герцогини? Да, может быть, она и ожидает семейного сообщения по какому-нибудь делу, ей лично доверенному, чего коллегии и вправду знать не следует?
Но эти мысли, придя в голову Ивану, еще более усилили в нем решимость: принимать не велено деловые бумаги, а если это не деловое и такого сорта письмо, за которое спасибо скажут, что принял, а не отослал?
Под влиянием этой мысли Балакирев спросил камер-юнкера:
– Уверены ли вы, однако, что это прямо к государыне следует?
– Да как же… Если ее высочество решительно отдала мне повеление доставить его, даже лично, государыне… и повторить, без свидетелей, наказанное мне передать одной ее величеству.
– Последнее немыслимо… Вы знаете, что удостоить личной аудиенции зависит вполне от расположения государыни. Я могу передать, пожалуй, только письмо. А если спросят, как оно сюда попало, я должен буду сказать – сославшись на вас, господин Дитрихс, – что мне именно говорено: что это родственное, а не деловое сообщение ее высочества.
Дитрихс наклонением головы подтвердил точность услышанного.
Балакирев оставил обоих немцев, вступив во внутренний коридор и тщательно притворив за собою дверь.
Никого не было ни в коридоре, ни в двух первых комнатах ее величества. Постояв в первой из них и не слыша никакого звука вокруг, Балакирев подумал, что никого нет… Государыня вышла, может быть, к цесаревнам; а женщины ее величества – по своим комнатам. Последнее было и действительно так. Считая апартамент государыни пустым, Балакирев влетел в опочивальню, и ноги его как бы примерзли к полу Государыня лежала в шлафроке на диване и прямо смотрела на вошедшего.
Видя смятение, овладевшее верным слугой, ее величество тихо сказала ему:
– Там никого нет?
– Ну, вот уже не похвально! Неблагодарному быть перед Богом грех и перед людьми стыд. Да твоя, правду-матку молвить, и жисть-от начинается, чего доброго, теперя, может… пойдешь в чины… Отличен будешь… силен будешь… Мы тебя, ты – нас оберегай! И все как по маслу пойдет. Невесту сыщем раскрасавицу… коли раздумал с Ильиничной родниться. А мой совет: Дуньку не бросать – подпора будет и прекрепкая и надежная. Затем, что при лице… И… во как заживем! Никакие Андрюшки Ушаковы не будут страшны! – заключил свой совет Макаров и сам вперил в Ивана свои быстро бегающие, вечно улыбающиеся глазки.
– Мне Андрея Ивановича и то бояться нече… На что в крепости прошлое дело покрывал как мог, не тиранил, – так и привезли к нему: милость обещал и обошелся словно родной. Да и родной другой так тебя не встретит, не обласкает. Сам, веришь Богу, и государыне представил и при мне же говорил: «Грешно будет вам Ивана не помнить… Что не выдал – уж я засвидетельствую…» А я в ту пору – сказал мне только Андрей Иваныч про смерть жены, да про бабушку – я, знаете, словно шальной был… в чаду: говорить не мог, как теперь с тобой. Только упал государыне в ноги да ну плакать. Не плаксив я, Алексей Васильич, – я думаю, знаете сами, а тут слез удержать не мог – плачу-разливаюсь. Выплакался – и словно полегчало. А государыня милостиво изволила мне волосы разглаживать, словно мать родная, да тихонько уговаривает: «Перестань!..» Как полегчало, я схватил ручку ее величества да ну целовать… Такая смелость нашла! А ее-то величество осчастливила меня: в лоб поцеловала!.. Вот я мало-маля и оправился.
– А-а! Вот как!.. Так это Андрей тут посодействовал? Ну, коли тебе милость, – Господь с тобой… От тебя зазору да лиха не ожидать – свои люди. Я тебе поперек дороги не стану. Ты всегда меня знал – спервоначалу. Я тебя, знаешь, не выдам, ты – меня. Что скажу – ты как следует, начистоту выполнишь. Я – в свою очередь… А насчет Ушакова… Я тебе, братец, скажу по душе: на его лисьи подбеганья ты не сдавайся! Есть ли такой другой шельмец?! А коли знать хочешь: в вашем деле поноровку чинил Андрюшка – и то, разумеется, не ради тебя. А сам он плут преестественный, и подлипала, и мошенник – может, почище еще Павлушки Ягужинского, хоша и тот угар! Ты не гляди, что у Андрюшки свиное рыло, уж коли умел отвести очи что ни есть зоркого государя покойного, так, значит, всем шельмецам голова! Чего доброго, закабалит он тебя своим приголубливаньем в соглядатаи всем добрым людям на беду! И ты не поддавайся, смотри у меня! Узнаю, что Андрюшке поддался, – беда тебе: на глаза не пущу! А Дуньки Ильиничниной держись, не плошай. Чтоб ее у тебя из-под носу какой ни есть немчик голштинский не увел. Голштинцам, братец ты мой, лафа теперь, я тебе скажу. Эти голштинские немцы уж на что лучше щука, чем светлейший, – и того осилили. С виду простаками прикидываются: и выпить не прочь или там песенку спеть, а дело у них делается! И дружно стоят как один за своего. И герцог Голштинский, к примеру молвить, добряк, а все себе на уме! Он теперя жених цесаревны. Помолвили – ты не слыхал, должно, – в Катеринин день. Тебя, может, уже услали тогда?
– Нет еще… а скоро потом увезли в Ревель проклятый! – сказал и с досадою плюнул Иван Балакирев, припомнив заключение.
Пришла Ильинична, и за нею следом Дуня.
Макаров встал и вызвал Ильиничну, заявив, что ему необходимо переговорить с нею немедленно.
Дуня осталась с Ваней, и только началась между ними интимная беседа шепотом, как послышался за дверью легкий шорох. Балакирев подлетел и, распахнув дверь, отступил на шаг в крайнем изумлении. Это же ощущение охватило мгновенно и Дуню.
Перед смущенною парою оказался сам Павел Иванович Ягужинский, не менее изумленный, но к тому же взбешенный.
По всей вероятности, гофмаршал или не сюда шел, или шел видеть Ильиничну, но никак не думал найти Балакирева. Найдя же не того, кого хотел, при всем смущении первый нашелся.
– Так как ты, Иван, вступил по воле ее величества в бессменную службу в приемной государыни, то я требую раз и навсегда, чтобы ты был исправен в выполнении своих обязанностей. А обязанность твоя заключается в том, чтобы ты доносил мне ежедневно о лицах, принимаемых на аудиенцию ее величеством.
Чтобы ты все приносимые письменные посылки передавал женщинам в следующую комнату, а сам в опочивальню не входил. Чтобы, получив письмо, спрашивал, от кого оно, и докладывал об этом. Но ты не обязан ни с кем из приходящих вступать в объяснения. За малейшее опущение в чем-либо из перечисленных теперь твоих обязанностей я строго взыщу. Государыня непременно хочет, чтоб ее воля исполнялась буквально, несмотря ни на какое лицо. Если же в чем противно поступишь, не жалуйся.
– Все, что мне когда бы ни было поручалось, я твердо помнил и исполнял, кажется, так что не заслуживал выговоров, – почтительно, но твердо и с сознанием своей правоты ответил, кланяясь, Балакирев.
Павел Иванович, хотя посмотрел на новопожалованного слугу государыни по-прежнему неблагосклонно, но, уже понизив тон, отдал последний приказ:
– Главное, мой милый, мне аккуратно доноси об удостоенных аудиенции…
Затем Ягужинский, не желая, должно быть, слышать о неудобствах выполнения этого своего приказания, поспешно оборотился и направился к лестнице.
– Отлучаться, сами изволите знать, мне нельзя, – заговорил Иван, но этого, вероятно, не расслышал гофмаршал.
III. Новое знакомство
В новом преображенском мундире прапорщика Иван Алексеевич Балакирев сидел в приемной ее величества. Приходили с письмом от светлейшей княгини. Письмо Иван взял и подал ее величеству, да по приказу государыни распечатал и прочел. Выслушав и выразумев смысл грамотки, велено было передать посланному, что ее величество соизволяет, чтобы светлейшая княгиня пожаловала и привезла старшую княжну – прокатиться с их высочествами в санях.
Передав ответ, Балакирев стал спрашивать посланного, провожая его до дверей, про Шульца, управляющего: здоров ли, была ли свадьба у дочери его и где зять пристроен?
– В канцелярии светлейшего, известно… протоколист по военной коллегии, годный человек… смыслит дела…
– Как прозывается-то? – полюбопытствовал Иван. – Дитрихс… из курляндчиков. Да никак он сам сюда идет и ведет с собою еще какого-то молодца, бравый из себя… и коренаст довольно.
– Да… Он, кажись…
Договорить не удалось, как распахнулась дверь и в переднюю вступили двое молодых людей, довольно статных и пригожих из себя.
Посланный из дома светлейшего поклонился, и ему ответили поклоном.
– Не знаете ли, – спросил Дитрихс княжеского посланного по-немецки, – к кому здесь следует обратиться, чтобы рекомендовать его честь господина камер-юнкера, приехавшего с чрезвычайным поручением к ее императорскому величеству от ее высочества светлейшей герцогини Курляндской?
– Черезвычайные поручения передаются через посредство иностранной коллегии, – ответил по-немецки же Балакирев.
– Позвольте, благо вы разумеете по-нашему, вам высказать особенные побуждения герцогини писать государыне, – обратился к Балакиреву камер-юнкер. – Уделите мне две-три минуты внимания, и вы поймете, что коллегии иностранных дел этих интимных излияний доверять не следует. Усердие чиновников ничего не усмотрит из родственной формы обращения к душе и сердцу императрицы признательной ее племянницы… А государыня умеет тонко определять, не по формальным фразам, выражения преданности, теплоту чувства и доверие герцогини к неуклонной правоте и святому беспристрастию ее величества. Эти чувства дали ее высочеству смелость просить ее величество допустить меня, преданнейшего из рабов ее высочества, до личной аудиенции, без свидетелей, где бы я мог высказать, что мне повелено и что ни в каком случае не должно быть передаваемо кому бы ни было, кроме ее величества… Бумаге доверить этого нельзя… Понимаете?
Выслушав эту тираду, Иван Балакирев не шутя призадумался. Как быть? Рассудок и сердце подсказывали, что камер-юнкеру необходима секретная аудиенция, но останавливал личный запрет Павла Ивановича Ягужинского: не сметь позволять себе вступать с ее величеством ни в какой разговор и не пытаться что-либо добавлять дальше подачи принесенного письма, произнося только имя приславшего. Наказано было даже, передав женщине в следующей комнате письмо, немедленно поворачиваться и уходить, не выжидая ни одного мгновения. Если бы последовало монаршее повеление, то ее величество изволило бы выслать свою женщину или приказать, чтобы прапорщик лейб-гвардии вошел. Такова неизменная воля ее величества, желающей, чтобы ее как можно меньше тревожили и не прерывали докладом ее августейшую думу.
Видя Балакирева, предавшегося раздумью, Дитрихс и курляндский камер-юнкер переглянулись. Первый легонько взял за обшлаг Балакирева и, приподнявшись к уху его, прошептал по-немецки:
– Не медлите, камрад, благодарность будет – верная… господин камер-юнкер боится, что приезд его сюда будет замечен и, чего доброго, случай немедленно видеть ее величество будет потерян из-за одного вашего промедления…
– Господин Дитрихс, – сказал ему громко Балакирев, – промедление, вами замечаемое, не более как невозможность с моей стороны выполнить требование господина камер-юнкера. Подав письмо, хотя это мне и запрещено, я выполню все, что желал бы господин камер-юнкер… Но вы хотите, чтобы в прибавок к передаче письма я доложил и о просьбе камер-юнкера: представиться ее величеству немедленно, для личного сообщения воли ее высочества герцогини Курляндской? Не так ли?
– Точно так, – ответил камер-юнкер.
– Вот этого я сделать не смогу имея строгий наказ от господина обер-гофмаршала.
– Но… может быть, вы, мейнгер[8 - Мейнгер – господин (от нем. mein Here).], не так понимаете данный вам наказ? – с живостью спросил, подступив к Балакиреву, камер-юнкер.
– Нет… Совершенно так, как я вам докладываю… Мне указана обязанность подавать письма (и то от одних здешних особ, не принимая ни одного, привезенного помимо почты). И, подав письмо, произнести: от такого-то или от такой-то… Затем, добавив: посланный дожидается, самому немедленно уходить. В настоящем же случае я не знаю, могу ли я доложить ее величеству о том, что письмо это привезено на имя государыни от царевны Анны Ивановны? Оно ведь, как я сказал, должно быть передано в коллегию, и оттуда уже его привезет курьер или передаст мне тамошний рассыльный.
– Мой любезный господин! Вы окажете величайшую услугу ее высочеству герцогине, если возьмете здесь от меня письмо и прямо передадите… Ее величество наверное не прогневается на вас за это отступление от буквы закона… Сущность его от того нисколько не изменится, и вам не будет высказано неудовольствия.
– Не смею, – отвечал Балакирев и остановился снова в раздумье. Дитрихс, взглянув на задумчивого Ивана, что-то сказал на ухо камер-юнкеру, а тот, вынув из кармана куверт, вложил его в руку царского слуги, сделавшего недовольное движение в сторону.
– Не могу брать, сказано вам, – возвращая куверт, молвил Балакирев, оправившись.
Камер-юнкер с поклонами стал подаваться назад и лишь глазами выражал свою горячую просьбу. Балакирев остановился и снова погрузился в раздумье. Ему припомнились сказанные государынею накануне слова, что ее величество изо всех племянниц больше всего расположена к Анне Ивановне. При таких чувствах, питаемых к ее высочеству государынею, может быть, ей и будет приятно письмо от герцогини? Да, может быть, она и ожидает семейного сообщения по какому-нибудь делу, ей лично доверенному, чего коллегии и вправду знать не следует?
Но эти мысли, придя в голову Ивану, еще более усилили в нем решимость: принимать не велено деловые бумаги, а если это не деловое и такого сорта письмо, за которое спасибо скажут, что принял, а не отослал?
Под влиянием этой мысли Балакирев спросил камер-юнкера:
– Уверены ли вы, однако, что это прямо к государыне следует?
– Да как же… Если ее высочество решительно отдала мне повеление доставить его, даже лично, государыне… и повторить, без свидетелей, наказанное мне передать одной ее величеству.
– Последнее немыслимо… Вы знаете, что удостоить личной аудиенции зависит вполне от расположения государыни. Я могу передать, пожалуй, только письмо. А если спросят, как оно сюда попало, я должен буду сказать – сославшись на вас, господин Дитрихс, – что мне именно говорено: что это родственное, а не деловое сообщение ее высочества.
Дитрихс наклонением головы подтвердил точность услышанного.
Балакирев оставил обоих немцев, вступив во внутренний коридор и тщательно притворив за собою дверь.
Никого не было ни в коридоре, ни в двух первых комнатах ее величества. Постояв в первой из них и не слыша никакого звука вокруг, Балакирев подумал, что никого нет… Государыня вышла, может быть, к цесаревнам; а женщины ее величества – по своим комнатам. Последнее было и действительно так. Считая апартамент государыни пустым, Балакирев влетел в опочивальню, и ноги его как бы примерзли к полу Государыня лежала в шлафроке на диване и прямо смотрела на вошедшего.
Видя смятение, овладевшее верным слугой, ее величество тихо сказала ему:
– Там никого нет?