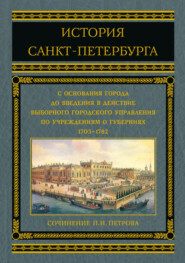По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Белые и черные
Автор
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Оставив опочивальню государыни, Балакирев невольно замедлил шаг, задавая себе вопрос: с чего начать приступ к делу, чтобы не промахнуться?
Первая попалась ему навстречу Ильинична. Ей, недолго думая, и задал вопрос Иван Алексеевич:
– Авдотья Ильинична, есть у вас знакомые во дворах у князя Никиты Волконского или Бестужевых?
– Есть, конечно. Да кого тебе?
– Человека бы такого, который про митавское житьецо мусил.
– А что такое тебе требуется? Прямо говори.
– Да вот государыня велела узнать скорей: кто таков этот самый камер-юнкер, которого сейчас я представлял ей от царевны Анны Ивановны. И наша мать заприметила, что слова его будто с подвохом; да и мне сдавалось, как он загуторил, что, чего доброго, не то бает, что наказано. Оно будет понятно, как дознаемся, что за птица такая. А птичка не простая, с полету видна… и, может, не без закавык… Отвод глаз тоже смекает, не хуже кого другого. Все, сдается, не впрямь, а вкось норовит… то же, да не так выговаривает… И на близких упирает, и жениха словно не хает, да нет-нет и проговорится, что, коли б отъехал ни с чем, разлюбезное дело бы было…
– Да ты, Ваня, может, сам, не вслушавшись, это говоришь, а может, оно в чем и иначе?.. Конечно… и то сказать… Вдова не стара, своя воля… Замужем будучи, хотя и немецкий человек, а все муж… Сноровить ему нужно, мало ль что царевна… Да кого ж прислала-то Анна Ивановна… новый человек, что ль?
– Новый, кажись, такого не видал я при ней, как позапрошлый год была здесь ее высочество. Другие были, да набольший Петр Бестужев; знаю… у него дом здесь… сыновья в службе… где-то посольства правят никак… А дочь-то, Аграфена Петровна, за князем Никитою Волконским; из себя такая здоровенная и далеко не глупа… в родню пошла свою, не в пример мужниной, простякам. Вот при этой самой барыньке нет ли у тебя кого из людей толковых, с ней живших в Митаве? Ведь помню, как в Ригу мы ездили, и в Митаве я был, она у отца в ту пору жила, и государыня ее жаловать изволила.
– Знаем княгиню Аграфену Петровну, и она нас знает довольно… и у ней нужно прямо спросить. Когда же надоть это самое?
– Да чем скорее, тем лучше. Сегодня бы, к примеру сказать, вот бы скатала ты к княгине не откладывая да выспросила бы… истинно бы оказала мне родственную поддержку. И я бы тебе, что понадобится, ответить мог, коли что повелишь; да – могим…
– Почему не так, паря? Съезжу. Что сказал – не запамятую. Только надоумь: какой бы предлог изобресть к ней явиться?.. Чтобы невдомек… Наша не любит, чтобы прямо, без нужды, ее назвать да упирать, что она сама велела узнать.
– Разумеется… так подъехать нужно, чтобы про того, о ком желается разузнать, помину не было. Да как не придумать; вот дай срок… тряхнем мозгами… покалякаем потом; дай спровадить курляндца спервоначалу из передней. Да, знаешь, вот сейчас еще мне кое-что пришло в голову. Авось ловчее подведем турусы к кому следует – дай срок… Повыудим мало-помалу окуньков попрежде у своего бережку.
И сам направился к затворенной двери в переднюю. Там сидел, уже без Дитрихса, камер-юнкер царевны Анны, и ему на ухо нашептывал что-то Лакоста на своем ломаном жаргоне, мало понятном для непривычного уха.
От этого рода сообщений лицо камер-юнкера выражало страшное напряжение и любопытство.
Появление Балакирева прекратило повествование или внушения Лакосты, к явному его неудовольствию, так как ему пришлось не только остановиться в начале рассказа, но и уйти по знаку Балакирева, указавшего ему на дверь, и он не успел предупредить Бирона, когда и где он может снова увидеться с ним.
Когда Лакоста исчез, Балакирев подошел к двери, за которою тот скрылся, и внезапно распахнул ее, думая, не притаился ли он тут же, для подслушиванья. Затем Иван дошел до другой двери, сквозь которую можно еще было пройти на половину цесаревен, и запер ее на ключ. Это же сделал, возвратившись к Бирону, и с дверью из передней. Тогда, усадив его к окну и сам сев против него, он сказал весело, прямо смотря ему в глаза:
– Велено мне изготовить ответ государыне царевне Анне Ивановне. Напишите вы его так, как желали бы видеть решение ее величества…
– И вы позволите? – почти вскрикнул камер-юнкер с особенным оживлением, показавшим всю неожиданность подобного предложения, на которое он не смел и рассчитывать. Улыбка самодовольствия, прикрываемого полнейшим расположением, осветила умные черты Ивана Балакирева. Он надеялся, что из ответа камер-юнкера видно будет, чего тот желает, если в письме его окажется разница с тем, что он говорил императрице, то истинные цели его легко можно угадать. Бирону, конечно, такое предложение не могло представляться подобного рода испытанием его мыслей. Камер-юнкер, ничего не подозревая, просто отнес это поручение к желанию Балакирева получить с него хорошую взятку, как делывали обыкновенно с немцами. И он сам в подобном положении ничего не сделал бы без тяжеловесной благодарности. Мало того, у Бирона, вслед за возбуждением предательской радости, родилось еще желание поторговаться с простяком, прежде чем отсчитать ему червонцы. При этом, думал он, следует пустить в ход, в свою очередь, и изумление как бы, если напомнит слуга царицын о взносе. А затем уже, идя на уступки, думал камер-юнкер, мы рассыплемся в уверении, что поступили подобным образом только из желания услужить государыне. Он, вероятно получив поручение составить ответ, недостаточно к нему подготовлен? Тогда, понятно, самая работа наша могла сделаться для него источником хлопот, затруднений и еще риска, пожалуй, – заслужить немилость неудачною стряпнею!
– Я напишу вам как можно проще, – молвил Бирон. – Но не беспокойтесь, я постараюсь все так обстоятельно изложить, что впасть в ошибку при переписке вам решительно будет нельзя.
Говоря с таким апломбом, Бирон смотрел на Балакирева, конечно, свысока. А тот из тона сказанного еще больше убеждался в ограниченности его ума.
– Очень буду благодарен. Конечно, где же понять мне, новому человеку, все посольские извороты вашей немецкой речи? Только, господин камер-юнкер, об одном смею просить, поторопиться. Чего доброго, завтра потребуют, и что я тогда? Конечно, помню я кое-что из ваших слов и в случае крайности что-нибудь написать могу, но коли бы вы сами, дело бы чище и лучше вышло.
– Может ли быть какое сравнение между работою вашей и человека, как я, выросшего между дипломатами? – прихвастнул Бирон и смерил надменным взглядом слугу царицы. Тот, в свою очередь, тоже смотрел на него, прищурившись и с усилием удерживаясь от смеха.
«Сем-ка, – думает Иван, – запустить разве ему еще загогулину, да пощупать с той стороны, которая еще больше на руку нам… Авось и того не разберет?» Помолчал-помолчал, да и брякнул:
– А что, смею спросить, вы, батюшка, имеете надежного приятеля или родственника при дворе царевны Анны Ивановны, кто бы вас уведомить мог или поддержать, при случае когда вороги станут пытаться вас оттереть?
Бирон вздрогнул невольно при этом напоминании и вытаращил на Балакирева свои большие глаза, как бы желая на лице его вычитать: как он успел проникнуть в тайну души его? А именно – заговорить о принятии мер для предотвращения опасности, могшей последовать, пока его нет в Митаве. Не далее, как, идя во дворец, Бирон поверял Дитрихсу свои опасения, чтобы Бестужеву не удалось теперь подставить ему ножку. Не отвечая на вопрос Балакирева, приведенный в смятение им, Бирон продолжал смотреть на Ивана со страхом, похожим на суеверный ужас человека, верящего в колдовство, при рассказе о действиях оборотней.
Заметив ужас на лице камер-юнкера, Балакирев понял, что недалекий хвастун действительно теперь находится в случае и боится сильных врагов. «С этой стороны для нас довольно, – решил про себя Ваня. – Попробуем-ка узнать, каков его случай». И, помолчав еще, Ваня начал разговор как бы сам с собою, вслух, забывшись…
– Царевна Анна Ивановна – государыня взыскательная. На нее трудно потрафить… И то не так, и другое не ладно. Иное дело как особа величественная и умом, и станом, и сладкою речью довольна, и повадки самые важные, и нравом угодить успели… тогда, разумеется, отсутствие заметно… Слушать других скучнее бывает; не в лад они и слово молвят. Приятства такого нет. Сравнение само собою придет в мысли, этот и этот наскучат, такого-то приятнее нам видеть и послушать отрадно… и вздохнется, как еще нет налицо… С тоски без него пропадешь… скажет сама с собою, да и напишет: будь скорее!
Говоря эти слова, Ваня посматривал искоса, неприметно, на лицо молчаливого Бирона, то вспыхивавшее ярким румянцем, то терявшее краску. Такая же перемена была заметна и в глазах его, которые то тускнели, то сверкали при проявлении румянца. Уста Бирона начали наконец раскрываться сами собою, как бы порываясь заговорить, но он не знал, с чего начать разговор. Заметив это, Балакирев предупредил его вопросом:
– А смею спросить, вы долго думаете у нас пробыть?
Новое смятение на лице камер-юнкера и несвязный ответ:
– Долго, я думаю… хотел бы монархине вашей удосужиться представить мою преданность. Где ни служить – все равно, не правда ли? Лишь бы ценили преданность. Скажите… прошу только быть искренним, обращаясь к вам как друг: у вас ничего не слышно о какой-либо партии… которую намерена сделать ее величество?.. Наша герцогиня, знаете, воли не имеет ни в чем. За нею сотни глаз… А ваша… сама повелительница своих действий. Благообразна и не в таких летах, чтобы не могла увлечься… поручиться, сами знаете, трудно!
– Ее высочество герцогиня Анна Ивановна еще моложе… десять лет, сударь мой, не шутка! У ее величества свадьба дочери на руках… Другая – впереди… Вдовство недавнее еще. Так что не трудно вам ответить, что у нас ничего не слышно, да и трудно слышать. Ничего, правду сказать, и не замечаем. А набирать разве могут во двор к герцогу Голштинскому? Там немцы всеконечно… и вам нужно бы пристроиться… да только там своих – пруд пруди!.. и уже, кажись, набрали едва ли не полный комплект. Да вам незачем покуда и переменять, полагать надо, службу? Где вы вдруг удостоитесь такой великой поверенности? Прошлое расположение воротить – в случае даже утраты – легче, чем приобретать новое.
Еще раз вздрогнул Бирон при метком намеке Балакирева, и Ваня решил в уме своем, что пытать его покуда нечего. Подробности ничего не прибавят к главному, а оно им отгадано! Насчет же того, что намерен человек предпринять, – даст ответ немецкая отповедь его царевне для переписки по-русски!
Посидев еще несколько минут молча, смотря в окошко и бросая накось взгляды на Бирона (крепко озадаченного всем услышанным от царицына слуги), Ваня встал и извинился, что ему пора идти к государыне за приказаниями.
Бирон очень сочувственно, если не сказать даже с подобострастием, пожал руку Балакирева.
Теперь он вырос для него до чудовищных размеров, и камер-юнкер стал соображать, нельзя ли будет заручиться дальнейшим содействием Ивана. В предложении его написать ответ герцогине Курляндской он видел личное сочувствие Балакирева, которым должно было пользоваться не теряя времени. Теперь дело стояло, так сказать, за ним самим.
– Чем скорее принесется ответ, тем лучше! – сказал он. – Это не ослаблять следует, а усиливать, чтобы получить поддержку. – И эти две мысли, заменяясь одна другою, заняли вполне ум вышедшего из дворца камер-юнкера.
IV. Шпионы
Балакирев, выпроводив Бирона, пришел в комнату Ильиничны.
Ее не было, но голос ее слышался где-то по соседству, то прерываясь и переходя в полушепот, то возвышаясь и принимая тон горячего оживления.
Иван вслушивается в эту трескотню внимательнее, и ему удается отличить нередкое повторение своего имени.
«К чему бы такому я понадобился Авдотье Ильиничне? – думает он. – И с кем это она перемывает косточки, поминая, никак, меня, грешного? – Говор приметно близится, и вот уже яснее слышна, от слова до слова, частая речь Ильиничны. – Это с Анисьей Кирилловной», – прошептал, отличив другой голос, Ваня.
– Не говори мне больше про этого тихоню! – кричит Ильинична. – Воды не замутит, а сводки сводить – куда горазд. Все слушает, молчит что истукан какой… дурака корчит, а сам себе на уме. Все переводит. Да про кого еще и кому? Про матушку нашу паскудным тварям… все ехидство свое – аль не видишь? – не оставляют. Только с другой стороны вести принялись подкопы под нас… только бы им оттереть нас, чтобы самим в руки забрать и ее, и вас всех. А вы, глупенькие, и в толк взять не хотите, что сегодня нас ототрут, завтра – вас! А послезавтра своих наставят и начнут творить все, что им угодно. А вы уши развесили, что это Иродово племя, шут непутный, на меня вам с умыслом околесицу несет. Что ему стоит из своей чертовой головищи выбрать что ни есть попричиннее клевету? Не в том сила, чтобы ее доказать, а чтобы сомнение навести да грязью своей замарать. А сам он предатель ведомый. Монса предал, Балакирева предал. Матушку продал… Светлейшего продал. Везде, пролаз, путь нашел! Нет уж, не хочу ничего больше ждать. Сама пойду к Андрею Ивановичу и слезно буду молить, чтоб шуту проклятому язычишко поганый повытянул да поукоротил, чтобы он…
– О чем вы кричите так, паскудные бабы? Я только задремала… так нет чтобы дать мне покой – принялись орать. Я вас ужо! – раздался гневный окрик государыни.
– Ваше величество, не осмелилась бы я возвысить голоса, коли бы дело шло про мои делишки, а то – отпусти, государыня матушка, вину мою невольную – по горячности, что не выдержала, высказала Анисье Кирилловне правду-матку насчет дела вашего береженья… Тут паскудный Лакоста, предатель, взводит на ваших верных слуг заведомые лжи, с тем чтобы прикрывать свое воровство. Попался он мне не пять, не десять раз, в подслушиванье того, что говорите у себя… Выслушивает это все и передает, мерзавец, Чернышихе, что под тебя, государыня, сами вы известны, как в недавнее время, при покойнике, подрывалась и клеветы возносила. И направила она, пакостница, с Ягужинским Павлушкой донос на Монса несчастного… А вы, государыня, досель эту пакость терпите и жалуете и извести не повелите такую гадину, как шут, например… А Анисья Кирилловна его словам веру дает и мне выговаривает, зачем, дескать, неладно молвила. Коли я, государыня, не токмо ничего не молвила, а просто сказать, вот те Христос, и во сне не грезила, что он лгун, на меня взводит. А причина известная: надо ему что ни на есть измыслить, из боязни, что я терпеть не буду, а выскажу, как ловлю его на шпионстве. Притаится, гадина, в темном углу, за дверью; и не видно его, а он целые часы простоять может и все выслушивает, что ваше величество, у себя…
– Замолчи… довольно! Анисья Кирилловна, не мешайся не в свое дело. А с Лакостой я велю расправиться Ушакову, пусть допытается, для кого он за нами шпионит. Тут кроются скверности! И если обнаружатся какие-нибудь из твоих свойственников, Анисья Кирилловна, я подумаю, что и ты с ними заодно, коли заступаешься за шпиона.
Гнев государыни проявился теперь в такой силе, что Анисья Кирилловна хотела уйти, давая державному гневу уходиться. Вышло противное: гнев Екатерины I получил новую пищу, переменив направление. В уме государыни возникло мгновенное подозрение, что девица Толстая, преданность которой ей была уже давно вполне известна, уходит, чтобы предупредить сторонников о предстоящем допросе Лакосты. Государыня сильным движением руки остановила свою любимую спутницу в разъездах и постоянного секретаря, едва произнеся в ярости:
– Куда? Шашни, видно, раскрываются? Так надо дать знать, что я велю за шута приняться!
Анисья Кирилловна опустилась на колени и зарыдала от обиды. Горе в эту минуту заставило девицу Толстую все забыть, предавшись неудержимой скорби. Слезы на Екатерину Алексеевну всегда производили сильное действие, и этот поток слез с громким всхлипываньем скорее, чем можно было ожидать по силе гнева, переменил его на милость и даже – чуть не на нежность к старому другу. Государыня положила обе руки свои на плечи Анисьи Кирилловны и сама склонила голову к плечу ее, успокаивая ее.
Первая попалась ему навстречу Ильинична. Ей, недолго думая, и задал вопрос Иван Алексеевич:
– Авдотья Ильинична, есть у вас знакомые во дворах у князя Никиты Волконского или Бестужевых?
– Есть, конечно. Да кого тебе?
– Человека бы такого, который про митавское житьецо мусил.
– А что такое тебе требуется? Прямо говори.
– Да вот государыня велела узнать скорей: кто таков этот самый камер-юнкер, которого сейчас я представлял ей от царевны Анны Ивановны. И наша мать заприметила, что слова его будто с подвохом; да и мне сдавалось, как он загуторил, что, чего доброго, не то бает, что наказано. Оно будет понятно, как дознаемся, что за птица такая. А птичка не простая, с полету видна… и, может, не без закавык… Отвод глаз тоже смекает, не хуже кого другого. Все, сдается, не впрямь, а вкось норовит… то же, да не так выговаривает… И на близких упирает, и жениха словно не хает, да нет-нет и проговорится, что, коли б отъехал ни с чем, разлюбезное дело бы было…
– Да ты, Ваня, может, сам, не вслушавшись, это говоришь, а может, оно в чем и иначе?.. Конечно… и то сказать… Вдова не стара, своя воля… Замужем будучи, хотя и немецкий человек, а все муж… Сноровить ему нужно, мало ль что царевна… Да кого ж прислала-то Анна Ивановна… новый человек, что ль?
– Новый, кажись, такого не видал я при ней, как позапрошлый год была здесь ее высочество. Другие были, да набольший Петр Бестужев; знаю… у него дом здесь… сыновья в службе… где-то посольства правят никак… А дочь-то, Аграфена Петровна, за князем Никитою Волконским; из себя такая здоровенная и далеко не глупа… в родню пошла свою, не в пример мужниной, простякам. Вот при этой самой барыньке нет ли у тебя кого из людей толковых, с ней живших в Митаве? Ведь помню, как в Ригу мы ездили, и в Митаве я был, она у отца в ту пору жила, и государыня ее жаловать изволила.
– Знаем княгиню Аграфену Петровну, и она нас знает довольно… и у ней нужно прямо спросить. Когда же надоть это самое?
– Да чем скорее, тем лучше. Сегодня бы, к примеру сказать, вот бы скатала ты к княгине не откладывая да выспросила бы… истинно бы оказала мне родственную поддержку. И я бы тебе, что понадобится, ответить мог, коли что повелишь; да – могим…
– Почему не так, паря? Съезжу. Что сказал – не запамятую. Только надоумь: какой бы предлог изобресть к ней явиться?.. Чтобы невдомек… Наша не любит, чтобы прямо, без нужды, ее назвать да упирать, что она сама велела узнать.
– Разумеется… так подъехать нужно, чтобы про того, о ком желается разузнать, помину не было. Да как не придумать; вот дай срок… тряхнем мозгами… покалякаем потом; дай спровадить курляндца спервоначалу из передней. Да, знаешь, вот сейчас еще мне кое-что пришло в голову. Авось ловчее подведем турусы к кому следует – дай срок… Повыудим мало-помалу окуньков попрежде у своего бережку.
И сам направился к затворенной двери в переднюю. Там сидел, уже без Дитрихса, камер-юнкер царевны Анны, и ему на ухо нашептывал что-то Лакоста на своем ломаном жаргоне, мало понятном для непривычного уха.
От этого рода сообщений лицо камер-юнкера выражало страшное напряжение и любопытство.
Появление Балакирева прекратило повествование или внушения Лакосты, к явному его неудовольствию, так как ему пришлось не только остановиться в начале рассказа, но и уйти по знаку Балакирева, указавшего ему на дверь, и он не успел предупредить Бирона, когда и где он может снова увидеться с ним.
Когда Лакоста исчез, Балакирев подошел к двери, за которою тот скрылся, и внезапно распахнул ее, думая, не притаился ли он тут же, для подслушиванья. Затем Иван дошел до другой двери, сквозь которую можно еще было пройти на половину цесаревен, и запер ее на ключ. Это же сделал, возвратившись к Бирону, и с дверью из передней. Тогда, усадив его к окну и сам сев против него, он сказал весело, прямо смотря ему в глаза:
– Велено мне изготовить ответ государыне царевне Анне Ивановне. Напишите вы его так, как желали бы видеть решение ее величества…
– И вы позволите? – почти вскрикнул камер-юнкер с особенным оживлением, показавшим всю неожиданность подобного предложения, на которое он не смел и рассчитывать. Улыбка самодовольствия, прикрываемого полнейшим расположением, осветила умные черты Ивана Балакирева. Он надеялся, что из ответа камер-юнкера видно будет, чего тот желает, если в письме его окажется разница с тем, что он говорил императрице, то истинные цели его легко можно угадать. Бирону, конечно, такое предложение не могло представляться подобного рода испытанием его мыслей. Камер-юнкер, ничего не подозревая, просто отнес это поручение к желанию Балакирева получить с него хорошую взятку, как делывали обыкновенно с немцами. И он сам в подобном положении ничего не сделал бы без тяжеловесной благодарности. Мало того, у Бирона, вслед за возбуждением предательской радости, родилось еще желание поторговаться с простяком, прежде чем отсчитать ему червонцы. При этом, думал он, следует пустить в ход, в свою очередь, и изумление как бы, если напомнит слуга царицын о взносе. А затем уже, идя на уступки, думал камер-юнкер, мы рассыплемся в уверении, что поступили подобным образом только из желания услужить государыне. Он, вероятно получив поручение составить ответ, недостаточно к нему подготовлен? Тогда, понятно, самая работа наша могла сделаться для него источником хлопот, затруднений и еще риска, пожалуй, – заслужить немилость неудачною стряпнею!
– Я напишу вам как можно проще, – молвил Бирон. – Но не беспокойтесь, я постараюсь все так обстоятельно изложить, что впасть в ошибку при переписке вам решительно будет нельзя.
Говоря с таким апломбом, Бирон смотрел на Балакирева, конечно, свысока. А тот из тона сказанного еще больше убеждался в ограниченности его ума.
– Очень буду благодарен. Конечно, где же понять мне, новому человеку, все посольские извороты вашей немецкой речи? Только, господин камер-юнкер, об одном смею просить, поторопиться. Чего доброго, завтра потребуют, и что я тогда? Конечно, помню я кое-что из ваших слов и в случае крайности что-нибудь написать могу, но коли бы вы сами, дело бы чище и лучше вышло.
– Может ли быть какое сравнение между работою вашей и человека, как я, выросшего между дипломатами? – прихвастнул Бирон и смерил надменным взглядом слугу царицы. Тот, в свою очередь, тоже смотрел на него, прищурившись и с усилием удерживаясь от смеха.
«Сем-ка, – думает Иван, – запустить разве ему еще загогулину, да пощупать с той стороны, которая еще больше на руку нам… Авось и того не разберет?» Помолчал-помолчал, да и брякнул:
– А что, смею спросить, вы, батюшка, имеете надежного приятеля или родственника при дворе царевны Анны Ивановны, кто бы вас уведомить мог или поддержать, при случае когда вороги станут пытаться вас оттереть?
Бирон вздрогнул невольно при этом напоминании и вытаращил на Балакирева свои большие глаза, как бы желая на лице его вычитать: как он успел проникнуть в тайну души его? А именно – заговорить о принятии мер для предотвращения опасности, могшей последовать, пока его нет в Митаве. Не далее, как, идя во дворец, Бирон поверял Дитрихсу свои опасения, чтобы Бестужеву не удалось теперь подставить ему ножку. Не отвечая на вопрос Балакирева, приведенный в смятение им, Бирон продолжал смотреть на Ивана со страхом, похожим на суеверный ужас человека, верящего в колдовство, при рассказе о действиях оборотней.
Заметив ужас на лице камер-юнкера, Балакирев понял, что недалекий хвастун действительно теперь находится в случае и боится сильных врагов. «С этой стороны для нас довольно, – решил про себя Ваня. – Попробуем-ка узнать, каков его случай». И, помолчав еще, Ваня начал разговор как бы сам с собою, вслух, забывшись…
– Царевна Анна Ивановна – государыня взыскательная. На нее трудно потрафить… И то не так, и другое не ладно. Иное дело как особа величественная и умом, и станом, и сладкою речью довольна, и повадки самые важные, и нравом угодить успели… тогда, разумеется, отсутствие заметно… Слушать других скучнее бывает; не в лад они и слово молвят. Приятства такого нет. Сравнение само собою придет в мысли, этот и этот наскучат, такого-то приятнее нам видеть и послушать отрадно… и вздохнется, как еще нет налицо… С тоски без него пропадешь… скажет сама с собою, да и напишет: будь скорее!
Говоря эти слова, Ваня посматривал искоса, неприметно, на лицо молчаливого Бирона, то вспыхивавшее ярким румянцем, то терявшее краску. Такая же перемена была заметна и в глазах его, которые то тускнели, то сверкали при проявлении румянца. Уста Бирона начали наконец раскрываться сами собою, как бы порываясь заговорить, но он не знал, с чего начать разговор. Заметив это, Балакирев предупредил его вопросом:
– А смею спросить, вы долго думаете у нас пробыть?
Новое смятение на лице камер-юнкера и несвязный ответ:
– Долго, я думаю… хотел бы монархине вашей удосужиться представить мою преданность. Где ни служить – все равно, не правда ли? Лишь бы ценили преданность. Скажите… прошу только быть искренним, обращаясь к вам как друг: у вас ничего не слышно о какой-либо партии… которую намерена сделать ее величество?.. Наша герцогиня, знаете, воли не имеет ни в чем. За нею сотни глаз… А ваша… сама повелительница своих действий. Благообразна и не в таких летах, чтобы не могла увлечься… поручиться, сами знаете, трудно!
– Ее высочество герцогиня Анна Ивановна еще моложе… десять лет, сударь мой, не шутка! У ее величества свадьба дочери на руках… Другая – впереди… Вдовство недавнее еще. Так что не трудно вам ответить, что у нас ничего не слышно, да и трудно слышать. Ничего, правду сказать, и не замечаем. А набирать разве могут во двор к герцогу Голштинскому? Там немцы всеконечно… и вам нужно бы пристроиться… да только там своих – пруд пруди!.. и уже, кажись, набрали едва ли не полный комплект. Да вам незачем покуда и переменять, полагать надо, службу? Где вы вдруг удостоитесь такой великой поверенности? Прошлое расположение воротить – в случае даже утраты – легче, чем приобретать новое.
Еще раз вздрогнул Бирон при метком намеке Балакирева, и Ваня решил в уме своем, что пытать его покуда нечего. Подробности ничего не прибавят к главному, а оно им отгадано! Насчет же того, что намерен человек предпринять, – даст ответ немецкая отповедь его царевне для переписки по-русски!
Посидев еще несколько минут молча, смотря в окошко и бросая накось взгляды на Бирона (крепко озадаченного всем услышанным от царицына слуги), Ваня встал и извинился, что ему пора идти к государыне за приказаниями.
Бирон очень сочувственно, если не сказать даже с подобострастием, пожал руку Балакирева.
Теперь он вырос для него до чудовищных размеров, и камер-юнкер стал соображать, нельзя ли будет заручиться дальнейшим содействием Ивана. В предложении его написать ответ герцогине Курляндской он видел личное сочувствие Балакирева, которым должно было пользоваться не теряя времени. Теперь дело стояло, так сказать, за ним самим.
– Чем скорее принесется ответ, тем лучше! – сказал он. – Это не ослаблять следует, а усиливать, чтобы получить поддержку. – И эти две мысли, заменяясь одна другою, заняли вполне ум вышедшего из дворца камер-юнкера.
IV. Шпионы
Балакирев, выпроводив Бирона, пришел в комнату Ильиничны.
Ее не было, но голос ее слышался где-то по соседству, то прерываясь и переходя в полушепот, то возвышаясь и принимая тон горячего оживления.
Иван вслушивается в эту трескотню внимательнее, и ему удается отличить нередкое повторение своего имени.
«К чему бы такому я понадобился Авдотье Ильиничне? – думает он. – И с кем это она перемывает косточки, поминая, никак, меня, грешного? – Говор приметно близится, и вот уже яснее слышна, от слова до слова, частая речь Ильиничны. – Это с Анисьей Кирилловной», – прошептал, отличив другой голос, Ваня.
– Не говори мне больше про этого тихоню! – кричит Ильинична. – Воды не замутит, а сводки сводить – куда горазд. Все слушает, молчит что истукан какой… дурака корчит, а сам себе на уме. Все переводит. Да про кого еще и кому? Про матушку нашу паскудным тварям… все ехидство свое – аль не видишь? – не оставляют. Только с другой стороны вести принялись подкопы под нас… только бы им оттереть нас, чтобы самим в руки забрать и ее, и вас всех. А вы, глупенькие, и в толк взять не хотите, что сегодня нас ототрут, завтра – вас! А послезавтра своих наставят и начнут творить все, что им угодно. А вы уши развесили, что это Иродово племя, шут непутный, на меня вам с умыслом околесицу несет. Что ему стоит из своей чертовой головищи выбрать что ни есть попричиннее клевету? Не в том сила, чтобы ее доказать, а чтобы сомнение навести да грязью своей замарать. А сам он предатель ведомый. Монса предал, Балакирева предал. Матушку продал… Светлейшего продал. Везде, пролаз, путь нашел! Нет уж, не хочу ничего больше ждать. Сама пойду к Андрею Ивановичу и слезно буду молить, чтоб шуту проклятому язычишко поганый повытянул да поукоротил, чтобы он…
– О чем вы кричите так, паскудные бабы? Я только задремала… так нет чтобы дать мне покой – принялись орать. Я вас ужо! – раздался гневный окрик государыни.
– Ваше величество, не осмелилась бы я возвысить голоса, коли бы дело шло про мои делишки, а то – отпусти, государыня матушка, вину мою невольную – по горячности, что не выдержала, высказала Анисье Кирилловне правду-матку насчет дела вашего береженья… Тут паскудный Лакоста, предатель, взводит на ваших верных слуг заведомые лжи, с тем чтобы прикрывать свое воровство. Попался он мне не пять, не десять раз, в подслушиванье того, что говорите у себя… Выслушивает это все и передает, мерзавец, Чернышихе, что под тебя, государыня, сами вы известны, как в недавнее время, при покойнике, подрывалась и клеветы возносила. И направила она, пакостница, с Ягужинским Павлушкой донос на Монса несчастного… А вы, государыня, досель эту пакость терпите и жалуете и извести не повелите такую гадину, как шут, например… А Анисья Кирилловна его словам веру дает и мне выговаривает, зачем, дескать, неладно молвила. Коли я, государыня, не токмо ничего не молвила, а просто сказать, вот те Христос, и во сне не грезила, что он лгун, на меня взводит. А причина известная: надо ему что ни на есть измыслить, из боязни, что я терпеть не буду, а выскажу, как ловлю его на шпионстве. Притаится, гадина, в темном углу, за дверью; и не видно его, а он целые часы простоять может и все выслушивает, что ваше величество, у себя…
– Замолчи… довольно! Анисья Кирилловна, не мешайся не в свое дело. А с Лакостой я велю расправиться Ушакову, пусть допытается, для кого он за нами шпионит. Тут кроются скверности! И если обнаружатся какие-нибудь из твоих свойственников, Анисья Кирилловна, я подумаю, что и ты с ними заодно, коли заступаешься за шпиона.
Гнев государыни проявился теперь в такой силе, что Анисья Кирилловна хотела уйти, давая державному гневу уходиться. Вышло противное: гнев Екатерины I получил новую пищу, переменив направление. В уме государыни возникло мгновенное подозрение, что девица Толстая, преданность которой ей была уже давно вполне известна, уходит, чтобы предупредить сторонников о предстоящем допросе Лакосты. Государыня сильным движением руки остановила свою любимую спутницу в разъездах и постоянного секретаря, едва произнеся в ярости:
– Куда? Шашни, видно, раскрываются? Так надо дать знать, что я велю за шута приняться!
Анисья Кирилловна опустилась на колени и зарыдала от обиды. Горе в эту минуту заставило девицу Толстую все забыть, предавшись неудержимой скорби. Слезы на Екатерину Алексеевну всегда производили сильное действие, и этот поток слез с громким всхлипываньем скорее, чем можно было ожидать по силе гнева, переменил его на милость и даже – чуть не на нежность к старому другу. Государыня положила обе руки свои на плечи Анисьи Кирилловны и сама склонила голову к плечу ее, успокаивая ее.