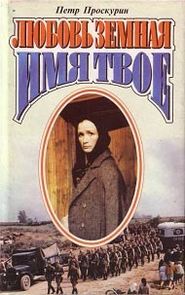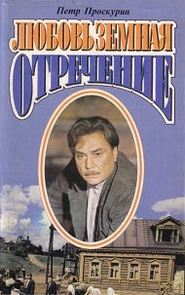По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Исход
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А я и не держу, – с усилием сказал Владимир, снова поднялось данное мужское на нее зло, когда ему так грубо предпочли другого, да и не одного. Павла словно смеялась над собой и над всей деревней. А ведь и учиться он тогда уехал больше от этого и уже потом, успокоившись, усмехался.
Павла молча следила за ним, беспокойно перебирая ворот мягкой ситцевой блузки. Владимир подошел к спящему ребенку, Павла еще привернула огонь и тоже стала рядом.
– Хороший мальчонка, на тебя похож. – Владимир рассматривал лицо спящего мальчика.
– Я и не скрывала, мой он, Володенька.
– Все шутишь?
Павла тесно прижалась к нему.
– Останься, Володенька, голубок. – Ее пальцы жарко сплелись у него на шее, он поймал их, сжал и отвел с силой. «А почему мне не остаться? – подумал он вдруг лихорадочно. – Почему не остаться, если это, может, последний вечер, час, минута? Может, мы последний раз видимся? И потом, почему я словно оправдываюсь? Перед кем нужно оправдываться? Ведь сейчас больше ничего нет и никого нет. А есть только это, только это… и свое нежелание оторваться».
…Все еще вздрагивало, не могло успокоиться ее упругое длинное тело, и Владимир, ошеломленный, обессиленный, лежал без мысли, без движения.
– Хорошо, хорошо-то как, господи. Родненький, родненький… Вот бы сейчас бомба сверху упала, и чтобы сразу на тот свет, – с силой сказала Павла, все еще не отпуская его и не открывая глаз, и вдруг, сжав до боли крепко его плечи, зашептала: – Володенька, я правду говорю. Останься, к черту их всех, а ты останься. По одному теперь страшно, поди.
– Что ты говоришь, Павла, брось.
– Ну чего ты рвешься, Володенька, вон вчера за селом шел один, не успел оглянуться, как надвое и перерубило.
– Нельзя, сама знаешь.
Он думал, что пора уходить, и оттягивал каждую минуту. Он чувствовал своим телом ее руки, плечи, губы, грудь и не мог уйти. Давно уже пора было идти, но он не мог открыть глаз, все плыло и покачивалось. Возможно, он уснул на несколько минут, и Павла в темноте склонилась над ним.
– Мне пора, – сказал он, все так же не открывая глаз, и Павла, упав ему на плечо лицом, стала целовать его грудь, руки. Волосы ее рассыпались. – Мне пора, – повторил он, по-прежнему не в силах открыть глаза и пошевелиться.
Павла затихла, всхлипнула.
– Не плачь, ничего не сделаешь.
– Я не потому, Володенька, не думай. Я по своей доле несчастной плачу.
Она всхлипнула сильнее, обхватила его голову и, жарко целуя в губы, сказала:
– Спасибо, Володенька, спасибо, родненький, век тебя не забуду… Спасибо.
Она целовала и шептала, прижимаясь к нему теснее и теснее, и он, опять весь задохнувшись, не мог уйти и только вытолкнул сквозь стиснутые зубы:
– Ведьма ты, ведьма… Ведьма.
– Пусть, Володенька… пусть не было бы тебе худо, а мне…
Ушел он от нее перед самым рассветом. Не стал никого будить, прошел во двор к Егору Ивановичу, положил чемодан в подготовленную, смазанную, набитую сеном телегу, лег ничком и сразу уснул. Ему снился лес в бурю, все гремело и вздрагивало, он жался куда-то под ствол старого дуба, и жесткая, с трещинами в ладонь кора мешала ему устроиться как следует. Что-то давило ему на затылок. Он наконец открыл глаза, и руки его сразу схватились за леску телеги: над деревней стоял ровный и сильный гул, порой ясно доносилась чужая речь, уже начало рассветать.
Владимир выпрыгнул из телеги и заметил в полумраке на колоде для рубки дров фигуру Егора Ивановича. Старик курил. Владимир подошел и сел рядом.
– Не стал тебя будить, – сказал Егор Иванович. – Видишь, незачем. А ты сам подхватился.
– Да, слышу сквозь сон – ревет, вроде гроза собирается, а я в лесу почему-то. Один. И лежу я на самой земле, глаза у земли, и прямо перед ними, под листом папоротника, пичужка в гнезде. Яйца греет. Серьезно на меня глазом поблескивает.
– Ну, ну…
– Ничего, проснулся вот…
– Слышишь, и на ночь неостанавливаются, прямо вперед дуют…
– Развиднеет – пожалуют.
4
Пять ночей и дней в Филипповке было тихо, если не считать, что немецкие интенданты, заглядывая в деревню, увозили отчаянно визжавших свиней, гогочущих гусаков; в случае если слишком возбужденная шумом собака увязывалась с заливистым лаем вслед за автомашиной, следовала автоматная очередь, и собака, изумленно подпрыгнув, успевала грызануть раз-другой пыльную дорогу, и вытягивалась, стекленея глазами, и уже больше не шевелилась. Людей не трогали, и бабы разглядывали немцев из-за плетней, ребятишек на улицу со дворов не выпускали. Фронт погромыхивал все дальше, и мимо деревни часто прогоняли колонны пленных. Преодолевая боязнь, бабы выносили к дороге хлеб и сало и, кланяясь конвоирам, бросали куски хлеба, завернув их в тряпицу, пленным. Молодые, уставшие конвоиры, с засученными до локтей рукавами, с удовольствием хлопали баб по спине и, смотря по настроению, или разрешали передать пленным хлеб, или пугали короткой автоматной очередью, и тогда, теряя узелки с хлебом, все бросались врассыпную, напоминая стадо испуганных гусынь.
Девки прятались, ходили в низко повязанных на лоб платках. Шел слух, что тех пленных, у которых объявятся родные, немцы отпускают в свои деревни, так уж вроде где-то было, и бабы бегали на дорогу еще и по этой причине, у всех были на войне мужья, братья или отцы. Но во всей Филипповке никто не встретил своего за эти пять дней. Бабы заходили к Егору Ивановичу, больше в сумерки, садились, складывая руки на колени, и вздыхали. Как-то он не выдержал и, подвинувшись вплотную (на этот раз к нему забежала соседка, Павла), укоризненно спросил:
– Ну, чего, чего сопишь? Что я могу знать? Ничего не знаю. Понятно тебе? Не знаю ничего.
– А я тебя и не спрашиваю, Иванович.
– Не спрашиваешь? А зачем пришла?
– Пришла от тоски. Так.
– Так… За так и чиряк не вскочит.
– Уйти тебе надо, Иванович. И Владимиру Степановичу тоже. – Павла, опустив голову, смотрела на носок своей брезентовой туфли. Дышал Егор Иванович особенно тяжело, последние дни много курил.
– Ты что слыхала, Павла?
– Не слыхала, так, думаю, лучше будет. От греха подальше. Знаешь, Филипюк объявился, говорит, через день какие-то команды германские будут идти, чистить, говорит, будут коммунистов да всех советских начальников…
– Как чистить?
Павла помолчала, ниже надвинула серенький платочек.
– Воздух, мол, чистить, а их – в яму, земля гниль, мол, любит, наружу не выпускает.
Егор Иванович молчал: он уже знал, что Филипюк вернулся и объявил себя старостой. Филипюка судили в тридцать втором – свел у соседки корову и вообще – беспутный мужик, сам черт таких не берет.
– Ладно, Павла, иди. Где у тебя Васятка-то?
– Умаялся, немцев все разглядывал. Мальчонка, а чутье есть, палец в рот сунул, к плетню жмется. Я к тебе на минутку, бегу.
– Иди, иди, парня одного оставлять не след.
Павла ушла не прощаясь, и Родин еще сидел, все так же уперев руки в высокие худые колени. Пришел Владимир, за ним в сенях закашлял кто-то еще и, вваливаясь в избу, сказал:
– Здоровы были.
Павла молча следила за ним, беспокойно перебирая ворот мягкой ситцевой блузки. Владимир подошел к спящему ребенку, Павла еще привернула огонь и тоже стала рядом.
– Хороший мальчонка, на тебя похож. – Владимир рассматривал лицо спящего мальчика.
– Я и не скрывала, мой он, Володенька.
– Все шутишь?
Павла тесно прижалась к нему.
– Останься, Володенька, голубок. – Ее пальцы жарко сплелись у него на шее, он поймал их, сжал и отвел с силой. «А почему мне не остаться? – подумал он вдруг лихорадочно. – Почему не остаться, если это, может, последний вечер, час, минута? Может, мы последний раз видимся? И потом, почему я словно оправдываюсь? Перед кем нужно оправдываться? Ведь сейчас больше ничего нет и никого нет. А есть только это, только это… и свое нежелание оторваться».
…Все еще вздрагивало, не могло успокоиться ее упругое длинное тело, и Владимир, ошеломленный, обессиленный, лежал без мысли, без движения.
– Хорошо, хорошо-то как, господи. Родненький, родненький… Вот бы сейчас бомба сверху упала, и чтобы сразу на тот свет, – с силой сказала Павла, все еще не отпуская его и не открывая глаз, и вдруг, сжав до боли крепко его плечи, зашептала: – Володенька, я правду говорю. Останься, к черту их всех, а ты останься. По одному теперь страшно, поди.
– Что ты говоришь, Павла, брось.
– Ну чего ты рвешься, Володенька, вон вчера за селом шел один, не успел оглянуться, как надвое и перерубило.
– Нельзя, сама знаешь.
Он думал, что пора уходить, и оттягивал каждую минуту. Он чувствовал своим телом ее руки, плечи, губы, грудь и не мог уйти. Давно уже пора было идти, но он не мог открыть глаз, все плыло и покачивалось. Возможно, он уснул на несколько минут, и Павла в темноте склонилась над ним.
– Мне пора, – сказал он, все так же не открывая глаз, и Павла, упав ему на плечо лицом, стала целовать его грудь, руки. Волосы ее рассыпались. – Мне пора, – повторил он, по-прежнему не в силах открыть глаза и пошевелиться.
Павла затихла, всхлипнула.
– Не плачь, ничего не сделаешь.
– Я не потому, Володенька, не думай. Я по своей доле несчастной плачу.
Она всхлипнула сильнее, обхватила его голову и, жарко целуя в губы, сказала:
– Спасибо, Володенька, спасибо, родненький, век тебя не забуду… Спасибо.
Она целовала и шептала, прижимаясь к нему теснее и теснее, и он, опять весь задохнувшись, не мог уйти и только вытолкнул сквозь стиснутые зубы:
– Ведьма ты, ведьма… Ведьма.
– Пусть, Володенька… пусть не было бы тебе худо, а мне…
Ушел он от нее перед самым рассветом. Не стал никого будить, прошел во двор к Егору Ивановичу, положил чемодан в подготовленную, смазанную, набитую сеном телегу, лег ничком и сразу уснул. Ему снился лес в бурю, все гремело и вздрагивало, он жался куда-то под ствол старого дуба, и жесткая, с трещинами в ладонь кора мешала ему устроиться как следует. Что-то давило ему на затылок. Он наконец открыл глаза, и руки его сразу схватились за леску телеги: над деревней стоял ровный и сильный гул, порой ясно доносилась чужая речь, уже начало рассветать.
Владимир выпрыгнул из телеги и заметил в полумраке на колоде для рубки дров фигуру Егора Ивановича. Старик курил. Владимир подошел и сел рядом.
– Не стал тебя будить, – сказал Егор Иванович. – Видишь, незачем. А ты сам подхватился.
– Да, слышу сквозь сон – ревет, вроде гроза собирается, а я в лесу почему-то. Один. И лежу я на самой земле, глаза у земли, и прямо перед ними, под листом папоротника, пичужка в гнезде. Яйца греет. Серьезно на меня глазом поблескивает.
– Ну, ну…
– Ничего, проснулся вот…
– Слышишь, и на ночь неостанавливаются, прямо вперед дуют…
– Развиднеет – пожалуют.
4
Пять ночей и дней в Филипповке было тихо, если не считать, что немецкие интенданты, заглядывая в деревню, увозили отчаянно визжавших свиней, гогочущих гусаков; в случае если слишком возбужденная шумом собака увязывалась с заливистым лаем вслед за автомашиной, следовала автоматная очередь, и собака, изумленно подпрыгнув, успевала грызануть раз-другой пыльную дорогу, и вытягивалась, стекленея глазами, и уже больше не шевелилась. Людей не трогали, и бабы разглядывали немцев из-за плетней, ребятишек на улицу со дворов не выпускали. Фронт погромыхивал все дальше, и мимо деревни часто прогоняли колонны пленных. Преодолевая боязнь, бабы выносили к дороге хлеб и сало и, кланяясь конвоирам, бросали куски хлеба, завернув их в тряпицу, пленным. Молодые, уставшие конвоиры, с засученными до локтей рукавами, с удовольствием хлопали баб по спине и, смотря по настроению, или разрешали передать пленным хлеб, или пугали короткой автоматной очередью, и тогда, теряя узелки с хлебом, все бросались врассыпную, напоминая стадо испуганных гусынь.
Девки прятались, ходили в низко повязанных на лоб платках. Шел слух, что тех пленных, у которых объявятся родные, немцы отпускают в свои деревни, так уж вроде где-то было, и бабы бегали на дорогу еще и по этой причине, у всех были на войне мужья, братья или отцы. Но во всей Филипповке никто не встретил своего за эти пять дней. Бабы заходили к Егору Ивановичу, больше в сумерки, садились, складывая руки на колени, и вздыхали. Как-то он не выдержал и, подвинувшись вплотную (на этот раз к нему забежала соседка, Павла), укоризненно спросил:
– Ну, чего, чего сопишь? Что я могу знать? Ничего не знаю. Понятно тебе? Не знаю ничего.
– А я тебя и не спрашиваю, Иванович.
– Не спрашиваешь? А зачем пришла?
– Пришла от тоски. Так.
– Так… За так и чиряк не вскочит.
– Уйти тебе надо, Иванович. И Владимиру Степановичу тоже. – Павла, опустив голову, смотрела на носок своей брезентовой туфли. Дышал Егор Иванович особенно тяжело, последние дни много курил.
– Ты что слыхала, Павла?
– Не слыхала, так, думаю, лучше будет. От греха подальше. Знаешь, Филипюк объявился, говорит, через день какие-то команды германские будут идти, чистить, говорит, будут коммунистов да всех советских начальников…
– Как чистить?
Павла помолчала, ниже надвинула серенький платочек.
– Воздух, мол, чистить, а их – в яму, земля гниль, мол, любит, наружу не выпускает.
Егор Иванович молчал: он уже знал, что Филипюк вернулся и объявил себя старостой. Филипюка судили в тридцать втором – свел у соседки корову и вообще – беспутный мужик, сам черт таких не берет.
– Ладно, Павла, иди. Где у тебя Васятка-то?
– Умаялся, немцев все разглядывал. Мальчонка, а чутье есть, палец в рот сунул, к плетню жмется. Я к тебе на минутку, бегу.
– Иди, иди, парня одного оставлять не след.
Павла ушла не прощаясь, и Родин еще сидел, все так же уперев руки в высокие худые колени. Пришел Владимир, за ним в сенях закашлял кто-то еще и, вваливаясь в избу, сказал:
– Здоровы были.