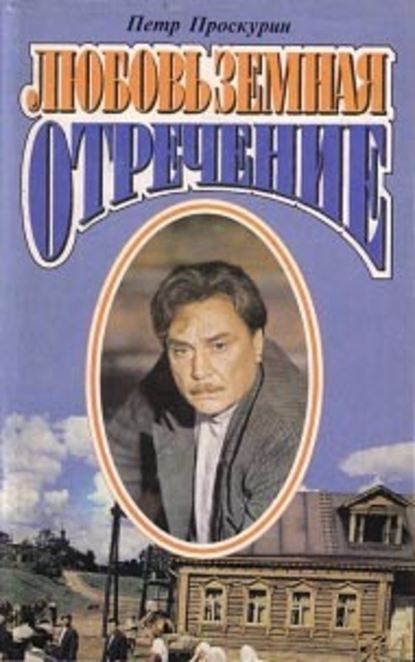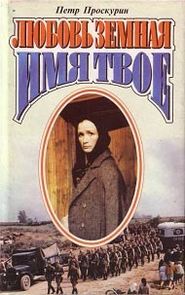По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Отречение
Автор
Серия
Год написания книги
2007
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
2
Лес расступился неожиданно; одолев глухой дубовый кустарник, росший в этом месте сплошной стеной, Петя невольно остановился, заморгал. Тяжелая лесная сырость и духота кончились, потянуло сухим ветерком. Он резко прыгнул через толстую, поросшую густым мхом валежину, подвернул ногу, присел и, зверски оскалившись, выругался. Что-то заставило его поднять голову; в глазах у него мелькнуло недоверие. «Ну и ну», – тихо сказал он, поднялся и, прихрамывая, сделал несколько неверных шагов.
Каменные руки, вырвавшиеся, казалось, в безотчетном порыве из самой земли к высокому сквозящему небу над мелколесьем, озадачивали, и Петя, расстегнув ворот рубашки, не замечая липнувших к потному телу комаров, долго, пока не закружилась голова, смотрел на молящие кого-то о милосердии плоские, грубо вырубленные ладони, рождающие ощущение неуверенности, и скоро во всем небе остались только они одни. Солнце низилось, ладони окаймляло холодное летучее пламя; у Пети вдруг оборвалось сердце, каменные ладони качнулись, надломились, тяжко обхватили его и взметнули к небу. Длилось это какое-то мгновение, затем осталась лишь темная уходящая боль, едва не остановившая сердце. Со всех сторон его по-прежнему окружали глубокое, бархатно-синее, быстро угасающее небо и застывший в мертвом молчании лес; зажмурившись, он рванулся назад к земле и, вцепившись в нее, долго не мог заставить себя открыть глаза. «Вот чепуха! – возмутился он. – Не хватало мне еще этой лесной чертовщины… Откуда?» Внутренний голос приказал ему успокоиться; ничего особенною не произошло, просто аукнулась давно отлютовавшая, по словам деда Захара, в этих лесах война. Так тоже бывает, сам он здесь ни при чем, сам он здесь нечто случайное, ненужное…
Каменные руки одиноко и отстраненно вздымались в синее, еще больше отодвинувшееся, глубокое небо, но Петя по-прежнему, не решаясь оторваться от земли, лежал на спине, жуя какой-то горчивший стебелек; жизнь все-таки малопредсказуема, он уже в этом убедился. Вот и после гибели отца в авиационной катастрофе он так и не смог полностью прийти в себя; просыпаясь глухими ночами от ощущения присутствия рядом именно его, отца, начинал, как вот сейчас, перебирать всю свою прежнюю жизнь, судить себя, хотя и перебирать особенно было нечего и судить не за что. Случившееся же с ним сейчас среди глухих зежских лесов тоже, вероятно, выходило за рамки объяснимого и даже разумного: его непреодолимо тянула, словно бы вбирала в себя разверзшаяся мучительная даль, и он приказал себе больше не смотреть на вздымающиеся ладони в вечернем, быстроопадавшем небе над лесом; его плотно окружал щебет птиц, и шелест листвы, и стрекот кузнечиков, и какие-то другие, ухающие, приглушенные, словно разлитые в самой земле звуки, живущие только в низких болотистых местах – и то в предвестии солнечной ровной погоды. Пахло грибной сыростью и почему-то дымом; пожалуй, он забрел слишком далеко от дедовского кордона в незнакомую, самую глухую часть зежских лесов; пора возвращаться.
Он встал, раздвигая заросли мелкого дубняка, начинавшего забивать весь остальной подрост, пробрался к самому мемориалу. Каменные ладони вздымались вверх из основания, скрытого в земле; Петя теперь близко увидел бетонный язык пламени, с трудом пробивавшийся из буйной летней зелени и тем самым как бы усиливавший ощущение трагичности жизни, обреченности человеческой тщеты: «Мы тоже жили, – словно бы прозвучал из самого камня чей-то задушевный стон. – Мы жили, а теперь стали травою и лесом. Родимые! Вы слышите нас? Нас сожгли всех вместе – детей, женщин, стариков – в пору золотых листьев, в сорок втором, в конце сентября, но мы были! Были! Вы прислушайтесь, и вы нас услышите…» Петя замер и даже затаил дыхание; крик действительно жил в самом камне, давным-давно умершие, умолкшие голоса сочились, текли из камня глухим шелестом. Мертвая деревня, уничтоженная немцами в последнюю войну вместе с жителями, деревня-призрак, робко проступала из буйного разлива летней зелени; обозначая бывшую улицу, тянулась цепочка бетонных кубов – одинаковых, серых, наполовину скрытых свежей, изумрудной травой.
Петя нерешительно ступил на нехоженую, густо заросшую улицу и почти сразу же вновь остановился. Мертвая лесная деревня называлась когда-то Русеевкой, о чем он тоже узнал из надписи на памятной плите, языком огня пробивавшейся из земли; он поймал себя на том, что все время на разные лады повторяет про себя это тихое, успокаивающее слово: «Русеевка, Русеевка… Русеевка». Медленно, стараясь, ничего не упустить, он заставил себя двинуться дальше; ему еще никогда не было так неловко, стыдно перед жизнью за свою ненужность, бесполезность; почему-то по-прежнему не шел из головы отец, казалось до самой последней минуты все время что-то упорно, непрерывно отыскивающий и обжигающийся (даже ожоги жизни были для него смыслом движения) и в один момент своей бессмысленной и нелепой гибелью опровергший и себя, и все свое прошлое. Всегда неспокойная стихия утихла, слилась в один серый цвет, в одну ровную, едва дышащую поверхность, от горизонта до горизонта одинаковую и безжизненную; и Петя не мог этого понять, не мог с этим примириться, и попытки со стороны родных и близких растормошить его не помогали. Он даже себе не мог признаться в главном, все его существо перевернула одна-единственная, внезапно открывшаяся истина: слова отца, не раз говорившего ему о необходимости спешить, не терять в жизни напрасно ни одного часа, ни одной минуты, казавшиеся в свое время всего лишь раздраженным ворчанием уставшего, замученного вечной спешкой и необходимостью долга человека, обернулись теперь знобящим смыслом неминуемости и собственного своего ухода.
Шагая по безлюдной, умершей много лет назад улице, подумав именно об этом, Петя поежился от предвечерней свежести и решил пройти улицу, означенную бетонными, побелевшими от солнца глыбами из конца в конец; тишина и безлюдье засасывали его…
На упорный, неотступный взгляд он наткнулся внезапно и, повернув голову, увидел у одного из бетонных кубов что-то вроде навеса из кольев, ветвей и сухой травы, а возле него старуху, сидевшую на земле, привалившись спиной к бетонной глыбе, с которой она как бы срослась, и если бы не ее упорный взгляд, Петя прошел бы мимо, не заметив се. Старуха, не мигая, смотрела на него; Петя подошел вплотную, поздоровался вполголоса. Старуха по-прежнему молчала; она была в низко повязанном темном платочке, в широкой, застиранной кофте, с жилистыми, в сильно проступавших венах руками, сцепленными под грудью; на ногах у старухи красовались матерчатые легкие туфли, похожие скорее на тапочки. Петя присел рядом.
– Кто вы, бабушка? – спросил он тихо. – Вам, вероятно, нужна помощь? Что вы здесь делаете?
Старуха слегка приподняла морщинистое лицо, ее узловатые пальцы что-то мелко перебирали.
– Жду, милый, жду, – сказала она спокойным, приятым голосом, и хотя по выражению ее лица, уже совершенно отрешенному, свойственному человеку, приготовившемуся к последнему покою, Петя понял значение ее слов, он не удержался от дальнейших расспросов.
– Вы здесь одна, бабушка? А если что случится?
– Она сюда умирать явилась, – услышал Петя надтреснутый голос и теперь не удивился появлению невысокого, тоже старого уже человека, в подпоясанной веревочкой длинной рубахе, босого, только что вышагнувшего из густой зелени и еще придерживающего ветку орешника; на лице у него подрагивала легкая снисходительная усмешка, и даже не усмешка, а усмешечка над слабостью хорошо знакомого, надоевшего и в то же время необходимого, близкого человека. И тут Петя остро прищурился, потер виски ладонью; несильный ветерок тронул кусты, и они зашевелились: безлюдная, пустая улица, обрамленная тяжелыми бетонными глыбами, словно ожила и стала заполняться смутными тенями людей.
– Зачем же именно здесь умирать? Здесь и похоронить некому.
– Тут всего много, – не согласился старик. – Птички, мышки, всякие паучки… муравьишки… и покрупнее водится… Земля без живности не земля… В войну сколько вот народу перебито, и следа не осталось… ни маковой росинки… Утром водицы хотел испить, вон ее образить, приуготовить… Пошел к родничку под камнем… во-он, тут недалеко, – указывая, старик дернул сухой головкой в нужную сторону, – а водицы и нету, пропал родничок, как и не было его… и песочек просох в ямке… Еще деды наши пили из него, а тут – пропал… ушел в землицу-то.
– Пропал? – почему-то сильно озадачился сообщением старика Петя.
– Сгинул, вроде живая душа, в одночасье… Отстрадала свое, отмучилась – и все тебе, один чистый песочек… Промытый, беленький песочек… божеский…
По лицу старика потекла неуверенная и пугливая усмешка; старуха же, словно пробудившись, повела белесыми глазами, с затеплившимися в них тусклыми огоньками.
– Не жди, Никишка, не жди, найдется добрый человек, присыпет землицей, – сказала она, обращаясь к старику, и Петя по ее тону тотчас понял, что подобный разговор между ними ведется не первый раз.
– Ничего не пойму, – признался Петя, выждав. – А где же ваш дом, близкие?
– Нету у нее никаких родных, и дома нет, – сообщил старик Никишка. – Из дома призрения утекла… из стариковского приюта, значится… она еще от войны потусветочной огневицей прозывается…
– Странно все это звучит, – задумчиво сказал Петя. – Потусветочная огневица… что это такое?
– Она из полымя выскочила, как немцы их в колхозном складе запалили… С дочкой на руках и выскочила… Дочка мертвенькая, задохлась от дыма, много ли дитенку малому надо… она прижимает к себе, мертвенькую-то, не вырвать, ножонки-то у нее обгорели, черные, растрескались… У нее душа подпаленная, так и не отошла… Третье лето умирать сюда утекает… Огонь ее отсель не отпускает, держит…
– Нынче уж помру, – уронила старуха с какой-то просветленной уверенностью. – Нельзя мне дальше… А ты уходи, уходи, убивец, как тебя земля-то еще носит, не просела под тобой? Вот тебя – огнем бы, огнем…
– Ты, Фетинья, не кори, не кори! – внезапно визгливо огрызнулся старик. – Я свои прегрешения десять раз отслужил! Теперь с меня снято и печатью заверено! Чего придумала! Тут и моя земля, – повел старик рукою окрест, – во-на сколько всего, что огнем-то меня палить? Меня на этой земле и без того полымем насквозь прохватило… Кто тебя похоронит тут, Фетинья, коль прогонишь? – внезапно старик понизил голос чуть ли не до вкрадчивого шепота, посмотрел с хитринкой; говоря, он то и дело оборачивался к Пете, мигая своими маленькими глазками, приглашая его в свидетели, в союзники, и Пете, хотя он пока ничего не понимал, стало неприятно.
– Запел, запел, оборотень окаянный, – пробормотала старуха. – Пошел глаза застить… Передо мной-то не егози, у таких-то своей земли не бывает… она их не сдюживает, таких-то…
– Крест, крест на себя положи, Фетинья! Какой ж это я такой особенный? – опять тоненько закричал старик, от возбуждения заливаясь старческим бледным румянцем и подходя шага на два ближе. – Крест положи! Я из какой земли вышел, из германской, а? Ты, Фетинья, озверела, давно ли по-другому говорила? И язык у тебя не отсохнет под самый корешок, мы ж с тобой сколько прожили… Я тебя тут какой день кормлю, пою… с тобой мучаюсь… а ты?
Впервые шевельнувшись всем телом, расцепив руки и упершись ими в землю, старуха помогла себе пододвинуться ближе к стене, с усилием подтянула к себе ноги, и на ее посуровевшее лицо наползла тень; прикрыв глаза высохшими, почти без ресниц веками, она опять окаменела, обозначилась резче, и в какое-то мгновение в лице ее словно проступил прежний далекий облик; поджались, построжали безвольные губы, прояснились глаза, и Петя увидел, что эта старуха Фетинья, несомненно, была когда то красавицей. Он услышал тихий, непрерывный, отдающийся во всем его существе мотив, успокаивающий и смывающий с души все ненужное, мешающее, и понял, что наконец-то и его коснулся, по словам деда Захара, голос и дух леса, и что именно здесь, в молчаливых корнях, и пышных вершинах, в земле и в небе – повсюду рассеян прах его предков…
– Ты, Никишка, меня перед кончиной не срами, – громко и ясно сказала старуха, продолжая свой спор. – За свои прегрешения сама отвечу…
– А-а, прегрешения! – обрадованно подхватил старик, словно получив подтверждение каким-то своим зыбким и неясным мыслям.
– Были, были, – сказала старуха в том же состоянии просветления и решимости. – Жила с тобой, убивцем, одолел ты меня, бабья моя порода пошатнулась, а ты и раскрылестился, налетел… Господи, прости, и грехи-то бабьи, пустяшные, что за грехи такие?
– Вот-вот… Ты на одного на меня не вали… Ты меня судить не можешь, Фетинья, – быстро возразил старик Никишка. – Ну, а коли я тебя и обидел чем, ты по-христьянски-то, по-христьянски – прости… И я тебя прощу…
По-прежнему помогая себе руками, охая и бормоча что-то, Фетинья тяжело взгромоздилась на больные, опухшие ноги и теперь стояла, опираясь на шероховатый бетон. От усилий платок сдвинулся у нее на плечи, и седые, совершенно белые, бесцветные, редкие волосы рассыпались, невесомо заструились под жарким легким ветерком.
– Грешница я, Никишка, великая грешница, – тяжело вздохнула она, – ты правду сказал, Никишка… Только ты меня с собой не равняй, ко мне сейчас он приходил, слышишь, сам приходил проститься, – понизила она голос, и лицо ее еще утончилось. – Он мне простил, он мне знак такой сделал…
– Кто? – не сразу хрипло спросил старик.
– Игнат приходил, муж мой покойный…
– Тю-ю, сдурела, старая, – даже попятился Никишка, зверовато оглядываясь по сторонам. – Игнат сгнил давно, костей за полвека, поди, не осталось…
– Приходил, – упрямо повторила старуха. – Вот здесь стоял, – добавила она, сосредоточенно указывая перед собой и в подтверждение даже слегка притопывая. – Вот такой же молодой да ладный приходил… стоит, глаза звездочками, прямо глядеть в них страх божий… Тина, говорит шепотом, Тина, пришел я… Долго ты дожидалась, я и пришел… Вот как его видела, – кивнула она на Петю. – Грех мой тяжкий он отпустил… он знак мне сделал особый…
– Не мели своим бабьим языком! Сдуру у тебя все, сдуру! – махнул рукой Никишка. – Приходил, отпустил… много ты знаешь, отпустил, привязал… Ты его вот и видела, – с нескрываемой злобой мотнул он кудлатой головой на Петю. – Кто окромя мог тебе приблазниться?
– Я Игната видела, мужика своего, совсем молоденького… веселого видела, – упрямо стояла на своем Фетинья и, неожиданно отделившись от бетона, шагнула к Пете, и тот не успел отступить; цепко ухватив за плечо, старуха потянула его к себе и совсем близко, в упор стала разглядывать лицо. Упрашивая ее не пугать хорошего человека, Никишка тоже заволновался и даже сделал попытку втиснуться между Петей и старухой, разъединить их.
– Какой же это Игнат, – выдохнула Фетинья наконец, – от Игната зеленым полынцем несло, а тут другой, нет, не нашенский, чей-то; ты, Никишка, всегда бестолковый был, никакого от тебя проку. Какой это Игнат? Городской чей-то, у него-то и дух другой, не-ет, не наш, – протянула она. – Ты бы мне селедочки принес, а? – совсем другим, земным, обыденным голосом попросила она Петю. – Как хочется-то селедочки, хоть бы хвостик во рту повозить.
И тотчас настроение у нее вновь переменилось, и она, взяв его за руку, повела, а за ними, озабоченно что-то бурча себе под нос, заторопился и старик Никишка; догнав их и поравнявшись с Петей, приноравливаясь к его шагу, сбоку и снизу вверх заглядывая ему в глаза, сказал:
– Слышь, парень, ты ей не верь, она всякого намелет, лишку зажилась на свете, блазнится ей, все блазнится… Вишь, Игнат к ней приходил, вон чего ей приблазнилось! Как же, жди, придет! Не верь… не верь… слышь, парень… не верь… Ничего ей не верь, жила долго, свое понятие отжила…
Не отпуская Петю, Фетинья шла одним ей ведомым путем, ни разу не остановившись; миновали улицу из бетонных глыб, и лишь каменные руки, сколько Петя ни оглядывался, по-прежнему тянулись во все больше густевшую и темневшую синеву неба. У старухи словно прибавилось сил, движения ее обрели уверенность, лицо разгорелось, глаза прояснились, и лишь дышала она хрипло, с надсадой, и по лицу пошел крупный пот. Еще издали Петя увидел наполовину разрушившийся и все равно поражающий толщиной ствол старого дуба; сучья с одной стороны у него, захваченные каким-то недугом, обескорились, побелели, иструхли и бессильно обвисли, на земле валялись полусгнившие их остатки; другая же половина дерева еще густо зеленела. Петя пригляделся: метрах в четырех от земли дуб разделялся на два ствола, и вот один из них, обращенный к югу, умер, второй же, северный, не тронутый порчей, бугрился сильной корой, и раскидистая его крона шумела высоко в небе.
Фетинья остановилась у дуба и некоторое время осматривалась; Петя молча ждал рядом, с какой-то новой заинтересованностью отмечая любую подробность вокруг.
– Я вот здесь с дитем на руках бежала, а Никишка, убивец, за дубом стоял. Он в полицаях служил, а здесь в оцеплении стоял, как немцы людей жгли в складе-то. Вот я на него и набежала, – значительно сказала Фетинья, обращаясь к Пете, и по ее глазам, в упор устремленным на него и ничего не видящим, Петя понял, что она действительно принимает его за кого-то другого; Петя коротко и неловко взглянул на старика, уставшего от непривычно быстрой ходьбы и часто дышавшего открытым беззубым ртом; его обтянутые сероватой кожей ключицы высоко поднимались и опадали; он порывался что-то сказать, не мог, задыхался и со злостью смахивал пот с лица сильно заношенным рукавом рубашки.
– Ты слышишь, слышишь? – неожиданно горячо и хрипло зашептала старуха, вновь хватая Петю за плечо, и в ее глазах плеснулся темный ужас; Петя постарался высвободиться из ее рук и не мог. – Слышишь, они… они… гонятся… трещит! Трещит!
– Успокойтесь, успокойтесь, – сказал Петя, – я ничего не слышу… вам просто кажется – в лесу никого больше нет… Вот только мы трое, уверяю вас… да, да, никого нет, – повторил он, не в силах выдержать слепой, уходящий взгляд старухи, не верившей ему, вероятно вообще не слышавшей его и занятой только своим; вотчина деда Захара, зежская лесная глухомань на этот раз раскрывала перед Петей нечто совсем уж сокровенное, окончательно принимала за своего, и у него от этой неожиданной мысли проснулось и окрепло почти физическое чувство общности и сопричастности с происходящим. Он, разумеется, знал, кто такой «полицай», но до этой встречи для него это понятие было чем-то далеким, отстраненным и даже нереальным; у него уже сложилась своя теория, и он любую жестокость стремился объяснить не физической природой самого человека, а стечением обстоятельств его жизни, и вот сейчас он встал в тупик при виде этих двух немощных, умирающих стариков, совершенно случайно встретившихся ему в лесу, полных неутихающей ненависти друг к другу.
– Я Дуняшу несу, а у нее ноженьки-то головешками, она криком кричит, заходится, а этот убивец из-за дуба – шасть, и стоит с автоматом! Слышишь, слышишь? – Старуха с расширившимися, остановившимися зрачками настойчиво трясла Петино плечо. – Слышишь, кричит… кричит! А Никишка, убивец, держит! Схватил и держит!
– Брешешь, ведьма! – не выдержал старик. – Не могла она кричать, мертвую ты волокла с собой! Я тебе зарыть ее помог!
Лес расступился неожиданно; одолев глухой дубовый кустарник, росший в этом месте сплошной стеной, Петя невольно остановился, заморгал. Тяжелая лесная сырость и духота кончились, потянуло сухим ветерком. Он резко прыгнул через толстую, поросшую густым мхом валежину, подвернул ногу, присел и, зверски оскалившись, выругался. Что-то заставило его поднять голову; в глазах у него мелькнуло недоверие. «Ну и ну», – тихо сказал он, поднялся и, прихрамывая, сделал несколько неверных шагов.
Каменные руки, вырвавшиеся, казалось, в безотчетном порыве из самой земли к высокому сквозящему небу над мелколесьем, озадачивали, и Петя, расстегнув ворот рубашки, не замечая липнувших к потному телу комаров, долго, пока не закружилась голова, смотрел на молящие кого-то о милосердии плоские, грубо вырубленные ладони, рождающие ощущение неуверенности, и скоро во всем небе остались только они одни. Солнце низилось, ладони окаймляло холодное летучее пламя; у Пети вдруг оборвалось сердце, каменные ладони качнулись, надломились, тяжко обхватили его и взметнули к небу. Длилось это какое-то мгновение, затем осталась лишь темная уходящая боль, едва не остановившая сердце. Со всех сторон его по-прежнему окружали глубокое, бархатно-синее, быстро угасающее небо и застывший в мертвом молчании лес; зажмурившись, он рванулся назад к земле и, вцепившись в нее, долго не мог заставить себя открыть глаза. «Вот чепуха! – возмутился он. – Не хватало мне еще этой лесной чертовщины… Откуда?» Внутренний голос приказал ему успокоиться; ничего особенною не произошло, просто аукнулась давно отлютовавшая, по словам деда Захара, в этих лесах война. Так тоже бывает, сам он здесь ни при чем, сам он здесь нечто случайное, ненужное…
Каменные руки одиноко и отстраненно вздымались в синее, еще больше отодвинувшееся, глубокое небо, но Петя по-прежнему, не решаясь оторваться от земли, лежал на спине, жуя какой-то горчивший стебелек; жизнь все-таки малопредсказуема, он уже в этом убедился. Вот и после гибели отца в авиационной катастрофе он так и не смог полностью прийти в себя; просыпаясь глухими ночами от ощущения присутствия рядом именно его, отца, начинал, как вот сейчас, перебирать всю свою прежнюю жизнь, судить себя, хотя и перебирать особенно было нечего и судить не за что. Случившееся же с ним сейчас среди глухих зежских лесов тоже, вероятно, выходило за рамки объяснимого и даже разумного: его непреодолимо тянула, словно бы вбирала в себя разверзшаяся мучительная даль, и он приказал себе больше не смотреть на вздымающиеся ладони в вечернем, быстроопадавшем небе над лесом; его плотно окружал щебет птиц, и шелест листвы, и стрекот кузнечиков, и какие-то другие, ухающие, приглушенные, словно разлитые в самой земле звуки, живущие только в низких болотистых местах – и то в предвестии солнечной ровной погоды. Пахло грибной сыростью и почему-то дымом; пожалуй, он забрел слишком далеко от дедовского кордона в незнакомую, самую глухую часть зежских лесов; пора возвращаться.
Он встал, раздвигая заросли мелкого дубняка, начинавшего забивать весь остальной подрост, пробрался к самому мемориалу. Каменные ладони вздымались вверх из основания, скрытого в земле; Петя теперь близко увидел бетонный язык пламени, с трудом пробивавшийся из буйной летней зелени и тем самым как бы усиливавший ощущение трагичности жизни, обреченности человеческой тщеты: «Мы тоже жили, – словно бы прозвучал из самого камня чей-то задушевный стон. – Мы жили, а теперь стали травою и лесом. Родимые! Вы слышите нас? Нас сожгли всех вместе – детей, женщин, стариков – в пору золотых листьев, в сорок втором, в конце сентября, но мы были! Были! Вы прислушайтесь, и вы нас услышите…» Петя замер и даже затаил дыхание; крик действительно жил в самом камне, давным-давно умершие, умолкшие голоса сочились, текли из камня глухим шелестом. Мертвая деревня, уничтоженная немцами в последнюю войну вместе с жителями, деревня-призрак, робко проступала из буйного разлива летней зелени; обозначая бывшую улицу, тянулась цепочка бетонных кубов – одинаковых, серых, наполовину скрытых свежей, изумрудной травой.
Петя нерешительно ступил на нехоженую, густо заросшую улицу и почти сразу же вновь остановился. Мертвая лесная деревня называлась когда-то Русеевкой, о чем он тоже узнал из надписи на памятной плите, языком огня пробивавшейся из земли; он поймал себя на том, что все время на разные лады повторяет про себя это тихое, успокаивающее слово: «Русеевка, Русеевка… Русеевка». Медленно, стараясь, ничего не упустить, он заставил себя двинуться дальше; ему еще никогда не было так неловко, стыдно перед жизнью за свою ненужность, бесполезность; почему-то по-прежнему не шел из головы отец, казалось до самой последней минуты все время что-то упорно, непрерывно отыскивающий и обжигающийся (даже ожоги жизни были для него смыслом движения) и в один момент своей бессмысленной и нелепой гибелью опровергший и себя, и все свое прошлое. Всегда неспокойная стихия утихла, слилась в один серый цвет, в одну ровную, едва дышащую поверхность, от горизонта до горизонта одинаковую и безжизненную; и Петя не мог этого понять, не мог с этим примириться, и попытки со стороны родных и близких растормошить его не помогали. Он даже себе не мог признаться в главном, все его существо перевернула одна-единственная, внезапно открывшаяся истина: слова отца, не раз говорившего ему о необходимости спешить, не терять в жизни напрасно ни одного часа, ни одной минуты, казавшиеся в свое время всего лишь раздраженным ворчанием уставшего, замученного вечной спешкой и необходимостью долга человека, обернулись теперь знобящим смыслом неминуемости и собственного своего ухода.
Шагая по безлюдной, умершей много лет назад улице, подумав именно об этом, Петя поежился от предвечерней свежести и решил пройти улицу, означенную бетонными, побелевшими от солнца глыбами из конца в конец; тишина и безлюдье засасывали его…
На упорный, неотступный взгляд он наткнулся внезапно и, повернув голову, увидел у одного из бетонных кубов что-то вроде навеса из кольев, ветвей и сухой травы, а возле него старуху, сидевшую на земле, привалившись спиной к бетонной глыбе, с которой она как бы срослась, и если бы не ее упорный взгляд, Петя прошел бы мимо, не заметив се. Старуха, не мигая, смотрела на него; Петя подошел вплотную, поздоровался вполголоса. Старуха по-прежнему молчала; она была в низко повязанном темном платочке, в широкой, застиранной кофте, с жилистыми, в сильно проступавших венах руками, сцепленными под грудью; на ногах у старухи красовались матерчатые легкие туфли, похожие скорее на тапочки. Петя присел рядом.
– Кто вы, бабушка? – спросил он тихо. – Вам, вероятно, нужна помощь? Что вы здесь делаете?
Старуха слегка приподняла морщинистое лицо, ее узловатые пальцы что-то мелко перебирали.
– Жду, милый, жду, – сказала она спокойным, приятым голосом, и хотя по выражению ее лица, уже совершенно отрешенному, свойственному человеку, приготовившемуся к последнему покою, Петя понял значение ее слов, он не удержался от дальнейших расспросов.
– Вы здесь одна, бабушка? А если что случится?
– Она сюда умирать явилась, – услышал Петя надтреснутый голос и теперь не удивился появлению невысокого, тоже старого уже человека, в подпоясанной веревочкой длинной рубахе, босого, только что вышагнувшего из густой зелени и еще придерживающего ветку орешника; на лице у него подрагивала легкая снисходительная усмешка, и даже не усмешка, а усмешечка над слабостью хорошо знакомого, надоевшего и в то же время необходимого, близкого человека. И тут Петя остро прищурился, потер виски ладонью; несильный ветерок тронул кусты, и они зашевелились: безлюдная, пустая улица, обрамленная тяжелыми бетонными глыбами, словно ожила и стала заполняться смутными тенями людей.
– Зачем же именно здесь умирать? Здесь и похоронить некому.
– Тут всего много, – не согласился старик. – Птички, мышки, всякие паучки… муравьишки… и покрупнее водится… Земля без живности не земля… В войну сколько вот народу перебито, и следа не осталось… ни маковой росинки… Утром водицы хотел испить, вон ее образить, приуготовить… Пошел к родничку под камнем… во-он, тут недалеко, – указывая, старик дернул сухой головкой в нужную сторону, – а водицы и нету, пропал родничок, как и не было его… и песочек просох в ямке… Еще деды наши пили из него, а тут – пропал… ушел в землицу-то.
– Пропал? – почему-то сильно озадачился сообщением старика Петя.
– Сгинул, вроде живая душа, в одночасье… Отстрадала свое, отмучилась – и все тебе, один чистый песочек… Промытый, беленький песочек… божеский…
По лицу старика потекла неуверенная и пугливая усмешка; старуха же, словно пробудившись, повела белесыми глазами, с затеплившимися в них тусклыми огоньками.
– Не жди, Никишка, не жди, найдется добрый человек, присыпет землицей, – сказала она, обращаясь к старику, и Петя по ее тону тотчас понял, что подобный разговор между ними ведется не первый раз.
– Ничего не пойму, – признался Петя, выждав. – А где же ваш дом, близкие?
– Нету у нее никаких родных, и дома нет, – сообщил старик Никишка. – Из дома призрения утекла… из стариковского приюта, значится… она еще от войны потусветочной огневицей прозывается…
– Странно все это звучит, – задумчиво сказал Петя. – Потусветочная огневица… что это такое?
– Она из полымя выскочила, как немцы их в колхозном складе запалили… С дочкой на руках и выскочила… Дочка мертвенькая, задохлась от дыма, много ли дитенку малому надо… она прижимает к себе, мертвенькую-то, не вырвать, ножонки-то у нее обгорели, черные, растрескались… У нее душа подпаленная, так и не отошла… Третье лето умирать сюда утекает… Огонь ее отсель не отпускает, держит…
– Нынче уж помру, – уронила старуха с какой-то просветленной уверенностью. – Нельзя мне дальше… А ты уходи, уходи, убивец, как тебя земля-то еще носит, не просела под тобой? Вот тебя – огнем бы, огнем…
– Ты, Фетинья, не кори, не кори! – внезапно визгливо огрызнулся старик. – Я свои прегрешения десять раз отслужил! Теперь с меня снято и печатью заверено! Чего придумала! Тут и моя земля, – повел старик рукою окрест, – во-на сколько всего, что огнем-то меня палить? Меня на этой земле и без того полымем насквозь прохватило… Кто тебя похоронит тут, Фетинья, коль прогонишь? – внезапно старик понизил голос чуть ли не до вкрадчивого шепота, посмотрел с хитринкой; говоря, он то и дело оборачивался к Пете, мигая своими маленькими глазками, приглашая его в свидетели, в союзники, и Пете, хотя он пока ничего не понимал, стало неприятно.
– Запел, запел, оборотень окаянный, – пробормотала старуха. – Пошел глаза застить… Передо мной-то не егози, у таких-то своей земли не бывает… она их не сдюживает, таких-то…
– Крест, крест на себя положи, Фетинья! Какой ж это я такой особенный? – опять тоненько закричал старик, от возбуждения заливаясь старческим бледным румянцем и подходя шага на два ближе. – Крест положи! Я из какой земли вышел, из германской, а? Ты, Фетинья, озверела, давно ли по-другому говорила? И язык у тебя не отсохнет под самый корешок, мы ж с тобой сколько прожили… Я тебя тут какой день кормлю, пою… с тобой мучаюсь… а ты?
Впервые шевельнувшись всем телом, расцепив руки и упершись ими в землю, старуха помогла себе пододвинуться ближе к стене, с усилием подтянула к себе ноги, и на ее посуровевшее лицо наползла тень; прикрыв глаза высохшими, почти без ресниц веками, она опять окаменела, обозначилась резче, и в какое-то мгновение в лице ее словно проступил прежний далекий облик; поджались, построжали безвольные губы, прояснились глаза, и Петя увидел, что эта старуха Фетинья, несомненно, была когда то красавицей. Он услышал тихий, непрерывный, отдающийся во всем его существе мотив, успокаивающий и смывающий с души все ненужное, мешающее, и понял, что наконец-то и его коснулся, по словам деда Захара, голос и дух леса, и что именно здесь, в молчаливых корнях, и пышных вершинах, в земле и в небе – повсюду рассеян прах его предков…
– Ты, Никишка, меня перед кончиной не срами, – громко и ясно сказала старуха, продолжая свой спор. – За свои прегрешения сама отвечу…
– А-а, прегрешения! – обрадованно подхватил старик, словно получив подтверждение каким-то своим зыбким и неясным мыслям.
– Были, были, – сказала старуха в том же состоянии просветления и решимости. – Жила с тобой, убивцем, одолел ты меня, бабья моя порода пошатнулась, а ты и раскрылестился, налетел… Господи, прости, и грехи-то бабьи, пустяшные, что за грехи такие?
– Вот-вот… Ты на одного на меня не вали… Ты меня судить не можешь, Фетинья, – быстро возразил старик Никишка. – Ну, а коли я тебя и обидел чем, ты по-христьянски-то, по-христьянски – прости… И я тебя прощу…
По-прежнему помогая себе руками, охая и бормоча что-то, Фетинья тяжело взгромоздилась на больные, опухшие ноги и теперь стояла, опираясь на шероховатый бетон. От усилий платок сдвинулся у нее на плечи, и седые, совершенно белые, бесцветные, редкие волосы рассыпались, невесомо заструились под жарким легким ветерком.
– Грешница я, Никишка, великая грешница, – тяжело вздохнула она, – ты правду сказал, Никишка… Только ты меня с собой не равняй, ко мне сейчас он приходил, слышишь, сам приходил проститься, – понизила она голос, и лицо ее еще утончилось. – Он мне простил, он мне знак такой сделал…
– Кто? – не сразу хрипло спросил старик.
– Игнат приходил, муж мой покойный…
– Тю-ю, сдурела, старая, – даже попятился Никишка, зверовато оглядываясь по сторонам. – Игнат сгнил давно, костей за полвека, поди, не осталось…
– Приходил, – упрямо повторила старуха. – Вот здесь стоял, – добавила она, сосредоточенно указывая перед собой и в подтверждение даже слегка притопывая. – Вот такой же молодой да ладный приходил… стоит, глаза звездочками, прямо глядеть в них страх божий… Тина, говорит шепотом, Тина, пришел я… Долго ты дожидалась, я и пришел… Вот как его видела, – кивнула она на Петю. – Грех мой тяжкий он отпустил… он знак мне сделал особый…
– Не мели своим бабьим языком! Сдуру у тебя все, сдуру! – махнул рукой Никишка. – Приходил, отпустил… много ты знаешь, отпустил, привязал… Ты его вот и видела, – с нескрываемой злобой мотнул он кудлатой головой на Петю. – Кто окромя мог тебе приблазниться?
– Я Игната видела, мужика своего, совсем молоденького… веселого видела, – упрямо стояла на своем Фетинья и, неожиданно отделившись от бетона, шагнула к Пете, и тот не успел отступить; цепко ухватив за плечо, старуха потянула его к себе и совсем близко, в упор стала разглядывать лицо. Упрашивая ее не пугать хорошего человека, Никишка тоже заволновался и даже сделал попытку втиснуться между Петей и старухой, разъединить их.
– Какой же это Игнат, – выдохнула Фетинья наконец, – от Игната зеленым полынцем несло, а тут другой, нет, не нашенский, чей-то; ты, Никишка, всегда бестолковый был, никакого от тебя проку. Какой это Игнат? Городской чей-то, у него-то и дух другой, не-ет, не наш, – протянула она. – Ты бы мне селедочки принес, а? – совсем другим, земным, обыденным голосом попросила она Петю. – Как хочется-то селедочки, хоть бы хвостик во рту повозить.
И тотчас настроение у нее вновь переменилось, и она, взяв его за руку, повела, а за ними, озабоченно что-то бурча себе под нос, заторопился и старик Никишка; догнав их и поравнявшись с Петей, приноравливаясь к его шагу, сбоку и снизу вверх заглядывая ему в глаза, сказал:
– Слышь, парень, ты ей не верь, она всякого намелет, лишку зажилась на свете, блазнится ей, все блазнится… Вишь, Игнат к ней приходил, вон чего ей приблазнилось! Как же, жди, придет! Не верь… не верь… слышь, парень… не верь… Ничего ей не верь, жила долго, свое понятие отжила…
Не отпуская Петю, Фетинья шла одним ей ведомым путем, ни разу не остановившись; миновали улицу из бетонных глыб, и лишь каменные руки, сколько Петя ни оглядывался, по-прежнему тянулись во все больше густевшую и темневшую синеву неба. У старухи словно прибавилось сил, движения ее обрели уверенность, лицо разгорелось, глаза прояснились, и лишь дышала она хрипло, с надсадой, и по лицу пошел крупный пот. Еще издали Петя увидел наполовину разрушившийся и все равно поражающий толщиной ствол старого дуба; сучья с одной стороны у него, захваченные каким-то недугом, обескорились, побелели, иструхли и бессильно обвисли, на земле валялись полусгнившие их остатки; другая же половина дерева еще густо зеленела. Петя пригляделся: метрах в четырех от земли дуб разделялся на два ствола, и вот один из них, обращенный к югу, умер, второй же, северный, не тронутый порчей, бугрился сильной корой, и раскидистая его крона шумела высоко в небе.
Фетинья остановилась у дуба и некоторое время осматривалась; Петя молча ждал рядом, с какой-то новой заинтересованностью отмечая любую подробность вокруг.
– Я вот здесь с дитем на руках бежала, а Никишка, убивец, за дубом стоял. Он в полицаях служил, а здесь в оцеплении стоял, как немцы людей жгли в складе-то. Вот я на него и набежала, – значительно сказала Фетинья, обращаясь к Пете, и по ее глазам, в упор устремленным на него и ничего не видящим, Петя понял, что она действительно принимает его за кого-то другого; Петя коротко и неловко взглянул на старика, уставшего от непривычно быстрой ходьбы и часто дышавшего открытым беззубым ртом; его обтянутые сероватой кожей ключицы высоко поднимались и опадали; он порывался что-то сказать, не мог, задыхался и со злостью смахивал пот с лица сильно заношенным рукавом рубашки.
– Ты слышишь, слышишь? – неожиданно горячо и хрипло зашептала старуха, вновь хватая Петю за плечо, и в ее глазах плеснулся темный ужас; Петя постарался высвободиться из ее рук и не мог. – Слышишь, они… они… гонятся… трещит! Трещит!
– Успокойтесь, успокойтесь, – сказал Петя, – я ничего не слышу… вам просто кажется – в лесу никого больше нет… Вот только мы трое, уверяю вас… да, да, никого нет, – повторил он, не в силах выдержать слепой, уходящий взгляд старухи, не верившей ему, вероятно вообще не слышавшей его и занятой только своим; вотчина деда Захара, зежская лесная глухомань на этот раз раскрывала перед Петей нечто совсем уж сокровенное, окончательно принимала за своего, и у него от этой неожиданной мысли проснулось и окрепло почти физическое чувство общности и сопричастности с происходящим. Он, разумеется, знал, кто такой «полицай», но до этой встречи для него это понятие было чем-то далеким, отстраненным и даже нереальным; у него уже сложилась своя теория, и он любую жестокость стремился объяснить не физической природой самого человека, а стечением обстоятельств его жизни, и вот сейчас он встал в тупик при виде этих двух немощных, умирающих стариков, совершенно случайно встретившихся ему в лесу, полных неутихающей ненависти друг к другу.
– Я Дуняшу несу, а у нее ноженьки-то головешками, она криком кричит, заходится, а этот убивец из-за дуба – шасть, и стоит с автоматом! Слышишь, слышишь? – Старуха с расширившимися, остановившимися зрачками настойчиво трясла Петино плечо. – Слышишь, кричит… кричит! А Никишка, убивец, держит! Схватил и держит!
– Брешешь, ведьма! – не выдержал старик. – Не могла она кричать, мертвую ты волокла с собой! Я тебе зарыть ее помог!