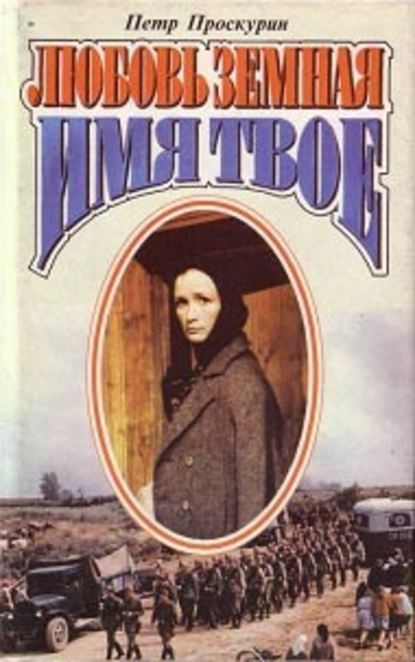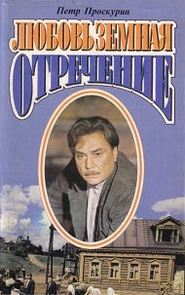По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Имя твое
Автор
Серия
Год написания книги
2007
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Сразу видно руководителя, – поддал жару Лапин, от души довольный разговором, – все под себя сразу подгребает…
– Ты сиди, кочегар, твое место уже определили, – огрызнулся Чубарев. – Все блоху со слоном, понимаете ли, стараетесь уравновесить… Прости, Сева, – тут же стремительно повернулся он к Ростовцеву, – тебе разве не хочется хоть однажды под рентген? Узнать о себе все без утайки?
– Зачем? Я о себе знаю больше, чем все. Нового я ничего не услышу, – усмехнулся художник.
– Тогда способ твоего существования абсолютно бессмыслен! У ленивца в Австралии, что всю жизнь головой вниз висит, больше смысла. – Чубарев начинал по-настоящему злиться. – Постой, постой… может, ты в бога веришь?
– Верю, – пожал плечами Ростовцев, к сущему восторгу Лапина, даже притопнувшего ногой от восхищения. – Верю в высший смысл и предназначение человека, стараюсь доказать, обосновать вот этим, – Ростовцев как-то даже виновато развел руками. – Иначе все теряет смысл.
– И так всю жизнь? Наедине с собой, в поисках того, чего, быть может, нет? И ничего, никого больше не надо? Если ты, не дай бог, ошибаешься?
– Кто же может знать больше, что именно я ищу, что мне надо? – последовал ответ. – Уж, разумеется, не те так называемые искусствоведы-лоцманы, которые вдруг отчего-то расплодились в последнее время. Для них ведь не искусство и не талант важны, а персона.
– Не верю, так не бывает. Человеку нужен хотя бы кто-то рядом… Эх, Сева, забыл тебя профсоюз, – не согласился Чубарев и, сокрушенно махнув рукой, пошел вдоль увешанных полотнами стен. Особенно много было детей, и постепенно его стало охватывать, хотя он и пытался сопротивляться, чувство какой-то умиротворенности и гармонии. Все было согласно и стройно в душе, окружавшей его сейчас со всех сторон, все было устремлено к тому, что было запрятано глубоко и в самом его существе, к восторгу и чистоте, так часто ощущаемым в детстве и потом куда-то безвозвратно утерянным, но вот нежданно проглянувшим…
Он недоверчиво переходил от одного портрета к другому, возвращался, проверяя себя, но чувство, владевшее им, уже не зависело от него.
– А ты знаешь, Сева, – сказал он, стоя опять перед портретом юноши, сына художника, – я недавно был в Нью-Йорке в командировке по своим делам… Вспомнил почему-то твое детское преклонение перед Рерихом и зашел в его музей…
– Вот так всегда в жизни: везет не тому, кому надо, – вздохнул Ростовцев. – Я бы полжизни отдал, чтобы побывать там…
– Это что-нибудь изменило бы в твоей судьбе? – стремительно обернулся Чубарев на его голос.
– Может быть. – Ростовцев своими детски голубыми вбирающими глазами ощупал лицо Чубарева. – Где присутствует красота, всегда можно обновить душу, по крайней мере мне так кажется. Знаешь, лягушке, чтобы не утонуть, нужно набрать воздуху, а потом уже нырнуть. Так и художнику… При мысли о Рерихе меня всегда поражают потенциальные возможности человека, – сощурил натруженные глаза Ростовцев. – Один едва-едва успевает воспроизвести себя, и на этом кончаются его общественные функции. Другие, как Петр Первый или Леонардо да Винчи, одной своей жизнью составляют эпоху. И тем, и другим отпущено одинаковое количество лет, примерно одинаковые физические данные… Пакт Мира, идея о создании международной организации для защиты духовных достижений человечества – подумать только! – пришла Рериху в голову еще в первую мировую войну. Мысль о единении человечества накануне самых разрушительных мировых войн, потрясений, стоивших человечеству миллионы жизней! Утопист, но сколько он успел за одну жизнь! Двадцатилетняя экспедиция в глубь Гималаев, около двух тысяч картин, огромное литературное наследие. Каждого из этих начинаний в отдельности хватило бы на целую жизнь. К тому же мы далеко еще не все знаем о нем.
– Ты, Сева, тоже успел за свою жизнь многое.
– Как можно сравнивать? В сравнении с ним я всего лишь рабочий муравей. Заметь, рабочий! То, что может совершить человек за одну жизнь, – грандиозно, непостижимо, но ведь это тоже входит в природу, значит, она-то и есть путь, она и есть цель. Вот главный смысл концепции Рериха…
– Жаль, что не ты был там, в заокеанском музее… Я рад, что мы увиделись, Сева, – сказал Чубарев.
4
Через несколько дней, сделав все необходимое в Москве, в ЦК, в соответствующих министерствах и ведомствах, Чубарев уже был в Холмске и, торопясь поскорее попасть в Зежск, на место, все-таки вынужден был еще день-другой задержаться: нужно было попутно утрясти кое-какие организационные вопросы и больше к ним не возвращаться. Но, как видно, вести летели впереди него, и по тому, как он был принят и как с ним разговаривали в обкоме, он понял, что и здесь каким-то образом стало известно об отношении Сталина к нему. Впрочем, приглядевшись, он решительно отмел эту мысль; просто здесь помнили его по прежней работе на моторном и теперь радовались встрече с ним искренне. Просто он оставил по себе хорошую память, и сам он помнил здесь многое; удивительно, не раз покачивал он головой, как цепко хранились в душе, казалось бы, совершенно незначительные подробности прожитых в этих местах лет. И Брюханова, в первый же день пригласившего его домой, Чубарев помнил отлично и поехал с радостью; ему приятно было снова видеть Брюханова, разговаривать с ним в домашней обстановке, среди спокойных, удобных вещей, в просторном доме; едва поздоровавшись, Чубарев ощутил с ним совершенно особую связь, не подвластную времени, а когда Брюханов коротко и как-то намеренно жестко сообщил, что ему самому вот этими руками (он слегка приподнял ладони) пришлось взрывать моторный, у Чубарева защемило сердце.
– Ах, разбойник! Как же мы после этого глядеть друг на друга будем, за одним столом сидеть?
– Зачем же так определенно, Олег Максимович? – Брюханов, худой, как и раньше, подтянутый, с резко проступившими обветренными скулами, выглядел удивительно молодо.
– Давненько мы с вами срабатываемся, – задумчиво глядя на густую проседь в сильных по прежнему волосах Брюханова, сказал Чубарев.
Собираясь к Брюханову, он раздумывал: идти ли ему просто так или прихватить что-нибудь в подарок? Он даже заглянул в магазин напротив гостиницы, но там сосредоточивалась такая послевоенная бедность, пустые в общем-то полки, тщательно застланные какой-то узорчатой бумагой, скорее всего старыми обоями, что Чубарев лишь вздохнул и отправился без всего, хотя и жалел, что вынужден был прийти впервые в дом с пустыми руками. Он сразу почувствовал себя хорошо в дружной и, кажется, счастливой семье Брюханова; вслед за Брюхановым навстречу ему вышла дородная, со здоровым, чистым румянцем и яркими, очевидно, в молодости глазами женщина лет пятидесяти с небольшим; она приняла у Чубарева пальто, как бы между прочим оглядела его с ног до головы, словно сравнивая со стоящим рядом Брюхановым. Тимофеевна (так звали женщину) без околичностей повела Чубарева мыть руки, подала полотенце, подчеркнув, что оно стираное, пригласила садиться за стол.
– Благодарю, благодарю, – громко пробасил Чубарев. – За стол так за стол, дорогая моя Тимофеевна. У, да тут у вас борщом пахнет! Да еще кулебяка! У-у, какой аромат! Пропал я, братцы, окончательно!
Хлопоча у стола, колыхаясь своим большим, дородным телом, Тимофеевна еще больше потеплела, сразу принимая гостя как своего, а Чубарев быстро обежал глазами, уже просматривая корешки книг на стеллаже, отмечая, что издания все больше старинные, в тяжелых переплетах; вдруг у Чубарева дрогнули и поползли вверх брови: в дверях стояла молодая женщина с каким-то почти сияющим лицом, впечатление шло от широко распахнутых, озаренных внутренним светом глаз; в них сейчас были и смущение, и усмешка.
– Моя жена, – сказал, входя в столовую, Брюханов. – Знакомьтесь, Олег Максимович, Аленка. На четвертом курсе мединститута, думает стать невропатологом.
– Аленка? – удивленно переспросил Чубарев, с легким усилием наклоняя крупную гривастую голову; он взял руку Аленки и, едва прикоснувшись к ней губами, слегка отступил.
– Елена Захаровна. – Аленка мягко отняла руку все с тем же ровным сиянием в лице, хотя Чубарев видел, что она несколько смущена и недовольна его восхищением. – Садитесь, прошу вас, за стол, – пригласила она и, повернувшись к открытой двери, позвала: – Коля, иди, пожалуйста, потом закончишь… А это мой брат Коля, – тотчас опять повернулась она к Чубареву, с гордостью обнимая за плечи юношу лет шестнадцати-семнадцати, большеглазого, как она сама, в котором угадывалась такая же напряженная внутренняя жизнь.
Чубарев крепко пожал руку Николая, радуясь тому, что видит перед собой этих красивых, рослых и каких-то чистых изнутри людей.
– Превосходно, превосходно, – шумно выдохнул он воздух, – какие, оказывается, есть еще среди нас молодые люди…
И это у него прозвучало так заразительно-искренне, от души, что все рассмеялись, и только Николай продолжал смотреть на него испытующе, без тени улыбки, и Чубарев чувствовал себя как-то неуютно под этим требовательным молодым взглядом и несколько раз в продолжение вечера, за разговором, ощущая на себе этот неспокойный взгляд, сбивался с мысли и начинал заново. «Вот чертенок, какая сила», – восхищался Чубарев своим вынужденным единоборством с этим еще неоперившимся мальцом; Тимофеевна тоже почувствовала напряжение между ними и тотчас по-своему вступилась за питомца.
– Ты что, Коля? – спросила она. – Борщ, что ли, нехорош?
– Хорош, хорош, – ломающимся баском отозвался Николай и уже больше не отрывал глаз от тарелки; но у Чубарева где-то в глубине души осталась неосознанная тревога от этого мальчишки, он почему-то подумал что его жизнь будет самым тесным образом переплетена с этой только-только начинающейся, широко распахнутой молодой жизнью, и сразу же обругал себя за сентиментальность. Ишь чего захотел, старый бродяга, очень ты ему нужен, вот будешь встречаться с Брюхановым – и достаточно, и все связи, долго ли тебе еще осталось топать? Ты бы еще в планерный кружок записался; дудки, старина, как ни прыгай, а мотор когда-нибудь остановится, берег – вот он, уже виден…
В угоду Тимофеевне, чутко ловившей малейшую смену настроения за столом, Чубарев попросил добавить борща.
– Черпачок один, – предупредил он Тимофеевну, но та, словно не расслышав, с готовностью и гордостью опять налила ему до краев душистого, дымящегося борща, укоризненно глядя на Николая, что-то неохотно вылавливающего ложкой в своей тарелке.
– Сразу видно настоящего-то едока, – заметила она вроде бы мимоходом. – На такого и полюбоваться не грех, а то ведь откуда силы будут?
– Тимофеевна, – остановила Аленка, взглянув на сведенные брови брата.
– Пусть ее, Аленка, – сказал Николай с неожиданно доброй, совсем детской улыбкой, и Чубарев подумал, что он еще совсем мальчик. – Это Тимофеевна про меня, все ей кажется, что я от книжек чахотку схвачу…
– Уж схватишь, схватишь! – не осталась в долгу Тимофеевна, и Чубарев понял, что в семье это наболевшая тема. – А чего ж? Человек не ест, не спит, день и ночь огонь-то жжет, жжет, все с книжкой, все с книжкой! Ты зайди к нему утром – он, батюшка мой, зеленью пошел, мертвяк и мертвяк. Господи помилуй, кто ж так-то учится? Вот до чего городская жизнь доводит: малый день и ночь читает, другая за полночь да с утра пораньше в читалку бежит, мало ей своих книжек, вона их, не счесть, пылятся по полкам, только работы добавляют. Для чего ж их накупают? Куда, чужих рук не жалко! – Аленка в ответ, смеясь глазами, только сокрушенно вздохнула. – Так оно и идет все кувырком, вместо того чтобы дитё родить да за мужиками приглядеть, все книжки, все книжки… да еще говорят, покойников в подвале на куски полосуют… Греха не боятся… Господи, прости… Я уж как выберу часок, так и в церкву, свечку за них поставлю, помолюсь божьей матери. Прости их, говорю, непутевых, по молодости грешат!
Брюханов, до этого все больше молчавший, на этот раз поднял на Тимофеевну построжавшие глаза, и та, собирая тарелки, обиженно поджала губы.
– С хорошим человеком только и поговорить, – все-таки не удержалась она. – Вы же с книжками по углам уткнетесь, не с кем слово сказать.
– Ты, Тимофеевна, уж молчала бы. Сама даже блины с книжкой печешь.
– Глаз у тебя, Тихон Иванович, известно, начальственный, – не раздумывая долго, привычно огрызнулась Тимофеевна. – Позавидовал, надо ж… Полторы буковки за день и разберу, а ему и бублик с тележное колесо привидится…
За столом снова дружно засмеялись. Тимофеевна принялась раскладывать второе, норовя, несмотря на протесты Николая, положить ему в тарелку вдвое против остальных; Чубарева разморило от выпитой водки, особенно от воркотни этой простодушной румяной женщины, жившей своими законами и представлениями и вносившей в общее течение напряженной, нелегкой, видимо, жизни свою немаловажную часть. Чубарев почувствовал себя привычно и раскованно в этом совершенно новом для него доме, расхаживая по натертым полам, листая книги, рассматривая гравюры, шутил, рассказывал московские новости, от него исходила какая-то большая, уверенная, добрая сила. Аленка, подняв на него глаза, сказала:
– Вы нашей Тимофеевне понравились с первого взгляда… Удивительно… Лучшую рекомендацию получить невозможно, ей-богу, Олег Максимович.
– Польщен, польщен, – церемонно поклонился Чубарев, наблюдая за Николаем, давно уже сидевшим за столом только из приличия и от неудобства при госте встать и уйти, когда другие еще сидят.
– Иди, Коля, – с улыбкой кивнула Аленка. – Иди, нечего тебе томиться…
– Спасибо. – Николай встал и, смущаясь своего высокого роста, ни на кого не глядя, быстро вышел, снова тепло и по-мальчишески ярко улыбнувшись всем на пороге.
– Возраст дает себя знать, – сказал Брюханов задумчиво. – Мне сейчас кажется, что я таким молодым никогда и не был.
Чубарев ничего не ответил, стал закуривать, и некоторое время они молчали; опять зазвонил телефон.
До этого Тимофеевна или отвечала что-то сама, или подзывала Николая с Аленкой, на этот раз категорически потребовали Брюханова, и когда он вышел, Тимофеевна, убирая со стола, стала в сердцах громко стучать посудой.
– Ты сиди, кочегар, твое место уже определили, – огрызнулся Чубарев. – Все блоху со слоном, понимаете ли, стараетесь уравновесить… Прости, Сева, – тут же стремительно повернулся он к Ростовцеву, – тебе разве не хочется хоть однажды под рентген? Узнать о себе все без утайки?
– Зачем? Я о себе знаю больше, чем все. Нового я ничего не услышу, – усмехнулся художник.
– Тогда способ твоего существования абсолютно бессмыслен! У ленивца в Австралии, что всю жизнь головой вниз висит, больше смысла. – Чубарев начинал по-настоящему злиться. – Постой, постой… может, ты в бога веришь?
– Верю, – пожал плечами Ростовцев, к сущему восторгу Лапина, даже притопнувшего ногой от восхищения. – Верю в высший смысл и предназначение человека, стараюсь доказать, обосновать вот этим, – Ростовцев как-то даже виновато развел руками. – Иначе все теряет смысл.
– И так всю жизнь? Наедине с собой, в поисках того, чего, быть может, нет? И ничего, никого больше не надо? Если ты, не дай бог, ошибаешься?
– Кто же может знать больше, что именно я ищу, что мне надо? – последовал ответ. – Уж, разумеется, не те так называемые искусствоведы-лоцманы, которые вдруг отчего-то расплодились в последнее время. Для них ведь не искусство и не талант важны, а персона.
– Не верю, так не бывает. Человеку нужен хотя бы кто-то рядом… Эх, Сева, забыл тебя профсоюз, – не согласился Чубарев и, сокрушенно махнув рукой, пошел вдоль увешанных полотнами стен. Особенно много было детей, и постепенно его стало охватывать, хотя он и пытался сопротивляться, чувство какой-то умиротворенности и гармонии. Все было согласно и стройно в душе, окружавшей его сейчас со всех сторон, все было устремлено к тому, что было запрятано глубоко и в самом его существе, к восторгу и чистоте, так часто ощущаемым в детстве и потом куда-то безвозвратно утерянным, но вот нежданно проглянувшим…
Он недоверчиво переходил от одного портрета к другому, возвращался, проверяя себя, но чувство, владевшее им, уже не зависело от него.
– А ты знаешь, Сева, – сказал он, стоя опять перед портретом юноши, сына художника, – я недавно был в Нью-Йорке в командировке по своим делам… Вспомнил почему-то твое детское преклонение перед Рерихом и зашел в его музей…
– Вот так всегда в жизни: везет не тому, кому надо, – вздохнул Ростовцев. – Я бы полжизни отдал, чтобы побывать там…
– Это что-нибудь изменило бы в твоей судьбе? – стремительно обернулся Чубарев на его голос.
– Может быть. – Ростовцев своими детски голубыми вбирающими глазами ощупал лицо Чубарева. – Где присутствует красота, всегда можно обновить душу, по крайней мере мне так кажется. Знаешь, лягушке, чтобы не утонуть, нужно набрать воздуху, а потом уже нырнуть. Так и художнику… При мысли о Рерихе меня всегда поражают потенциальные возможности человека, – сощурил натруженные глаза Ростовцев. – Один едва-едва успевает воспроизвести себя, и на этом кончаются его общественные функции. Другие, как Петр Первый или Леонардо да Винчи, одной своей жизнью составляют эпоху. И тем, и другим отпущено одинаковое количество лет, примерно одинаковые физические данные… Пакт Мира, идея о создании международной организации для защиты духовных достижений человечества – подумать только! – пришла Рериху в голову еще в первую мировую войну. Мысль о единении человечества накануне самых разрушительных мировых войн, потрясений, стоивших человечеству миллионы жизней! Утопист, но сколько он успел за одну жизнь! Двадцатилетняя экспедиция в глубь Гималаев, около двух тысяч картин, огромное литературное наследие. Каждого из этих начинаний в отдельности хватило бы на целую жизнь. К тому же мы далеко еще не все знаем о нем.
– Ты, Сева, тоже успел за свою жизнь многое.
– Как можно сравнивать? В сравнении с ним я всего лишь рабочий муравей. Заметь, рабочий! То, что может совершить человек за одну жизнь, – грандиозно, непостижимо, но ведь это тоже входит в природу, значит, она-то и есть путь, она и есть цель. Вот главный смысл концепции Рериха…
– Жаль, что не ты был там, в заокеанском музее… Я рад, что мы увиделись, Сева, – сказал Чубарев.
4
Через несколько дней, сделав все необходимое в Москве, в ЦК, в соответствующих министерствах и ведомствах, Чубарев уже был в Холмске и, торопясь поскорее попасть в Зежск, на место, все-таки вынужден был еще день-другой задержаться: нужно было попутно утрясти кое-какие организационные вопросы и больше к ним не возвращаться. Но, как видно, вести летели впереди него, и по тому, как он был принят и как с ним разговаривали в обкоме, он понял, что и здесь каким-то образом стало известно об отношении Сталина к нему. Впрочем, приглядевшись, он решительно отмел эту мысль; просто здесь помнили его по прежней работе на моторном и теперь радовались встрече с ним искренне. Просто он оставил по себе хорошую память, и сам он помнил здесь многое; удивительно, не раз покачивал он головой, как цепко хранились в душе, казалось бы, совершенно незначительные подробности прожитых в этих местах лет. И Брюханова, в первый же день пригласившего его домой, Чубарев помнил отлично и поехал с радостью; ему приятно было снова видеть Брюханова, разговаривать с ним в домашней обстановке, среди спокойных, удобных вещей, в просторном доме; едва поздоровавшись, Чубарев ощутил с ним совершенно особую связь, не подвластную времени, а когда Брюханов коротко и как-то намеренно жестко сообщил, что ему самому вот этими руками (он слегка приподнял ладони) пришлось взрывать моторный, у Чубарева защемило сердце.
– Ах, разбойник! Как же мы после этого глядеть друг на друга будем, за одним столом сидеть?
– Зачем же так определенно, Олег Максимович? – Брюханов, худой, как и раньше, подтянутый, с резко проступившими обветренными скулами, выглядел удивительно молодо.
– Давненько мы с вами срабатываемся, – задумчиво глядя на густую проседь в сильных по прежнему волосах Брюханова, сказал Чубарев.
Собираясь к Брюханову, он раздумывал: идти ли ему просто так или прихватить что-нибудь в подарок? Он даже заглянул в магазин напротив гостиницы, но там сосредоточивалась такая послевоенная бедность, пустые в общем-то полки, тщательно застланные какой-то узорчатой бумагой, скорее всего старыми обоями, что Чубарев лишь вздохнул и отправился без всего, хотя и жалел, что вынужден был прийти впервые в дом с пустыми руками. Он сразу почувствовал себя хорошо в дружной и, кажется, счастливой семье Брюханова; вслед за Брюхановым навстречу ему вышла дородная, со здоровым, чистым румянцем и яркими, очевидно, в молодости глазами женщина лет пятидесяти с небольшим; она приняла у Чубарева пальто, как бы между прочим оглядела его с ног до головы, словно сравнивая со стоящим рядом Брюхановым. Тимофеевна (так звали женщину) без околичностей повела Чубарева мыть руки, подала полотенце, подчеркнув, что оно стираное, пригласила садиться за стол.
– Благодарю, благодарю, – громко пробасил Чубарев. – За стол так за стол, дорогая моя Тимофеевна. У, да тут у вас борщом пахнет! Да еще кулебяка! У-у, какой аромат! Пропал я, братцы, окончательно!
Хлопоча у стола, колыхаясь своим большим, дородным телом, Тимофеевна еще больше потеплела, сразу принимая гостя как своего, а Чубарев быстро обежал глазами, уже просматривая корешки книг на стеллаже, отмечая, что издания все больше старинные, в тяжелых переплетах; вдруг у Чубарева дрогнули и поползли вверх брови: в дверях стояла молодая женщина с каким-то почти сияющим лицом, впечатление шло от широко распахнутых, озаренных внутренним светом глаз; в них сейчас были и смущение, и усмешка.
– Моя жена, – сказал, входя в столовую, Брюханов. – Знакомьтесь, Олег Максимович, Аленка. На четвертом курсе мединститута, думает стать невропатологом.
– Аленка? – удивленно переспросил Чубарев, с легким усилием наклоняя крупную гривастую голову; он взял руку Аленки и, едва прикоснувшись к ней губами, слегка отступил.
– Елена Захаровна. – Аленка мягко отняла руку все с тем же ровным сиянием в лице, хотя Чубарев видел, что она несколько смущена и недовольна его восхищением. – Садитесь, прошу вас, за стол, – пригласила она и, повернувшись к открытой двери, позвала: – Коля, иди, пожалуйста, потом закончишь… А это мой брат Коля, – тотчас опять повернулась она к Чубареву, с гордостью обнимая за плечи юношу лет шестнадцати-семнадцати, большеглазого, как она сама, в котором угадывалась такая же напряженная внутренняя жизнь.
Чубарев крепко пожал руку Николая, радуясь тому, что видит перед собой этих красивых, рослых и каких-то чистых изнутри людей.
– Превосходно, превосходно, – шумно выдохнул он воздух, – какие, оказывается, есть еще среди нас молодые люди…
И это у него прозвучало так заразительно-искренне, от души, что все рассмеялись, и только Николай продолжал смотреть на него испытующе, без тени улыбки, и Чубарев чувствовал себя как-то неуютно под этим требовательным молодым взглядом и несколько раз в продолжение вечера, за разговором, ощущая на себе этот неспокойный взгляд, сбивался с мысли и начинал заново. «Вот чертенок, какая сила», – восхищался Чубарев своим вынужденным единоборством с этим еще неоперившимся мальцом; Тимофеевна тоже почувствовала напряжение между ними и тотчас по-своему вступилась за питомца.
– Ты что, Коля? – спросила она. – Борщ, что ли, нехорош?
– Хорош, хорош, – ломающимся баском отозвался Николай и уже больше не отрывал глаз от тарелки; но у Чубарева где-то в глубине души осталась неосознанная тревога от этого мальчишки, он почему-то подумал что его жизнь будет самым тесным образом переплетена с этой только-только начинающейся, широко распахнутой молодой жизнью, и сразу же обругал себя за сентиментальность. Ишь чего захотел, старый бродяга, очень ты ему нужен, вот будешь встречаться с Брюхановым – и достаточно, и все связи, долго ли тебе еще осталось топать? Ты бы еще в планерный кружок записался; дудки, старина, как ни прыгай, а мотор когда-нибудь остановится, берег – вот он, уже виден…
В угоду Тимофеевне, чутко ловившей малейшую смену настроения за столом, Чубарев попросил добавить борща.
– Черпачок один, – предупредил он Тимофеевну, но та, словно не расслышав, с готовностью и гордостью опять налила ему до краев душистого, дымящегося борща, укоризненно глядя на Николая, что-то неохотно вылавливающего ложкой в своей тарелке.
– Сразу видно настоящего-то едока, – заметила она вроде бы мимоходом. – На такого и полюбоваться не грех, а то ведь откуда силы будут?
– Тимофеевна, – остановила Аленка, взглянув на сведенные брови брата.
– Пусть ее, Аленка, – сказал Николай с неожиданно доброй, совсем детской улыбкой, и Чубарев подумал, что он еще совсем мальчик. – Это Тимофеевна про меня, все ей кажется, что я от книжек чахотку схвачу…
– Уж схватишь, схватишь! – не осталась в долгу Тимофеевна, и Чубарев понял, что в семье это наболевшая тема. – А чего ж? Человек не ест, не спит, день и ночь огонь-то жжет, жжет, все с книжкой, все с книжкой! Ты зайди к нему утром – он, батюшка мой, зеленью пошел, мертвяк и мертвяк. Господи помилуй, кто ж так-то учится? Вот до чего городская жизнь доводит: малый день и ночь читает, другая за полночь да с утра пораньше в читалку бежит, мало ей своих книжек, вона их, не счесть, пылятся по полкам, только работы добавляют. Для чего ж их накупают? Куда, чужих рук не жалко! – Аленка в ответ, смеясь глазами, только сокрушенно вздохнула. – Так оно и идет все кувырком, вместо того чтобы дитё родить да за мужиками приглядеть, все книжки, все книжки… да еще говорят, покойников в подвале на куски полосуют… Греха не боятся… Господи, прости… Я уж как выберу часок, так и в церкву, свечку за них поставлю, помолюсь божьей матери. Прости их, говорю, непутевых, по молодости грешат!
Брюханов, до этого все больше молчавший, на этот раз поднял на Тимофеевну построжавшие глаза, и та, собирая тарелки, обиженно поджала губы.
– С хорошим человеком только и поговорить, – все-таки не удержалась она. – Вы же с книжками по углам уткнетесь, не с кем слово сказать.
– Ты, Тимофеевна, уж молчала бы. Сама даже блины с книжкой печешь.
– Глаз у тебя, Тихон Иванович, известно, начальственный, – не раздумывая долго, привычно огрызнулась Тимофеевна. – Позавидовал, надо ж… Полторы буковки за день и разберу, а ему и бублик с тележное колесо привидится…
За столом снова дружно засмеялись. Тимофеевна принялась раскладывать второе, норовя, несмотря на протесты Николая, положить ему в тарелку вдвое против остальных; Чубарева разморило от выпитой водки, особенно от воркотни этой простодушной румяной женщины, жившей своими законами и представлениями и вносившей в общее течение напряженной, нелегкой, видимо, жизни свою немаловажную часть. Чубарев почувствовал себя привычно и раскованно в этом совершенно новом для него доме, расхаживая по натертым полам, листая книги, рассматривая гравюры, шутил, рассказывал московские новости, от него исходила какая-то большая, уверенная, добрая сила. Аленка, подняв на него глаза, сказала:
– Вы нашей Тимофеевне понравились с первого взгляда… Удивительно… Лучшую рекомендацию получить невозможно, ей-богу, Олег Максимович.
– Польщен, польщен, – церемонно поклонился Чубарев, наблюдая за Николаем, давно уже сидевшим за столом только из приличия и от неудобства при госте встать и уйти, когда другие еще сидят.
– Иди, Коля, – с улыбкой кивнула Аленка. – Иди, нечего тебе томиться…
– Спасибо. – Николай встал и, смущаясь своего высокого роста, ни на кого не глядя, быстро вышел, снова тепло и по-мальчишески ярко улыбнувшись всем на пороге.
– Возраст дает себя знать, – сказал Брюханов задумчиво. – Мне сейчас кажется, что я таким молодым никогда и не был.
Чубарев ничего не ответил, стал закуривать, и некоторое время они молчали; опять зазвонил телефон.
До этого Тимофеевна или отвечала что-то сама, или подзывала Николая с Аленкой, на этот раз категорически потребовали Брюханова, и когда он вышел, Тимофеевна, убирая со стола, стала в сердцах громко стучать посудой.