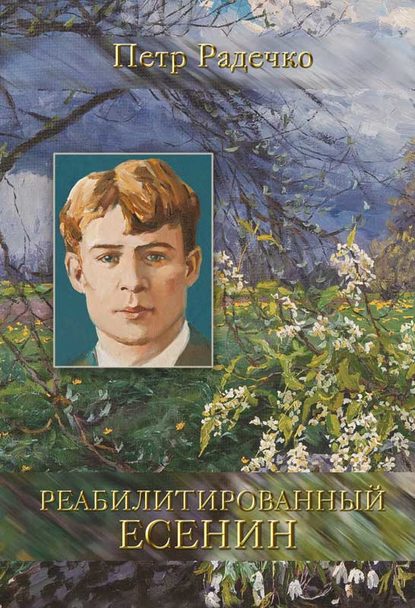По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Реабилитированный Есенин
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И опять вспоминается абсолютно беспринципный и переменчивый, как флюгер, Демьян Бедный. В свое время тот писал:
Звучит моя лира,
Я песни слагаю
Апостолу мира
Царю Николаю!
А теперь, пораженный болезнью кровавой эпохи, лакейничает у новоявленных вождей. Своими агитками разжигает классовую вражду, насмехается над историей России, ее народом, православием. Поселился в Кремле и, наверное, считает, что совесть его чиста.
У Есенина она именно чиста. И потому у него нет ни кола, ни двора. Сам по чердакам в Москве скитается, а жена с маленькой дочуркой в Орле, в ее родительском доме. И никаких перспектив. А отец с двенадцати лет в мясной лавке у купца работал, и почти все время жил в многолюдной «холостяцкой» комнате. Да вот голод навалился, что и торговать нечем. Пришлось ни с чем уехать домой в деревню. А сыну пока что и до «холостяцкой» комнаты дослужиться не удается. Зато честен. И опять вспоминается пословица, недавно услышанная во время поездки в родное Константиново: «Честен бык, так он сеном сыт».
В то время в России существовало несколько поэтических групп. Символисты, акмеисты, ничевоки… Но самой сильной из них была группа футуристов. Благодаря тому что в нее входили талантливые поэты Велимир Хлебников, Владимир Маяковский и Василий Каменский. Революционного задора у них было еще предостаточно, и они пытались завладеть умами всей читающей публики, для чего нередко устраивали литературные вечера. Стреножив введением жесткой цензуры литераторов старой школы, большевистское правительство поставило их перед убийственной дилеммой – или принимать, подобно Демьяну, новую власть, воспевая кровавую бойню во имя светлого будущего, или, чтобы не умереть с голоду, уехать за границу.
Футуристов правительству с помощью вездесущего наркома по просвещению Анатолия Луначарского все больше и больше удавалось подмять под себя. Но оставалась еще значительная часть молодых литераторов, которые видели в футуризме чуждое народу, заумное течение, и о сотрудничестве с ним даже не помышляли. А оставлять их вне своего поля зрения большевикам не хотелось.
Наоборот, они стремились оказывать на этих литераторов активное влияние, а при возможности вовлечь их если не в Пролеткульт, то хотя бы в борьбу с представителями старой школы. Это входило в планы культурной революции в стране, проповедующей наряду с коллективными формами собственности и коллективное творчество. Однако, кому доверить такое нелегкое дело? Здесь нужен свой, преданный человек. Как племянник Боба, Мариенгоф.
Главный идеолог партии Николай Бухарин, пробежав глазами по пензенскому альманаху А. Мариенгофа в момент их первой встречи и найдя его «никогда невиданной ерундой», не мог полностью доверить все дело только ему. Ведь кто в Москве знает этого пензюка, и кто пойдет за ним в какое-то непонятное литобъединение? Новой группе нужен был хотя бы один известный талантливый поэт. И чем ярче будет его талант, тем большее количество литераторов он сможет объединить вокруг своего имени.
Среди молодых именно таким был Сергей Есенин. И власти сделали ставку на него. Звонкоголосого, до глубины своей нежной души влюбленного в отчий край, мятущегося и… неустроенного. Мариенгоф в этой сложной игре должен был выступить в роли привлекательного ангела-искусителя.
Не меньше, чем вождей, устраивал этот вариант и вчерашнего пензюка-троечника Анатолия Мариенгофа. Ему, беспредельно честолюбивому, льстило то, что он сможет постоянно находиться в обществе уже широкоизвестного и уважаемого им поэта Сергея Есенина, а также других литераторов, что они в какой-то степени даже будут зависимы от него. Ну, например, правом участия в выпуске первого их совместного поэтического сборника. Ведь отбор стихов для «Яви» поручен именно ему. А как это возвышает его в глазах всех литераторов!
Однако совсем не так быстро, сломя голову, как представил в своем «Романе без вранья» А. Мариенгоф, бросился Сергей Есенин в объятия вождей. Хотя до объятий дело так и не дошло. Но лояльность к власти поэт начал проявлять. Правда, значительно позже. Уже к концу кровавого 1918 года. Осенью же его, вконец отощавшего, журналист Лев Повицкий, любящий есенинскую поэзию, на несколько недель увез из голодающей Москвы в Тулу, к своему брату, во владении которого находился небольшой заводик по производству пива. Там поэту, как и его другу Сергею Клычкову, удалось хоть немного поправить свое здоровье.
Мариенгоф в это время получал неплохое жалованье за бесцельное просиживание возле окна в канцелярии издательства ВЦИК и безбедно жил со своим «двоюродным братом-дядей» в люксе гостиницы «Метрополь», куда, как мы помним, прямо в номер «мирное существо» приносило чай.
«В начале зимы, – пишет А. Мариенгоф в «Романе с друзьями», – Боб переселил (курсив мой. – П. Р.) меня со всеми моими “Исходами” в отличную комнату на Петровке к каким-то интеллигентным буржуям, которые решились сами предусмотрительно уплотниться: “Дальше, мол, будет еще хуже, и проклятые большевики в нашу квартиру водворят совсем уж черт знает кого”…»
Надеемся, внимательный читатель заметил, что похожая на эту цитата уже была использована в одной из предыдущих глав. Но там речь шла не только об Анатолии, но и о его друге по Пензенской гимназии Молабухе. К этому несоответствию мы вернемся позже, а сейчас нам важно подчеркнуть место и примерное время подготовки Декларации имажинистов. Ведь именно со дня ее опубликования можно говорить о рождении нового литературного течения в России. Поэтому цитируем «роман» дальше:
«Распаковать фибровый чемодан и запихать под кровать остатки “Исхода” было недолго. И сразу я пригласил к себе на новоселье Есенина, Шершеневича и Рюрика Ивнева. Всем троим я написал одно и то же: “Приходите в субботу вечером. Надо окончательно договориться об имажинистском манифесте. Время не терпит. “Советская страна” обещает его напечатать в ближайшем номере».
Этой цитатой прежде всего подтвердим нашу догадку о том, что инициатива создать имажинизм исходила из самых верхов. Мариенгоф, стараясь оправдать доверие власть предержащих, как мы теперь говорим, «достал» будущих членов нового литературного течения, и они в принципе не противились. Но собраться им вместе, чтобы обсудить свою платформу, наметить перспективы, было негде.
Есенин не имел ни квартиры, ни рабочего места. В канцелярии издательства ВЦИК, где числился работающим Анатолий, собраться нельзя, так как кроме его стола, по свидетельству Мариенгофа, «в длинной комнате таких же столов стояло примерно семь-восемь». Рюрик Ивнев, будучи секретарем наркома просвещения Анатолия Луначарского, в рабочее время постоянно занят. Вадим Шершеневич вести друзей в отцовские хоромы, видимо, не захотел. Да и решать такой вопрос лучше было за чашкой чая в спокойной обстановке, без посторонних ушей.
Вот «дядя-брат» Боб и потеснил добровольно-принудительно не какого-то «недорезанного буржуина», а обыкновенного инженера, чтобы поселить у него потомка столбовых дворян Хлоповых (с претензией на остзейское баронство) Анатолия Мариенгофа вместе с другом из Пензы Григорием Колобовым, которого по причине его тайной службы «романист» конспиративно называет Молабухом.
Устроившись в коммунальной квартире, Мариенгоф сразу же зовет на новоселье своих будущих друзей – соратников по имажинизму. Как того требуют «сверху». Не зря же в его пригласительной записке есть фраза: «Время не терпит».
Власти торопились как можно скорее дать бой литераторам «старой школы». Но дать его не со стороны никому неизвестного «пензюка» А. Мариенгофа, а целой группы литераторов во главе с широкоизвестным молодым поэтом Сергеем Есениным.
Очень точную оценку происходящего дал впоследствии в своих воспоминаниях известный литератор-эмигрант Вячеслав Ходасевич. Он писал: «…вся имажинистская школа… затащила к себе Есенина, как затаскивают богатого парня в кабак, чтобы за его счет кутнуть…»
К сожалению, «кутнуть» имажинисты собирались за счет Есенина не один раз, а «кутили» несколько лет. И этот «кутеж» отдается в репутации Есенина до сего времени.
Но для того чтобы заявить о новом течении в литературе, нужна была какая-то программа, манифест или декларация. Есенин, закончивший незадолго до того работу над литературоведчески-философской статьей «Ключи Марии», мог предложить ее в качестве основы для такого документа. Тем более что в ней велась речь о метафоре, которая, по утверждению Есенина, всегда была одним из основных условий художественного произведения, начиная с «Песни Песней» царя Соломона, древнерусских летописей и кончая стихами лучших современных авторов.
Это отвечало и желаниям новых друзей Есенина, жаждавших утверждать своей поэзией главенство образа, называемого ими на французский манер – имажем. Здесь их желания совпадали. Но что касается идеологических постулатов о партийности литературы, Есенин был непреклонен. В его «Ключах Марии» это выражалось следующим образом:
«Вот потому-то нам так и противны занесенные руки марксистской опеки в идеологии сущности искусств. Она строит руками рабочих памятник Марксу, а крестьяне хотят поставить его корове…»
Вождей партии, и в первую очередь Льва Троцкого, такой вариант программы, безусловно, удовлетворить не мог. Это понимал и сам Есенин, и даже Мариенгоф. Не говоря о Шершеневиче, который абсолютно по-иному видел задачи нового литературного течения. Отторгнутый Маяковским от футуризма, он прежде всего стремился получить в имажинизме для себя надежную трибуну для острой полемики со своими бывшими единомышленниками, продемонстрировать личную значимость в новой группе. Что же касается теории, то даже понятия о роли поэзии у него были совсем иные, чем у Есенина. Каждое стихотворение ему виделось как каталог образов, в чем этого закаленного в дискуссиях литературного теоретика полностью поддерживал Мариенгоф.
По свидетельству последнего, Есенин поручил Вадиму Шершеневичу написать манифест, который впоследствии будет назван декларацией:
– Ты, Вадим, газетчик, стало быть, тебе и пишущая машинка в зубы. Сегодня ночью выстукай на ней наш манифест.
Мариенгоф, как всегда, солгал. При всем его желании как можно скорее выполнить указание властей, он вряд ли мог «вдохновить» Есенина на такое твердое решение – заставить Шершеневича за ночь написать манифест, не давая никому в доме спать стучанием пишущей машинки. Ведь все равно назавтра сдавать его в газету никто не собирался, потому что это было, по словам Мариенгофа, в начале зимы, а первый номер газеты «Советская страна» вышел только 27 января 1919 г. Декларация же была опубликована в ней лишь 10 февраля. Если же Шершеневичу и в самом деле пришлось в срочном порядке за ночь «отстукать» декларацию, чтобы успеть сдать ее в редакцию для опубликования, значит, с полной уверенностью можно говорить, что Есенин познакомился с Мариенгофом не в августе 1918 года, как настойчиво утверждал последний, а в январе 1919 года.
Судя по словам самого же Мариенгофа, который привез в Москву полный фибровый чемодан и мешок с «Исходом», этот альманах был издан за средства авторов. И хотя мнимый барон утверждает, что, «вынув из чемодана авторский экземпляр на веленевой бумаге, я протянул его Бобу», верить этому нельзя. Авторские экземпляры в таком количестве издательствами не выдаются. В мешки и чемоданы можно грузить только изданное за свои деньги.
Но главный аспект лжи заключается в другом. Мариенгоф во всех своих «бессмертных романах» старался (как некоторые его адвокаты и сейчас!) показать свою главенствующую роль в создании имажинизма. Начиная от идеи и кончая основой теории. Не говоря о воплощении «каталога образов» в жизнь. Без тени смущения он заявляет о том, что имажинистом стал еще в Пензе, а изданный в 1918 году вместе с Иваном Старцевым «Исход», стал первым в России имажинистским сборником.
В таком случае как можно неумелую стряпню Мариенгофа из этого альманашка, к которой он и сам потом относился с иронией, считать первой имажинистской, если Шершеневич имел к тому времени два официально изданных сборника стихов, а Есенин – три! Кроме того, ни в «Исходе», ни в книгах Вадима и Сергея слово «имажинизм» не употреблялось. Оно еще и не было придумано. Но Шершеневич двумя годами раньше в своей книге «Зеленая улица» называл себя «имажионистом». А слово «имажинист» появилось только в декларации, «отстукать» которую за ночь на машинке Есенин поручил не Мариенгофу, а Шершеневичу. При живом-то «основоположнике» из Пензы! Невероятно!
Скрыть этот факт Мариенгоф не может и поэтому объясняет ситуацию, выгораживая себя. Мол, Есенин принял такое решение лишь потому, что Вадим работал в газете и умеет печатать на машинке. Никто из других будущих имажинистов такой способностью не обладал.
Впрочем, никто даже из самих имажинистов главным теоретиком своей «школы» Мариенгофа не считал. Его «авторитет» держался только на более близкой дружбе с Есениным и на руководстве журналом «Гостиница для путешествующих в прекрасном», которое поручил ему Есенин накануне своего заграничного путешествия в 1922 году.
Убедиться в этом можно, прочитав программную статью «романиста» с позерским названием «Не передовица» и теоретические изыски под заголовком «Корова и оранжерея» в первом номере имажинистского журнала, который вышел в ноябре 1922 года. В них сплошная окололитературная болтовня, а слово «имажинизм» даже не упоминается. Абсолютно такую же характеристику можно дать и словоблудию Мариенгофа, опубликованному во втором номере журнала под названием «Почти декларация». Лишь одну только статью «Буян-остров» из многих его попыток можно в какой-то степени отнести к теории имажинизма.
Да, Есенин не жаловал Вадима Шершеневича в такой степени, как Мариенгофа.
Анатолий был младше Сергея, еще абсолютно никакими стихами не заявивший о себе в столице. При всем его барском воспитании и крепкими связями с представителями власти чувствовал себя пока немного провинциалом, и полностью находился под влиянием творчества Есенина. Об этом можно судить по его более поздним «романам», когда ему на фоне возрождающейся популярности Есенина волей-неволей пришлось хоть в какой-то мере отказываться от своего давнего наглого вранья.
Вадим Шершеневич, прежде всего, был на два года старше Сергея Есенина. Родился он в богатой интеллигентной семье. Его отец – известный ученый-правовед, депутат Государственной Думы. Мать – популярная в то время оперная актриса. Будущий поэт, теоретик имажинизма, получил блестящее образование (окончил два факультета), владел английским, французским, немецким, итальянским и другими языками. Он – приятный собеседник, великолепный оратор, полемист, мастер каламбуров.
Во всем этом Вадим превосходил не только имажинистов. Однако его поэтический дар был никудышным. Вышедшие ко времени зарождения имажинизма два его сборника стихов критик В. Львов-Рогачевский назвал «жалкими пародиями».
Самолюбие поэта не могло мириться с прохладным отношением публики к его творчеству. Он мечется в поисках литературной ниши, где мог бы стать первым. Примыкал к символистам, акмеистам, футуристам и, наконец, прибился к имажинистам. Но тягаться талантами с Валерием Брюсовым, Андреем Белым, Александром Блоком, Федором Сологубом, Игорем Северяниным, Владимиром Маяковским и Сергеем Есениным он не мог. Хотя и работать вне всяких группировок и течений тоже не хотел. Он стремился быть всегда на виду, участвовать в ломке старых литературных устоев, блистать своим красноречием перед публикой. Под многочисленными псевдонимами часто выступал в периодических изданиях с критическими статьями.
Превосходно владея европейскими языками, Вадим Шершеневич постоянно находился в курсе литературного движения в других странах. Был знаком с имажизмом Франции и Англии (от фр. слова «имаж» – образ). Но больше его привлекало итальянское название группы поэтов-образников – «имажионисты». Еще в своей книге «Зеленая улица», изданной в 1916 году, он писал: «Я по преимуществу имажионист. То есть образы прежде всего. А так как теория футуризма наиболее соответствует моим взглядам на образ, то я охотно надеваю, как сандвич, вывеску футуризма».
В лице Шершеневича Есенин видел наиболее подходящего теоретика нового литературного направления. Кроме того, Вадим со своим красноречием нужен был имажинистам для полемических баталий с другими поэтическими группами и, прежде всего, с футуристами, где во всю свою «площадную глотку» витийствовал Маяковский. Вадим в этом успешно соперничал с ним. Вот почему Есенин и поручил Шершеневичу, а не запоздавшему самозванцу Мариенгофу, написать декларацию имажинистов.
С другой стороны, Есенин, как мы уже отметили, не жаловал Шершеневича. Отмеченный Богом гениальностью, он видел огромную дистанцию в своем и Вадима дарованиях и, не находя в его лице достойной оценки своего творчества, не спешил с любезностями и сам. Более того, спустя некоторое время после их знакомства в очередном номере журнала «Свободный час» появилась рецензия «Опыты демократизации искусства» на коллективный сборник стихов «Красный звон». Ее автор Георгий Гальский среди произведений других поэтов жестко критиковал опубликованное там стихотворение Есенина «Товарищ», с пафосом написанное им сразу после февральской революции, обвинив Сергея в «граммофонстве» (так!), «небрезгливости» и приведении поэзии «к газетному знаменателю». Есенин узнал, что под псевдонимом Георгий Гальский спрятался его новый «собрат по главенству образа» Вадим Шершеневич.
Мариенгоф, как всегда, сочинил свою версию. Якобы «разносу» подвергся только Есенин, что Шершеневич спрятался под псевдонимом Георгий Гаер, что «урбанистические начала столкнулись с крестьянскими», что Есенин «до конца своих дней <…> рыча произносил: Георгий Гаер» (Как жил Есенин. С. 52).
Конца дней Есенина Мариенгофу наблюдать, как известно, не привелось. Два года они практически не встречались. То, что «рычание» у Мариенгофа надуманное, уже доказано. Его просто не было.
Кроме того, Шершеневич оказался, как и Мариенгоф, в некоторой степени русофобом. Если Анатолий упрекал Сергея за его якобы чрезмерную любовь к Руси, то Вадим в своей статье «Путеводитель по поэзии 1918 года», опубликованной под его же фамилией 3 марта 1919 года в воронежской газете «Огни», писал: «Несколько странным нам кажется славянский акцент Есенина, но мы думаем, что это <…> проходящее».
Как будто Есенин, рожденный в русской деревне и нигде к тому времени за рубежом не побывавший, должен был писать в стихах о великолепии Парижа, Рима или о просторах Африки. Нет. Любовь к России у Есенина не прошла. Даже, находясь позже в продолжительной поездке по Европе и Америке, он писал о своей родине, оставаясь русским национальным поэтом. Как Байрон – английским, а Беранже – французским.
Но главная причина разочарования в Шершеневиче у Есенина выявилась после того, как Вадим теоретически обосновал суть имажинизма. Взгляды на отдельные положения декларации у них оказались совершенно разными. И на позицию – тоже.
Лгал Мариенгоф, пытаясь обессмертить себя, и в том, что именно он поддержал Есенина в споре о сути имажинизма при подписании Декларации. Процитируем его:
Звучит моя лира,
Я песни слагаю
Апостолу мира
Царю Николаю!
А теперь, пораженный болезнью кровавой эпохи, лакейничает у новоявленных вождей. Своими агитками разжигает классовую вражду, насмехается над историей России, ее народом, православием. Поселился в Кремле и, наверное, считает, что совесть его чиста.
У Есенина она именно чиста. И потому у него нет ни кола, ни двора. Сам по чердакам в Москве скитается, а жена с маленькой дочуркой в Орле, в ее родительском доме. И никаких перспектив. А отец с двенадцати лет в мясной лавке у купца работал, и почти все время жил в многолюдной «холостяцкой» комнате. Да вот голод навалился, что и торговать нечем. Пришлось ни с чем уехать домой в деревню. А сыну пока что и до «холостяцкой» комнаты дослужиться не удается. Зато честен. И опять вспоминается пословица, недавно услышанная во время поездки в родное Константиново: «Честен бык, так он сеном сыт».
В то время в России существовало несколько поэтических групп. Символисты, акмеисты, ничевоки… Но самой сильной из них была группа футуристов. Благодаря тому что в нее входили талантливые поэты Велимир Хлебников, Владимир Маяковский и Василий Каменский. Революционного задора у них было еще предостаточно, и они пытались завладеть умами всей читающей публики, для чего нередко устраивали литературные вечера. Стреножив введением жесткой цензуры литераторов старой школы, большевистское правительство поставило их перед убийственной дилеммой – или принимать, подобно Демьяну, новую власть, воспевая кровавую бойню во имя светлого будущего, или, чтобы не умереть с голоду, уехать за границу.
Футуристов правительству с помощью вездесущего наркома по просвещению Анатолия Луначарского все больше и больше удавалось подмять под себя. Но оставалась еще значительная часть молодых литераторов, которые видели в футуризме чуждое народу, заумное течение, и о сотрудничестве с ним даже не помышляли. А оставлять их вне своего поля зрения большевикам не хотелось.
Наоборот, они стремились оказывать на этих литераторов активное влияние, а при возможности вовлечь их если не в Пролеткульт, то хотя бы в борьбу с представителями старой школы. Это входило в планы культурной революции в стране, проповедующей наряду с коллективными формами собственности и коллективное творчество. Однако, кому доверить такое нелегкое дело? Здесь нужен свой, преданный человек. Как племянник Боба, Мариенгоф.
Главный идеолог партии Николай Бухарин, пробежав глазами по пензенскому альманаху А. Мариенгофа в момент их первой встречи и найдя его «никогда невиданной ерундой», не мог полностью доверить все дело только ему. Ведь кто в Москве знает этого пензюка, и кто пойдет за ним в какое-то непонятное литобъединение? Новой группе нужен был хотя бы один известный талантливый поэт. И чем ярче будет его талант, тем большее количество литераторов он сможет объединить вокруг своего имени.
Среди молодых именно таким был Сергей Есенин. И власти сделали ставку на него. Звонкоголосого, до глубины своей нежной души влюбленного в отчий край, мятущегося и… неустроенного. Мариенгоф в этой сложной игре должен был выступить в роли привлекательного ангела-искусителя.
Не меньше, чем вождей, устраивал этот вариант и вчерашнего пензюка-троечника Анатолия Мариенгофа. Ему, беспредельно честолюбивому, льстило то, что он сможет постоянно находиться в обществе уже широкоизвестного и уважаемого им поэта Сергея Есенина, а также других литераторов, что они в какой-то степени даже будут зависимы от него. Ну, например, правом участия в выпуске первого их совместного поэтического сборника. Ведь отбор стихов для «Яви» поручен именно ему. А как это возвышает его в глазах всех литераторов!
Однако совсем не так быстро, сломя голову, как представил в своем «Романе без вранья» А. Мариенгоф, бросился Сергей Есенин в объятия вождей. Хотя до объятий дело так и не дошло. Но лояльность к власти поэт начал проявлять. Правда, значительно позже. Уже к концу кровавого 1918 года. Осенью же его, вконец отощавшего, журналист Лев Повицкий, любящий есенинскую поэзию, на несколько недель увез из голодающей Москвы в Тулу, к своему брату, во владении которого находился небольшой заводик по производству пива. Там поэту, как и его другу Сергею Клычкову, удалось хоть немного поправить свое здоровье.
Мариенгоф в это время получал неплохое жалованье за бесцельное просиживание возле окна в канцелярии издательства ВЦИК и безбедно жил со своим «двоюродным братом-дядей» в люксе гостиницы «Метрополь», куда, как мы помним, прямо в номер «мирное существо» приносило чай.
«В начале зимы, – пишет А. Мариенгоф в «Романе с друзьями», – Боб переселил (курсив мой. – П. Р.) меня со всеми моими “Исходами” в отличную комнату на Петровке к каким-то интеллигентным буржуям, которые решились сами предусмотрительно уплотниться: “Дальше, мол, будет еще хуже, и проклятые большевики в нашу квартиру водворят совсем уж черт знает кого”…»
Надеемся, внимательный читатель заметил, что похожая на эту цитата уже была использована в одной из предыдущих глав. Но там речь шла не только об Анатолии, но и о его друге по Пензенской гимназии Молабухе. К этому несоответствию мы вернемся позже, а сейчас нам важно подчеркнуть место и примерное время подготовки Декларации имажинистов. Ведь именно со дня ее опубликования можно говорить о рождении нового литературного течения в России. Поэтому цитируем «роман» дальше:
«Распаковать фибровый чемодан и запихать под кровать остатки “Исхода” было недолго. И сразу я пригласил к себе на новоселье Есенина, Шершеневича и Рюрика Ивнева. Всем троим я написал одно и то же: “Приходите в субботу вечером. Надо окончательно договориться об имажинистском манифесте. Время не терпит. “Советская страна” обещает его напечатать в ближайшем номере».
Этой цитатой прежде всего подтвердим нашу догадку о том, что инициатива создать имажинизм исходила из самых верхов. Мариенгоф, стараясь оправдать доверие власть предержащих, как мы теперь говорим, «достал» будущих членов нового литературного течения, и они в принципе не противились. Но собраться им вместе, чтобы обсудить свою платформу, наметить перспективы, было негде.
Есенин не имел ни квартиры, ни рабочего места. В канцелярии издательства ВЦИК, где числился работающим Анатолий, собраться нельзя, так как кроме его стола, по свидетельству Мариенгофа, «в длинной комнате таких же столов стояло примерно семь-восемь». Рюрик Ивнев, будучи секретарем наркома просвещения Анатолия Луначарского, в рабочее время постоянно занят. Вадим Шершеневич вести друзей в отцовские хоромы, видимо, не захотел. Да и решать такой вопрос лучше было за чашкой чая в спокойной обстановке, без посторонних ушей.
Вот «дядя-брат» Боб и потеснил добровольно-принудительно не какого-то «недорезанного буржуина», а обыкновенного инженера, чтобы поселить у него потомка столбовых дворян Хлоповых (с претензией на остзейское баронство) Анатолия Мариенгофа вместе с другом из Пензы Григорием Колобовым, которого по причине его тайной службы «романист» конспиративно называет Молабухом.
Устроившись в коммунальной квартире, Мариенгоф сразу же зовет на новоселье своих будущих друзей – соратников по имажинизму. Как того требуют «сверху». Не зря же в его пригласительной записке есть фраза: «Время не терпит».
Власти торопились как можно скорее дать бой литераторам «старой школы». Но дать его не со стороны никому неизвестного «пензюка» А. Мариенгофа, а целой группы литераторов во главе с широкоизвестным молодым поэтом Сергеем Есениным.
Очень точную оценку происходящего дал впоследствии в своих воспоминаниях известный литератор-эмигрант Вячеслав Ходасевич. Он писал: «…вся имажинистская школа… затащила к себе Есенина, как затаскивают богатого парня в кабак, чтобы за его счет кутнуть…»
К сожалению, «кутнуть» имажинисты собирались за счет Есенина не один раз, а «кутили» несколько лет. И этот «кутеж» отдается в репутации Есенина до сего времени.
Но для того чтобы заявить о новом течении в литературе, нужна была какая-то программа, манифест или декларация. Есенин, закончивший незадолго до того работу над литературоведчески-философской статьей «Ключи Марии», мог предложить ее в качестве основы для такого документа. Тем более что в ней велась речь о метафоре, которая, по утверждению Есенина, всегда была одним из основных условий художественного произведения, начиная с «Песни Песней» царя Соломона, древнерусских летописей и кончая стихами лучших современных авторов.
Это отвечало и желаниям новых друзей Есенина, жаждавших утверждать своей поэзией главенство образа, называемого ими на французский манер – имажем. Здесь их желания совпадали. Но что касается идеологических постулатов о партийности литературы, Есенин был непреклонен. В его «Ключах Марии» это выражалось следующим образом:
«Вот потому-то нам так и противны занесенные руки марксистской опеки в идеологии сущности искусств. Она строит руками рабочих памятник Марксу, а крестьяне хотят поставить его корове…»
Вождей партии, и в первую очередь Льва Троцкого, такой вариант программы, безусловно, удовлетворить не мог. Это понимал и сам Есенин, и даже Мариенгоф. Не говоря о Шершеневиче, который абсолютно по-иному видел задачи нового литературного течения. Отторгнутый Маяковским от футуризма, он прежде всего стремился получить в имажинизме для себя надежную трибуну для острой полемики со своими бывшими единомышленниками, продемонстрировать личную значимость в новой группе. Что же касается теории, то даже понятия о роли поэзии у него были совсем иные, чем у Есенина. Каждое стихотворение ему виделось как каталог образов, в чем этого закаленного в дискуссиях литературного теоретика полностью поддерживал Мариенгоф.
По свидетельству последнего, Есенин поручил Вадиму Шершеневичу написать манифест, который впоследствии будет назван декларацией:
– Ты, Вадим, газетчик, стало быть, тебе и пишущая машинка в зубы. Сегодня ночью выстукай на ней наш манифест.
Мариенгоф, как всегда, солгал. При всем его желании как можно скорее выполнить указание властей, он вряд ли мог «вдохновить» Есенина на такое твердое решение – заставить Шершеневича за ночь написать манифест, не давая никому в доме спать стучанием пишущей машинки. Ведь все равно назавтра сдавать его в газету никто не собирался, потому что это было, по словам Мариенгофа, в начале зимы, а первый номер газеты «Советская страна» вышел только 27 января 1919 г. Декларация же была опубликована в ней лишь 10 февраля. Если же Шершеневичу и в самом деле пришлось в срочном порядке за ночь «отстукать» декларацию, чтобы успеть сдать ее в редакцию для опубликования, значит, с полной уверенностью можно говорить, что Есенин познакомился с Мариенгофом не в августе 1918 года, как настойчиво утверждал последний, а в январе 1919 года.
Судя по словам самого же Мариенгофа, который привез в Москву полный фибровый чемодан и мешок с «Исходом», этот альманах был издан за средства авторов. И хотя мнимый барон утверждает, что, «вынув из чемодана авторский экземпляр на веленевой бумаге, я протянул его Бобу», верить этому нельзя. Авторские экземпляры в таком количестве издательствами не выдаются. В мешки и чемоданы можно грузить только изданное за свои деньги.
Но главный аспект лжи заключается в другом. Мариенгоф во всех своих «бессмертных романах» старался (как некоторые его адвокаты и сейчас!) показать свою главенствующую роль в создании имажинизма. Начиная от идеи и кончая основой теории. Не говоря о воплощении «каталога образов» в жизнь. Без тени смущения он заявляет о том, что имажинистом стал еще в Пензе, а изданный в 1918 году вместе с Иваном Старцевым «Исход», стал первым в России имажинистским сборником.
В таком случае как можно неумелую стряпню Мариенгофа из этого альманашка, к которой он и сам потом относился с иронией, считать первой имажинистской, если Шершеневич имел к тому времени два официально изданных сборника стихов, а Есенин – три! Кроме того, ни в «Исходе», ни в книгах Вадима и Сергея слово «имажинизм» не употреблялось. Оно еще и не было придумано. Но Шершеневич двумя годами раньше в своей книге «Зеленая улица» называл себя «имажионистом». А слово «имажинист» появилось только в декларации, «отстукать» которую за ночь на машинке Есенин поручил не Мариенгофу, а Шершеневичу. При живом-то «основоположнике» из Пензы! Невероятно!
Скрыть этот факт Мариенгоф не может и поэтому объясняет ситуацию, выгораживая себя. Мол, Есенин принял такое решение лишь потому, что Вадим работал в газете и умеет печатать на машинке. Никто из других будущих имажинистов такой способностью не обладал.
Впрочем, никто даже из самих имажинистов главным теоретиком своей «школы» Мариенгофа не считал. Его «авторитет» держался только на более близкой дружбе с Есениным и на руководстве журналом «Гостиница для путешествующих в прекрасном», которое поручил ему Есенин накануне своего заграничного путешествия в 1922 году.
Убедиться в этом можно, прочитав программную статью «романиста» с позерским названием «Не передовица» и теоретические изыски под заголовком «Корова и оранжерея» в первом номере имажинистского журнала, который вышел в ноябре 1922 года. В них сплошная окололитературная болтовня, а слово «имажинизм» даже не упоминается. Абсолютно такую же характеристику можно дать и словоблудию Мариенгофа, опубликованному во втором номере журнала под названием «Почти декларация». Лишь одну только статью «Буян-остров» из многих его попыток можно в какой-то степени отнести к теории имажинизма.
Да, Есенин не жаловал Вадима Шершеневича в такой степени, как Мариенгофа.
Анатолий был младше Сергея, еще абсолютно никакими стихами не заявивший о себе в столице. При всем его барском воспитании и крепкими связями с представителями власти чувствовал себя пока немного провинциалом, и полностью находился под влиянием творчества Есенина. Об этом можно судить по его более поздним «романам», когда ему на фоне возрождающейся популярности Есенина волей-неволей пришлось хоть в какой-то мере отказываться от своего давнего наглого вранья.
Вадим Шершеневич, прежде всего, был на два года старше Сергея Есенина. Родился он в богатой интеллигентной семье. Его отец – известный ученый-правовед, депутат Государственной Думы. Мать – популярная в то время оперная актриса. Будущий поэт, теоретик имажинизма, получил блестящее образование (окончил два факультета), владел английским, французским, немецким, итальянским и другими языками. Он – приятный собеседник, великолепный оратор, полемист, мастер каламбуров.
Во всем этом Вадим превосходил не только имажинистов. Однако его поэтический дар был никудышным. Вышедшие ко времени зарождения имажинизма два его сборника стихов критик В. Львов-Рогачевский назвал «жалкими пародиями».
Самолюбие поэта не могло мириться с прохладным отношением публики к его творчеству. Он мечется в поисках литературной ниши, где мог бы стать первым. Примыкал к символистам, акмеистам, футуристам и, наконец, прибился к имажинистам. Но тягаться талантами с Валерием Брюсовым, Андреем Белым, Александром Блоком, Федором Сологубом, Игорем Северяниным, Владимиром Маяковским и Сергеем Есениным он не мог. Хотя и работать вне всяких группировок и течений тоже не хотел. Он стремился быть всегда на виду, участвовать в ломке старых литературных устоев, блистать своим красноречием перед публикой. Под многочисленными псевдонимами часто выступал в периодических изданиях с критическими статьями.
Превосходно владея европейскими языками, Вадим Шершеневич постоянно находился в курсе литературного движения в других странах. Был знаком с имажизмом Франции и Англии (от фр. слова «имаж» – образ). Но больше его привлекало итальянское название группы поэтов-образников – «имажионисты». Еще в своей книге «Зеленая улица», изданной в 1916 году, он писал: «Я по преимуществу имажионист. То есть образы прежде всего. А так как теория футуризма наиболее соответствует моим взглядам на образ, то я охотно надеваю, как сандвич, вывеску футуризма».
В лице Шершеневича Есенин видел наиболее подходящего теоретика нового литературного направления. Кроме того, Вадим со своим красноречием нужен был имажинистам для полемических баталий с другими поэтическими группами и, прежде всего, с футуристами, где во всю свою «площадную глотку» витийствовал Маяковский. Вадим в этом успешно соперничал с ним. Вот почему Есенин и поручил Шершеневичу, а не запоздавшему самозванцу Мариенгофу, написать декларацию имажинистов.
С другой стороны, Есенин, как мы уже отметили, не жаловал Шершеневича. Отмеченный Богом гениальностью, он видел огромную дистанцию в своем и Вадима дарованиях и, не находя в его лице достойной оценки своего творчества, не спешил с любезностями и сам. Более того, спустя некоторое время после их знакомства в очередном номере журнала «Свободный час» появилась рецензия «Опыты демократизации искусства» на коллективный сборник стихов «Красный звон». Ее автор Георгий Гальский среди произведений других поэтов жестко критиковал опубликованное там стихотворение Есенина «Товарищ», с пафосом написанное им сразу после февральской революции, обвинив Сергея в «граммофонстве» (так!), «небрезгливости» и приведении поэзии «к газетному знаменателю». Есенин узнал, что под псевдонимом Георгий Гальский спрятался его новый «собрат по главенству образа» Вадим Шершеневич.
Мариенгоф, как всегда, сочинил свою версию. Якобы «разносу» подвергся только Есенин, что Шершеневич спрятался под псевдонимом Георгий Гаер, что «урбанистические начала столкнулись с крестьянскими», что Есенин «до конца своих дней <…> рыча произносил: Георгий Гаер» (Как жил Есенин. С. 52).
Конца дней Есенина Мариенгофу наблюдать, как известно, не привелось. Два года они практически не встречались. То, что «рычание» у Мариенгофа надуманное, уже доказано. Его просто не было.
Кроме того, Шершеневич оказался, как и Мариенгоф, в некоторой степени русофобом. Если Анатолий упрекал Сергея за его якобы чрезмерную любовь к Руси, то Вадим в своей статье «Путеводитель по поэзии 1918 года», опубликованной под его же фамилией 3 марта 1919 года в воронежской газете «Огни», писал: «Несколько странным нам кажется славянский акцент Есенина, но мы думаем, что это <…> проходящее».
Как будто Есенин, рожденный в русской деревне и нигде к тому времени за рубежом не побывавший, должен был писать в стихах о великолепии Парижа, Рима или о просторах Африки. Нет. Любовь к России у Есенина не прошла. Даже, находясь позже в продолжительной поездке по Европе и Америке, он писал о своей родине, оставаясь русским национальным поэтом. Как Байрон – английским, а Беранже – французским.
Но главная причина разочарования в Шершеневиче у Есенина выявилась после того, как Вадим теоретически обосновал суть имажинизма. Взгляды на отдельные положения декларации у них оказались совершенно разными. И на позицию – тоже.
Лгал Мариенгоф, пытаясь обессмертить себя, и в том, что именно он поддержал Есенина в споре о сути имажинизма при подписании Декларации. Процитируем его: