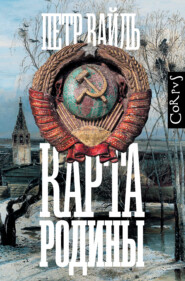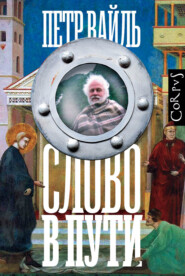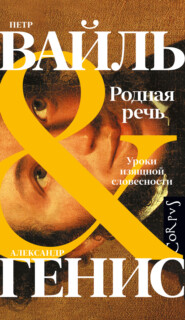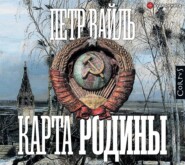По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Гений места
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Калифорнийское кино
Когда различие между американским и европейским кино определяют как различие между кино актерским и режиссерским, это верно, но недостаточно – так можно объяснять дождь тем, что с неба льется вода. Актер стал в Штатах главным потому, что здесь первыми поняли: кино – это огромные деньги. К кино следует отнестись серьезно, выкладывая козыри и срывая банки. А публика и в театре, будь он римский, елизаветинский или бродвейский, всегда шла на звезд. Закономерно и примечательно, что в самом начале на вершинах голливудских холмов оказались выдающиеся актеры с талантом выдающихся бизнесменов: такие, как Мэри Пикфорд и Дуглас Фербенкс. И величайший из всех – Чарли Чаплин.
Он появился в Лос-Анджелесе в декабре 1913 года, переночевал в «Большом северном отеле» и поехал трамваем на студию «Кистоун».
Следующие годы – стремительный подъем. Уже через четыре года Чаплин смог купить большой участок земли на бульваре Сансет. Бульвар Заходящего солнца – по-русски звучит куда элегичнее и красивее, чем короткое Сансет, – оттого и еще обманчивее. По этому бульвару не прогуляешься: Лос-Анджелес – самый автомобильный город в мире. Пешеход на бульварах с романтическими именами – либо деклассант, либо чудак, либо случилась авария. Разумеется, в Беверли-Хиллс есть места, где люди передвигаются патриархально: например, на Родео-драйв от магазина к магазину, но обычно параллельно их курсу движется автомобиль с шофером. Для прочих первая в мире по дороговизне Родео-драйв – не торговая, а музейная улица.
Так или иначе, участок земли на бульваре Заходящего солнца всегда успех – и в наши и в чаплинские времена. Очевидец тех лет пишет: «На бульваре Сансет роскошные автомобили развозили по домам звезд первой величины… Большинство мужчин и женщин были в гриме, а некоторые еще в костюмах». Теперь такого не увидишь, как ни уговаривают тебя самозваные гиды, обещая показать особняки богатых и знаменитых. Предлагается даже – недорого – карта проживания лос-анджелесских звезд, но это неправда: нынешние звезды в городе лишь мерцают, живут же в недоступных пригородных галактиках.
Чаплин осваивал Лос-Анджелес, оставляя в городе свои следы: ходил на бокс в Верноне, в варьете «Орфеум», в театр «Мороско» (русская сказка?). Селился то на берегу океана в Санта-Монике, то на севере, то в Бичвуд-драйв, пока не осел в Беверли-Хиллс, где в 1922 году построил дом в сорок комнат с кинозалом и органом, с колонным портиком и круглой башней – эклектичный и безвкусный.
Список лос-анджелесских адресов Чаплина внушителен. Однако попытка пройти по его адресам почти безуспешна: на месте лишь старая студия на авеню Ла Бреа, где сейчас снимают рекламу и мультики вроде «Маппет-шоу». Есть кинотеатр на Фейрфакс авеню, в котором идут только чаплинские фильмы. В тротуар на Голливудском бульваре вделана звезда с именем Чаплина – среди двух тысяч прочих звезд. Вот и все. Да и в самом географическом Голливуде из больших студий осталась лишь компания «Парамаунт», остальные перебрались кто куда, большинство за горы, в долину Сан-Фернандо.
Этот диковинный город меняется с кинобыстротой – больше, чем любой другой на земле. Еще в середине наших 80-х Лос-Анджелес дразнили: тридцать пригородов в поисках центра. Но шутка устарела уже к середине 90-х: нынешний небоскребный центр эффектнее большинства даунтаунов Америки. Другое дело, что это все равно не город, а что-то вроде страны с населением Голландии; город, где народу больше, чем в любом штате США, кроме самой Калифорнии, Нью-Йорка и Техаса. Понятно, почему нормальный тамошний обитатель не скажет, что живет в Лос-Анджелесе, а назовет свой район-городок: Санта-Монику, Шерман-Оукс, Лонг-Бич, Голливуд.
Мелькание кадров мешает цельному впечатлению от этого пригорода размером с государство – не исключено, что такое и невозможно. Возможно, поэтому Лос-Анджелес то место на земле, от которого у меня больше слуховых ощущений, чем зрительных. Каково же тут было до радио, грамзаписей и звукового кино?
В 1913-м Голливуд считался дальним предместьем, и все должно было выглядеть глубоко провинциальным для лондонца Чаплина, успевшего побывать в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Из двух больших калифорнийских городов он решительно предпочитал северный: «Жаркий и душный Лос-Анджелес показался мне тогда безобразным, жители выглядели бледными и анемичными. Климат здесь гораздо теплее, но в нем не было свежести Сан-Франциско». И главное: «В Сан-Франциско человек начинает чувствовать целебную силу оптимизма, соединенного с предприимчивостью». Как скоро поменялись характеристики! За два года до этих чаплинских слов произошло важнейшеее для судьбы Калифорнии и Америки событие: в Лос-Анджелесе основали первую киностудию, и южный сосед стремительно затмил северного. 2 января 1914 года был зарегистрирован первый контракт Чарли Чаплина.
«Кистоун» положил ему сто пятьдесят долларов в неделю, что вроде бы немного: дрессированной слонихе Эдне Мейм платили сто двадцать. Но сто пятьдесят эквивалентны примерно трем тысячам в конце века – зарплата министра. Через год Чаплин получал уже тысячу двести пятьдесят. Через два, по контракту с «Мьючуэл», – тринадцать тысяч в неделю, то есть нынешних тринадцать миллионов в год. Заработок Джека Николсона или Роберта де Ниро, а ведь теперь деньги другие, да и Чаплин лишь начинал. При этом он вовсе не был исключением – ничуть не меньше зарабатывали Бастер Китон или Гарольд Ллойд. Немудрено, что фильм тогда обходился в сто тысяч долларов – два миллиона сейчас, – а то были двухчастевки, двадцатиминутки.
В арифметику стоит погрузиться, чтобы осознать: Голливуд не столько рос с годами как бизнес, сколько всеми силами старался удержаться на уровне, заданном с самого начала. То же самое – с народной любовью.
Мы вряд ли можем вообразить масштабы славы Чарли Чаплина в 1916–1917 годах – прежде всего потому, что совсем по-иному относимся к кино. Главное: для нас оно не чудо, оно перестало быть чудом с появлением телевидения, с перемещением из сияющих чертогов «палладиумов», «эксцельсиоров» и «сплендид паласов» в гостиные и спальни.
Был еще и у ТВ золотой если не век, то десятилетие, когда на окнах раскручивали рулоны черной бумаги и рассаживали соседей. Мне было шесть лет, когда я получил церемонное приглашение к богатому Вовке Карманову на КВН с водяной линзой: ничего не осталось в памяти от передачи, только черная бумага и серебряный свет. Но могущественный волшебник, поселившийся в квартире, превращается в бестолкового и назойливого старика Хоттабыча. Трон в частном жилище сохраняет то же название, что и во дворце, но означает совсем иное.
В начале века кино стало зримой демонстрацией человеческого гения, на пике надежд, которые возлагались не просто на человека, вооруженного передовым мышлением, а на «социальное животное», на сознательную толпу. Было это до российских и германских толп, до разрушения принципа патриархальности и резкого омоложения общества, до феномена массовой культуры и широчайших свобод. Дитя технического прогресса, кино с самого начала льстило людям, ощущавшим себя способными на все. Как рассказывают, Герберт Уэллс, попавший в начале века в кинотеатр, никак не мог понять – о чем его спрашивают после, о каком качестве и эстетическом переживании: конечно, он потрясен – ведь на экране двигаются! Вот такой коллективный разум, создавший подобное чудо, и способен победить марсиан – других врагов в обозримом будущем не предвиделось.
Кино в мирном, досужем варианте убедительно воспроизводило и эксплуатировало «чувство локтя» и «окопное братство». Коллектив упивался новой соборностью в мистической темноте кинозала, где возникало особое, высокого качества, духовно-эмоциональное единство. (Такое знакомо любому из нас: «Назад, в «Спартак», в чьей плюшевой утробе уютнее, чем вечером в Европе» – Бродский.) Неудивительно, что отправление этого культа требовало подходящего оформления, о чем можно судить по реплике оказавшегося в Венеции простого американца у Хемингуэя: «А площадь Святого Марка – это там, где много голубей и где стоит такой громадный собор, вроде шикарного кинотеатра?» Неудивительно, каким почитанием окружались жрецы.
Можно ли сегодня представить актера, о котором напишут, что он не менее славен, чем Шекспир? Такое заявил о Чаплине в начале 20-х серьезный искусствовед Эли Фор. Другой, Луи Деллюк, писал в те годы: «Нет в истории фигуры, равной ему по славе, – он затмевает славу Жанны д’Арк, Людовика XIV и Клемансо. Я не вижу, кто еще мог бы соперничать с ним в известности, кроме Христа и Наполеона».
Ориентиры точны: Наполеон как покоритель мира и Христос как искупитель, расплачивающийся страданиями у всех на виду за общие грехи. Сходна трактовка Ивана Голля в «Чаплиниаде». Авангардисты (Маяковский: «Мятый человечишко из Лос-Анжелоса через океаны раскатывает ролик»; замысел Лисицкого «Пробег Чарли Чаплина и дитютки вокруг суши, воды и воздуха») вообще любили Чаплина. Но именно от Голля, как пишет М. Ямпольский в статье о мультфильме Леже «Чарли-кубист», «идет весьма богатая европейская традиция интерпретации Чарли в сентиментально-христианском ключе».
Все кино в целом воспринималось как ритуал новой разумной религии – и любопытно, что сейчас в Штатах бывшие кинохрамы, заброшеннные прокатом за нерентабельностью, часто используются именно как молельные дома разных протестантских конгрегаций. В тяжелых бронзовых рамах для афиш – расписание богослужений. Современные «мультиплексы» с дюжинами кинозалов функциональны и удобны, но неказисты, не говоря уж о том, что иногда помещаются просто под землей. Прежде снизу вверх смотрели не только на экран, но и на кинотеатр. Те соборы сейчас словно стоят на приколе, как легендарная «Куин Мэри» в Лонг-Бич, поражая размерами, роскошью витражей и зеркал, богатством орнаментов в стиле арт-деко, блеском меди и позолоты, – только над входом не красавец в цилиндре, а надпись «Господи спаси!».
Чаплин знал размеры своей славы: в 21-м, приехав в Лондон, он за три дня получил семьдесят три тысячи писем. В том же году после показа «Малыша» в Нью-Йорке с него сорвали костюм, разодрав на клочки-сувениры. Характер славы тоже был ясен Чаплину: «Меня давно влечет история другого персонажа – Христа. Мне хочется сыграть главную роль самому. Конечно, я не намереваюсь трактовать Христа как традиционную бесплотную фигуру богочеловека. Он – яркий тип, обладающий всеми человеческими качествами». За атеистическими клише просматривается ревность соперника. Архетипом, во всяком случае, Чаплин себя ощущал: среди его замыслов, помимо Христа, – Гамлет, Швейк, Наполеон. Вкус или обстоятельства побудили его осуществить лишь травестию величия – Гитлера в «Великом диктаторе».
Что до героя-одиночки, то им, не возносясь на исторические высоты, Чаплин был всегда. И тут он лишь продолжил традицию, существовавшую и прежде. Он вообще не был революционером, всей своей жизнью утверждая ценность ремесла, убеждая, что гений – не только первооткрыватель, гений – и тот, кто все делает лучше всех.
Чаплин лучше всех падал и давал оплеухи. Уже в феврале 1914-го он нашел свой визуальный образ – в фильме «Детские автогонки в Венисе». Сейчас Венис – самый оживленный пляж не только в Лос-Анджелесе, но и во всей Америке, и непременно по настилу вдоль океана семенит очередной любитель в котелке с тросточкой. Костюм Чаплин не менял три десятилетия, и, по сути дела, не менялся образ.
Тут следует сказать важное: кино – это Калифорния, американский запад.
Если б волею судеб кинематограф обосновался в Новой Англии, он оказался бы совершенно иным. Но, видимо, такое и не могло произойти – пуритане не уважали актерства, и это на востоке придумали законы, в силу которых американское телевидение и пресса по сей день самые целомудренные во всем западном мире, про Россию и говорить нечего.
Так или иначе, дух Калифорнии, дух запада определил господствующий – нет, не жанр, а способ мышления кино, его мировоззрение, потому что вестерн – это позиция. В центре вестерна – личность, берущая игру на себя: не оттого, что другого выхода нет, а оттого, что искать его не приходит в голову. Такой человек всегда экзистенциально одинок. Герой вестерна асоциален, даже если преследует общественно полезные цели.
То-то произвела ошеломляющее впечатление на советских людей «Великолепная семерка», в которой семь одиночек освобождали мексиканскую деревню от бандитов. Это был первый настоящий вестерн, показанный нашему поколению (сразу после войны в числе трофейных фильмов был и выдающийся «Дилижанс», и другие представители жанра). Это был второй в моей жизни фильм «Детям до 16 лет воспрещается…», на который я прошел самостоятельно в свои тринадцать (первый – «Рокко и его братья» Висконти, неплохое начало). В памяти все запечатлелось до мельчайших деталей, и сейчас можно оценить, как нам повезло с «Семеркой»: советский прокат выбрал образец из самых лучших. Какое созвездие: Юл Бриннер, Стив Мак-Куин, Чарлз Бронсон, Джеймс Кобурн, Эли Уоллак! Какая походка! Какие синие рубахи! Какая сверкающая лысина под черной шляпой Криса! Какие слова: «Ты никогда не устаешь, оттого что слышишь свой голос?»
На юрмалской станции Меллужи мы истыкали ножами все сосны в дюнах и надолго забросили безнадежно коллективистский футбол. Валерку Пелича, худого длиннолицего полухорвата, прозвали Бриттом: он переламывался при ходьбе, как Кобурн, и так же кривил рот. Имя забыли: обе жены и обе дочки звали его Бриттом. Прозвище оказалось судьбой: Бритт обязан был соответствовать образу и соответствовал, насколько возможно в том месте в то время. Он не дожил до тридцати, его зарезали где-то под Красноярском, и тело нашли через три месяца, когда сошел снег, жены ездили на опознание. Бритт доиграл роль, не обладая мастерством своего киношного тезки.
Вестерн – мировоззрение. Что до экрана, то поэтика вестерна универсальна для американского кино любого жанра, потому что органична для человека, пришедшего на запад за быстрым и большим успехом, – так, как это произошло с самим Чарли Чаплином.
Он-то и есть самый влиятельный представитель Дальнего Запада – стремительный, безжалостный, неунывающий. Подходя к его герою с презумпцией симпатии, не сразу замечаешь, что он лупит вовсе не только хамов и богачей. Нет видимых причин, по которым он раздает пинки чистильщику сапог и уборщику в «Банке», терроризирует целую киностудию в «Его новой работе», колет вилами приютившего его фермера в «Бродяге», подло кладет подкову в боксерскую перчатку в «Чемпионе», бьет по больной ноге потенциального (!) соперника в «Лечении».
Когда же Чарли борется за человеческое достоинство, хруст костей слышен даже в немых фильмах. И чувство достоинства так обострено, что он непременно бьет первым.
Он агрессивен и свиреп даже в своем «чистом искусстве» – может быть, лучшем, что есть у раннего Чаплина, – фильмах-балетах, как это сразу назвали критики, сравнивая Чарли с Нижинским. Но и в образцовой балетной сюите «У моря» – избиение случайного прохожего, которое сейчас назвали бы немотивированным. Мотив один – удаль, лихость, самоутверждение. И может, источник жестокости на экране, с которой так борются в конце столетия, – всеобщий любимец, маленький человечек в котелке, злой, как мышиный король.
Когда читаешь о его возбужденном интересе к советской девушке-снайперу Людмиле Павличенко, убившей 309 немцев, не оставляет мысль, что вряд ли столь сильную тягу можно объяснить антифашизмом: «Он – на виду у всех – бережно усадил меня на диван и принялся целовать мне пальцы. «Просто невероятно, – приговаривал он, – что эта ручка убивала нацистов, косила их сотнями, била без промаха, в упор».
В «Тихой улице» Чарли легко превращается из бродяги в полицейского, наводя ужас на обывателей и переворачивая все принятые представления о милости к падшим. Вообще традиционная (русская?) трактовка маленького человека у Чаплина вызывает большие сомнения: «Я не нахожу у Эдгара По, моего любимого писателя, ни намека на любовь к обездоленным. А Шекспир с его вечным невыносимым высмеиванием простого человека!»
«Жестокость – неотъемлемая часть комедии», – формулировал сам Чаплин, настаивая на том, что «цель кино – вызывать смех». Оттого он не любил психологизма, избегая крупных планов, оттого восстал так против появления звука: «На экране важнее всего пластическая красота… Мой герой – не реальный человек, а юмористическая идея, комическая абстракция». В таком понимании своего дела нет места «Шинели» и «Бедным людям», и именно за русскими Чаплин знал способность находить глубокую гуманистическую идею под любым мордобоем: «Их менее всего притягивает ко мне забавное». Сентиментальность же лишь оттеняет смех, делая его более искренним, – вот роль жалости у Чаплина. Он говорил о своих комедиях: «Они элементарны, как сама жизнь, и порождены житейской необходимостью».
Элементарная история, рассказанная внятно от начала до конца, – фирменный знак Голливуда, его величайшее достижение в искусстве. Особенно в искусстве xx века, с самого начала подмятом мощью Джойса, Малевича, Шенберга.
Голливуд находился в Лос-Анджелесе, Лос-Анджелес в Калифорнии, Калифорния на западе, а на запад ехали за деньгами. Обруганный и опозоренный интеллектуалами, Голливуд пронес повествовательность и простоту через все искушения модернизма и авангарда, твердо зная: кино – это бизнес, а деньги платят за безыскусные истории, заставляющие плакать и смеяться.
В Европе кино было на переднем крае. Маяковский: «Кино – новатор литератур. Кино – разрушитель эстетики». Оттого европейских новаторов оскорбляла простота Голливуда. Маяковский определял: «Кино болен. Капитализм засыпал ему глаза золотом. Ловкие предприниматели водят его за ручку по улицам. Собирают деньги, шевеля сердце плаксивыми сюжетцами». Все верно: олитературивание кино есть его обуржуазивание. Но то, что русский футурист считал диагнозом, с точки зрения американского здравого смысла оборачивалось программой разумных действий.
Чаплин: «Я не боюсь штампов, если они правдивы… Мы все живем, и умираем, и едим три раза в день, и влюбляемся, и разочаровываемся, и все такое прочее. Люди, как говорится, делали все это и раньше. Ну и что же из того? Если избегать штампов, то станешь скучным».
Еще в начале 20-х годов чаплинский соперник Бастер Китон изложил ироническую периодизацию кино: 1. Период взрывов; 2. Период кремовых тортов; 3. Период полисменов; 4. Период автомобилей; 5. Период купальных костюмов. По сей день все на месте в этой схеме. 1-й и 4-й пункты сложились в приключенческий жанр (action), 2-й известен как эксцентрическая комедия, 3-й – как полицейский фильм (crime drama), 5-й – стал эротикой и порно. Штампы, как и утверждал Чаплин, оказались жизнеспособны. И снова: Голливуд с самого начала сделался таким, каким оставался на протяжении своей истории. Главные жанры породило то, что неизбывно влекло на американский запад: низменные и оттого живейшие потребности – деньги и переживания.
Даже третьеразрядное американское кино обеспечивает нужный катарсис. «Правильный фильм» (введем обозначение – ПФ) задуман и исполнен так, что не может обмануть зрительские ожидания: в первые секунды ясно, кто герой и кто злодей, кто победит и кто проиграет. Тут все всегда именно правильно: зло наказано, добро торжествует.
Здесь господствуют action и crime drama. Персонажи предстают готовыми и не развиваются по ходу, так как перемены чреваты неожиданностями («Какую штуку удрала со мной Татьяна – замуж вышла!» Пушкина не взяли бы в сценаристы ПФ). Неуместен психологизм – психика слишком непредсказуема, чтобы учесть ее в качестве сюжетного фактора. Нет, впрочем, и сюжета. То есть он всегда один, и потому его можно вынести за скобки: герою наносят обиду и он мстит до финальных титров.
Успех ПФ, его неодолимая убойная сила в том, что это искусство апеллирует – минуя сложные многовековые ходы мирового искусства, поверх культурных и цивилизационных барьеров – не к интеллекту, а непосредственно к душе, жаждущей не рефлексии, но переживания.
Обычно завязка – это обида и беда, чтобы праведность мотивов и методов героя стояла вне сомнений. Так, по «Преступлению и наказанию» ПФ не снимешь, а по «Гамлету» можно, хотя оба героя – вызывающие симпатию убийцы. Главный персонаж ПФ может убить, но не по душевной склонности, а потому лишь, что смерть – самое наглядное свидетельство превосходства. Перед разницей между живым и неживым другие различия как-то стушевываются.
Симпатичен и друг героя, снабжающий его транспортом, оружием и навыками рукопашного боя. Предкульминация ПФ – поднесение даров: чемодан с оружием под кроватью или вертолет-ракетоносец, за которым надо ехать в Боливию. Друг обладает яркой индивидуальностью – чувство юмора, чудаковатость, необычное хобби, – чтобы оплакивание было искреннее: он погибнет во славу катарсиса. В эпоху мультикультурализма может быть негром или китайцем.
Вероятность гибели других помощников (однополчане по Вьетнаму, сослуживцы-полицейские, завязавшие мафиози) прямо пропорциональна их привлекательности. Заведомо обречены те, у кого рожает жена, завтра свадьба, вечером свидание. Упоминание об этом – смертный приговор.
Не доживают до финала женщины героя. Вообще, в ПФ дружба, как в романах Хемингуэя и Николая Островского, теснит любовь на периферию эмоций и сюжета. Женщина – разновидность помощника, слабо компенсирующая неумелость преданностью. Главное назначение женщины – вызвать дополнительный гнев в герое, склонившемся над ее трупом.
Животные – из-за иррациональности поведения – нечасты. Пригретая собака может вовремя залаять, но обычно эти функции переданы механизмам, уход за которыми (смазка, заправка, чистка) носит явно зооморфный характер.
Герой побеждает не сразу – как в «романах испытания». Сначала его бьют, топят, жгут паяльной лампой. Потом он превосходит всех в скорости: ПФ не бывает без автомобильной погони. Затем – в силе, что сводится к единоборству. Как бы сложна ни была применяемая в картине техника, финал решается рукопашной, по правилам Дикого Запада, как у Чарли с верзилой. Бой с архиврагом обычно долог именно потому, что ведется голыми руками, иногда с помощью нестандартных предметов: штопора, шампуня, прокатного стана, карандаша, экскаватора.
С врагами помельче расправа, напротив, быстра. Тем и отличается положительный персонаж от отрицательного, что сразу стреляет в голову. Злодей же, натура более художественная, привязывает героя к пилораме, которую должна включить через систему шестерен и веревок догорающая свеча, и беззаботно уходит. Тем временем приходит друг или просто свеча гаснет. Злодея губит избыток воображения вкупе с верой в науку и технику. Герой же не верит ни во что, кроме дружбы, и возникает в дверном проеме, изорванный и окровавленный, в тот момент, когда злодей с хохотом закуривает дорогую сигару.
Даже неискушенный зритель сразу различает своих и чужих по смеху. Прежде всего, герой ПФ не смеется вообще: у него обида и беда. Он располагает диапазоном улыбок – от саркастически-горькой («Думаешь, я еще буду счастлив?») до мальчишески-добродушной («Ты славная псина!»). Зато безумно хохочет злодей. Он относит к себе формулу Гоббса: «Чувство смешного вытекает из внезапно возникающего чувства превосходства», не ведая, что превосходство мнимое, что уже погасла свеча и задушены часовые.