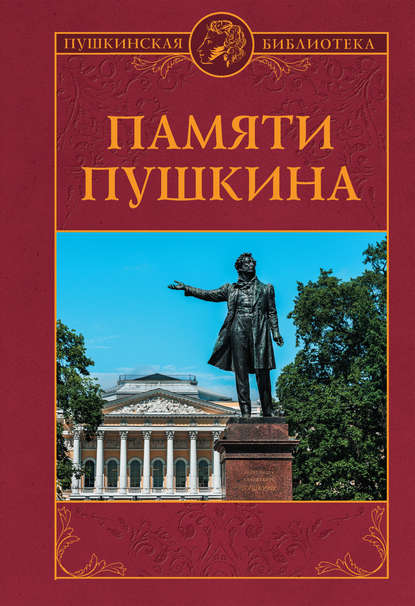По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Памяти Пушкина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Баснописец Дмитриев, соединявший в своем лице два поколения русских писателей старого и нового направления, написал несколько произведений игривых, которые примыкают к шутливым поэмам XVIII века. Это т. н. сказки: «Волшебные замки», «Причудница», «Модная жена», «Карикатура» и др. В «Причуднице» мы находим следующие стихи, повторенные молодым Пушкиным:
Я жизнь мою во скуку трачу:
Настанет день, тоскую, плачу;
Покроет ночь, опять грущу,
И все чего-то я ищу.
В элегии Пушкина 1816 года «Разлука», переделанной в 1826 году, под названием «Уныние», находим повторение стихов Дмитриева:
Но я уныл и втайне я грущу.
Блеснет ли день за синею горою,
Взойдет ли ночь с осеннею луною —
Я все тебя, прелестный друг, ищу (I, 141).
Вставочный рассказ Дмитриева в «Причуднице» о драгунском ротмистре Брамербасе, «бывшем столько лет в Малороссийском крае игралищем злых ведьм» (на нем, обращенном в коня, ведьма разгуливала до полуночи), развивается у Пушкина в веселом несравненном рассказе «Гусар», имеющем что-то общее с «Вием» Гоголя. Нельзя не удивляться тому, как умел усовершенствовать свой стих и язык Дмитриев, пройдя длинный путь развития от тяжелых од до легких сказок, басен, песен. «Глас патриота на взятие Варшавы» Дмитриева ниже од Державина, но Жуковский в 1831 году вспоминает Дмитриева и приводит отрывки из «Гласа патриота», в то время, когда и Пушкин вдохновляется одами «Клеветникам России» и «Бородинской годовщиной». Мы уже приводили отзыв Пушкина о Дмитриеве как баснописце. Но молодой поэт ценил, как и его современники, старика Дмитриева за образцовый слог (I, 174). Особенно нравилась Пушкину сказка Дмитриева «Модная жена» – «сей прелестный образец легкого и шутливого рассказа» (V, 122), прелестная баллада Дмитриева (Карикатура, IV, 72), и вообще ему нравились «прелестный сказки Дмитриева» (V, 126) Наблюдения Дмитриева над русской жизнью, хотя и не полные, отрывочные, выразившиеся в «Чужом толке» и в сатирических сказках, не могли пройти без влияния на Пушкина. Так повлияли, конечно, на нашего поэта и остроумные эпиграммы Дмитриева на стихотворцев – эти образцы литературной критики XVIII века и начала XIX. Нельзя не упомянуть и о «Карманном песеннике, или Собрании лучших светских и простонародных песен», изданном Дмитриевым в Москве в 1796 году. Подобно Чулкову и Новикову Дмитриев соединил хорошие простонародные песни с искусственными XVIII века, поместив и свои песни, и Карамзина, и Державина, и других. Подражание этим народным песням и сказкам, изданным в сильно искаженном виде Чулковым и Новиковым под названием «Русские сказки» и пр. в 1780–1783 годах, охватывает Львова («Добрыня, богатырская песня», изд. 1804 года), Карамзина (Илья Муромец, 1794 год), Радищева («Альоша Попович, богатырское песнопение», 1801 год) и др.
И.И. Дмитриев
«Русские сказки, содержащие древнейшие повествования о славных богатырях, сказки народные, и прочие оставшиеся через пересказанные в памяти приключения», изданные в 10 частях Новиковым в 1783 году, имели для писателей, занимавшихся сюжетами из русской полуисторической-полусказочной старины, то же значение, что «Древние Российские стихотворения» (с 1804 года и особенно с 1809-го), или сборник богатырских былин и старых песен Кирши Данилова, так как «Илья Муромец» Карамзина, «Альоша Попович» Радищева, баллады Жуковского «Громобой» и Каменева «Громвал» связаны так или иначе с лицами и подробностями этих сказок. Поэма Пушкина «Руслан и Людмила», отражающая влияние сборника Кирши Данилова многими подробностями и непосредственно, и через поэмы Радищева, Карамзина и др., связана также с «Русскими сказками» 1780–1783 годов. Сказки, изданные Новиковым, были повторены третьим изданием в 1820 году, с некоторыми сокращениями, переделкой и дополнениями. Пушкин, находясь на юге, в 1821 году просил выслать ему несколько частей «Русских сказок». По всей вероятности, ему и были присланы или «Сказки» изд. 1783 года, или 1820 года. Отличия последних от первого издания заключаются в трех живых действительно народных анекдотах: о воре Тимошке, о цыгане и о воре Фомке. Это уже первые опыты изложения народных сказок в новом, почти неукрашенном виде, исключая слог, который сглажен в литературном стиле. Не то представляют т. н. народные сказки в первом издании 1780–1783 годов. Это в полном смысле волшебные истории вроде «1001 ночи», в которых имена русских богатырей, исторические названия Древней Руси, фразы из былин и народных сказок – преимущественно о типичной Бабе-яге, ее жертвах и Кощее – утопают в смеси заимствованных и выдуманных подробностей и лиц. Тут находим и злых волшебниц, волшебников, появляющихся в облаках с громом, в тучах, как пушкинский Черномор, и именно с целью похищения красавиц, и добродетельных волшебниц – Добрад, Велеслав, – помогающих героям Булатам, Громобоям, Алешам, Чурилам или Добрыням, связанным с кн. Владимиром и Киевом. Но последшй окружен очарованными домами, замками. Вообще подробности быта более подходят к французским нравам XVII–XVIII веков, взятым из сказок Гамильтона, Флориана, Лафонтена, чем к русским, столь типичным уже в изд. 1820 года, в трех названных сказках. Всем известен характер сказок о царевиче Хлоре или Февее, изложенных с нравоучительной целью Екатериной II. Напрасно мы будем искать следов таких подробностей этих сказок, как сын Рассудок, Роза без шипов, добродетель, в каких-либо народных сказках. К этим аллегорическим, морально-сатирическим фигурам т. н. народных сказок и особенно любимых богатырских сказок присоединяются в изданиях-переделках XVIII века и в начале XIX века еще превращения ложноклассических подробностей стиля, воззрений в т. н. русские – старинные: Феб уравнялся с Световидом, Лада с Венерой, Лель с Купидоном, Полель с Гименом и т. п. Все эти новые подробности составители народных сказок XVIII века объясняли из рукописных сборников былин и сказок, из хронографов и временников, из иностранных пособий по истории России: скандинавских саг, византийских летописцев. Благо что академики XVIII века издали и византийских историков, и летописи, и отрывки из хронографов. Русские повествователи не могли еще свыкнуться с различием между былинным Тугорканом и Полифемом, между Рогнедой и Баяной или Миланой. Вот почему и наши классические писатели, бравшиеся за поэмы из русской истории, следовали или Хераскову, или соединяли материал, как умели (так поступил и Пушкин в «Руслане и Людмиле»), или совсем бросали планы русских поэм из времени Владимира св. или князей-язычников, задуманные Жуковским и даже Пушкиным.
Мы позволим себе отметить и еще некоторый черты «Русских сказок» 1783 года и их влияние на русских авторов сказок, поэм, баллад. Львов, автор «Добрыни богатырской песни», напечатанной только в 1804 году, несомненно пользовался «Русскими сказками», разделяя с ними объяснение Феба или Аполлона – Световидом. Эта песня Львова такое же недоконченное шутливое подражание народным мотивам, как и ранее написанная сказка Карамзина, или «Богатырская песнь Илья Муромец» 1794 года. Вспоминая действительно народные сказки «своих покойных мамушек» и ставя их выше греческой и римской мифологии, как доставляющих также удовольствие «в чародействе красных вымыслов», Карамзин рассказывает пробуждение красавицы, очарованной злым хитрым волшебником Черномором (отсюда пушкинский волшебник в «Руслане и Людмиле») посредством талисмана доброй волшебницы Велеславы. Этот рассказ нежной встречи Ильи Муромца с витязем-женщиной изложен почти что в стиле «Русских сказок» 1783 года. Кроме Черномора мимоходом Карамзин упоминает Людмилу из своей более ранней баллады «Раиса» 1791 года, повторенную Жуковским и Пушкиным в «Руслане и Людмиле». «Герой древности молодой богатырь Илья Муромец» не удался Карамзину, так как у него не было под рукой еще даже и былин Кирши Данилова 1804 и 1819 годов. В последнем издании, в предисловии было указано важное значение для суждения о древности богатырских песен и др. Баллада Каменева «Громвал» 1804 года вполне покрывается подробностями «Русских сказок» 1783 года. Здесь находим и богатыря Громвала, и коварного злобного волшебника Зломара, похитившего Рогнеду, и добрую волшебницу, являющуюся в виде лебеди, и чудесное возвращение похищенной. Мы уже имели случай ранее[2 - Университетские известия 1895 г., Киев, № 6 – июнь.] указать повторение подробностей «Русских сказок» 1783 года в сочинениях Николая Радищева под названием «Альоша Попович богатырское стихотворение» 1801 года и «Чурила Пленкович», часть вторая 1801 года, и отношение поэм Радищева к «Руслану и Людмиле». Радищев воспользовался и Ильей Муромцем Карамзина, и «Русскими сказками»; но, по всей вероятности, Пушкин читал самостоятельно и последние, так как в «Сказках» 1783 года (часть IX) находим поле, покрытое мертвыми человеческими костями, и среди них богатырскую голову, под которой лежал великий меч (стр. 206), сильный чох (чихание. – Примеч. ред.), потрясший облака, борьбу с чародеем, поднявшимся на воздух, появление похитителя с громом в ниспадшем облаке, чудное заключение красавицы, шапку-невидимку, финнов и пр.
«Русские сказки» дали начало и русским повестям. Так, первый русский романист Нарежный издал в 1809 году повести, под названием «Славенские вечера», заимствовав содержание и героев из «Сказок» 1783 года. Здесь в отдельных рассказах появляются Громобой и Миловзора, Рогдай, Велесил – витязи Владимира-князя, Любослав и к ним присоединены в том же стиле повести о Кие и Дулебе, Рогволоде. Исторические повести Нарежного, как его поэмы 1798 года («Брега Альты», «Освобожденная Москва», «Песнь Владимиру киевских баянов» и др.), трагедия 1804 года («Димитрий Самозванец») примыкают вполне к ложноклассическим образцам Хераскова, Чулкова и Новикова. Достаточно указать, что в повести «Любочесть» герои из времен Владимира и печенегов ведут романическую переписку, изъясняются языком исторических трагедий Сумарокова. Карамзин, как увидим далее, сам разделял отчасти эти недостатки исторических повестей, что проявилось в «Наталье, боярской дочери» 1792 года и в меньшей степени в «Марфе Посаднице» 1803 года. Первая повесть Карамзина имеет предисловие, в котором автор прямо связывает происхождение своей «были или истории» со сказками, слышанными от бабушек, одна из которых (прапрабабушка в XVI–XVII веках) «почти всякий вечер сказывала сказки царице NN.». Многое в этой первой повести Карамзина в народно-историческом стиле напоминает русские сказки 1783 года или «Приключения» Новикова 1785 года с его Фролом Скобеевым и вообще те рукописные сказки-повести, которые обращались с XVII века в связи с переводными. Подражатели Карамзина в этом направлении и даже Жуковский в «Марьиной роще» 1809 года стоят ниже Карамзина. Неизвестный автор «Ольги» 1803 года рассказывает о князе Игоре, царствовавшем в Новгороде, о Прекрасе, внуке Гостомысла.
А.Н. Радищев
Карамзину же принадлежит бесплодное влияние на сентиментальные романы, под названиями «Несчастная Лиза» кн. Долгорукова, 1811 года, «Несчастный Л. российское сочинение» 1803 года, «Марьина роща» с героями, взятыми из сказок 1783 года, Жуковского, и др. Только маленький рассказ баснописца А. Измайлова «Бедная Маша. Российская, отчасти справедливая повесть» 1803 года, несмотря на сплетение трагических условий, приближается к реализму в силу присущего этому баснописцу таланта в изображении простонародных и городских чиновничьих типов. Влияние Фонвизина сказывается в названии героев Простаковыми, Миловым; но новая Софья – конца XVIII – начала XIX века – является не торжествующей со своей добродетелью, а «бедной», страдающей. Простая русская свадьба героини – со свахой, с народными песнями – разрешается обманом со стороны жениха, и городская героиня, несмотря на свою кротость и примирение во имя любви, гибнет.
Опыты реального романа, представленного Нарежным и, без всякого сомнения, впервые возведенного на высоту художественного создания Пушкиным, заключались не в исторических и не в сентиментальных повестях, а в т. н. нравоучительных романах и в романах с приключениями. Здесь, быть может, первое зерно, из которого развился «Евгений Онегин», «Граф Нулин», «Повести Белкина» и др. В 1799–1800 годах баснописец Измайлов издал роман «Евгений, или Пагубные последствия дурного воспитания» (2 части). Это имя, только в женской форме, тотчас же повторилось в повести Остолопова «Евгения, или Нынешнее воспитание» 1803 года, «Евгения, или Письма к другу» 1818 года. Опять черта, не лишенная значения для истории происхождения «Евгения Онегина». У «Евгения» Измайлова, погибшего от недостатков воспитания, так же, как у Евгения Онегина, были распущенные французские гувернеры; оба героя проводят рассеянную жизнь в Петербурге, «убивают время». Небольшие подробности общего характера исчерпываются именами и положениями, к которым следует отнести и возвращение героя Измайлова в больной матери, Татьяне, по смерти которой Евгений получает наследство, проматывает его, лишается невесты и умирает молодым. Зимняя поездка Евгения в столицу и ее описание до некоторой степени соответствуют описаниям Пушкина. Конечно, все это только намеки на художественное развитие романа у Пушкина.
При преобладающем количестве переводных романов и повестей над немногими русскими повестями во второй половине XVIII века и в первой четверти XIX века любопытны всякие проявления реализма в русской повести. Поэтому здесь можно упомянуть и о следующих произведениях в этом роде: «Похождения Ивана Гостинного сына» (1785) Новикова, в которых находятся изображения святочных вечеров и история Фрола Скобрева – известная повесть XVII века. Но особенно замечательны романы и повести Нарежного. Его большой роман «Российский Жильблаз, или История жизни князя Гаврилы Симоновича Чистякова, его сына Никандра и семейная история помещика Простакова», вышедший в 1814 году, только в 3 частях вместо шести, несмотря на подражание Лессажу, представляет множество очерков семейной и общественной жизни начала настоящего столетия (XIX века. – Примеч. ред.) и конца прошлого. Мы не находим у Пушкина каких-либо отзывов о повестях Нарежного; но это еще не свидетельствует о его незнакомстве с такими выдающимися произведениями своего времени, как «Бурсак» или «Два Ивана» Нарежного. Гоголь, так же как и Пушкин, нигде не упоминает о Нарежном, имевшем для Гоголя значение несомненное. Итак, в области повести и романа Пушкин имел уже предшественников.
Нам остается сказать о ложноклассической драме. Пушкин наследовал от нее только трагедии, драматические сцены, присоединяя комические сцены по образцу Шекспира, но не отдаваясь комедии исключительно. Какая противоположность с Фонвизиным и плеядой малоизвестных и неизвестных комических и сатирических писателей XVIII века, которые впервые возвели разговорную народную речь в обиход литературы! Черты этой народной речи у комических писателей XVIII века отличаются такой же пестротой и разнообразием, как во всяких неустановившихся новых формах. Тут мы находим и более или менее удачные опыты выбора и переделки народных песен, сказок, пословиц в их живописных выражениях, и обыденную речь, случайно подхваченную в народных говорах, со своеобразным выговором звуков. Кроме этой внешней форме речи комедии и комические оперы внесли в русскую литературу богатое содержание народной жизни, например святочных обрядов, свадебных с их драматическим развитием и др. Все это вместе с баснями, сказками давало почву для русских баллад, поэм, повестей и новой драмы в стиле Шекспира, с каковой и выступил так необычно Пушкин.
Нам нет необходимости распространяться о трагедии XVIII века и ее продолжении в начала XIX века с некоторыми изменениями. Начиная от Сумарокова до Озерова и Крюковского русская трагедия сохраняла одну и ту же ложноклассическую форму с ее напыщенными торжественными положениями, речами, с ее кровавыми, преувеличенными действиями, или, вернее, выражениями страстей.
Переходя теперь к выдающимся писателям начала XIX века, ближайшим предшественникам Пушкина, – к Карамзину, Батюшкову, Жуковскому, – мы сделаем заключение о русской поэзии XVIII века. Ей недоставало законченности, устойчивости языка, формы и содержания. Господство ломоносовского предания с его славянизмами, растянутостью речи не подрывалось предшественниками Карамзина конца XVIII века и начала XIX. Карамзин в конце прошлого века впервые дал иные образцы для новой литературной речи, выработанной просто и естественно только Пушкиным. Ложноклассические формы литературы вымирали уже в конце прошлого века: похвальные торжественные слова, оды, поэмы уступали место балладам, путешествиям, повестям, романам. Внешние формы построения и изложения – искусственные и натянутые, всего более подражательные – сменились естественными и более простыми формами. Содержание литературы в такой же мере упростилось и сблизилось с жизнью. Литература XVIII века по содержанию отличалась односторонностью, которая зависела и от отношений писателя к публике – исключительно высших классов, и от его кругозора. Карамзин стал вводить русскую публику в интересы европейской жизни, Жуковский – в интересы новой европейской поэзии; но оба писателя понимали значение народных начал и самобытности творчества, что и соединил в величайшей степени Пушкин. Оценивая русскую литературу XVIII века, не надо забывать ее исторического значения, что сознавал и Пушкин. К приведенным уже отзывам нашего поэта о литературе XVIII века присоединим еще его заметки о Фонвизине, Простаковых которого – «чету седую, с детьми всех возрастов, считая от тридцати до двух годов» (III, 333) – Пушкин вывел в V главу «Евгения Онегина» среди деревенских гостей Лариных: «Недоросль – единственный памятник народной сатиры» (V, 124); «со времен Фонвизина мы не смеялись» (V, 292); «Не забудь Фон-Визина писать Фонвизин, – пишет брату поэт в 1824 г. – Что он за нехристь? Он русский, из перерусских русский» (VII, 87). В «Евгении Онегине» Пушкин закрепил значение Фонвизина в следующих стихах I главы:
Волшебный край! Так в стары годы,
Сатиры смелый властелин,
Блистал Фонвизин, друг свободы,
И переимчивый Княжнин.
Я.Б. Княжнин
Последнее оттеняет самостоятельность творчества Фонвизина, что так ценил Пушкин и что признавал за немногими. Не раз высказывал он сожаление в этом отношении даже по поводу литературной деятельности Жуковского, которого глубоко уважал как человека и как поэта. Такое же уважение Пушкин питал и к Карамзину, увлеченный его «Историей». Здесь мы уже имеем дело с современниками Пушкина, с его живыми отношениями к Карамзину и Жуковскому.
Карамзин начал свою литературную деятельность переводами и подражаниями, причем стихотворная форма привлекала его, как многих писателей XVIII века. Он является одним из первых русских поэтов-балладников: в 1791 году Карамзин написал балладу «Раиса», в которой обращает внимание имя соперницы героини – Людмилы, воспетой Жуковским, а еще ранее, в 1789 году, – «Граф Гваринос, древнюю гишпанскую историческую песню» – предшественницу чудного «Сида» Жуковского. Песни Карамзина и эти стихотворения, в форме посланий, описаний природы (времен года), пользовались в свое время вниманием публики, но отступили на задний план в дальнейшем развитии его литературной деятельности.
Путешествие за границу дало другое направление деятельности Карамзина: он оставил стихи и стал писать прозой, но такой, которая по своим совершенствам не уступала стихотворной речи его современников. Можно без преувеличения сказать, что русская проза впервые заговорила поэтическим изящным легким языком под пером Карамзина. Особенно необыкновенным явлением для своего времени были «Письма русского путешественника» 1791 года. С них, можно сказать, русская литература сделалась приятным повседневным живым удовольствием, живою мыслью русского общества. «Письма русского путешественника» и журналы Карамзина положили начало широкому распространению литературных и общечеловеческих интересов. Все, что было в русской литературе XVIII века выдающегося, – все это как-то неполно отражало жизнь и вкусы читателей. Теперь в прозе Карамзина началось сближение между публикой и писателем, для которого всякий читатель являлся близким доверенным человеком, наравне с любезными друзьями. Писатель подходил к самым деликатным вопросам жизни, к сердцу читателя, которому поверял свои настроения, увлечения, желания. Торжественные реляции, патриотический жар или сатира, смотрящая на русскую жизнь свысока, как закон нравственности, составлявший особенность русской поэзии XVIII века, сменились привлекательной грустью, кротостью, увлечением природой, естественной жизнью, представляемой в рамках сельской-деревенской простоты. Последняя, впрочем, далеко отступила от грубой естественности народных сцен в произведениях XVIII века. Получалось что-то новое: образы из жизни образованного класса, но облеченные в костюмы добродетельных крестьян, из переводных романов. Такова «Бедная Лиза» 1792 года, произведшая необыкновенное впечатление на русских молодых читателей, как о том свидетельствует интересное частное письмо 1799 года: «Ныне пруд здесь (в Москве у Симонова монастыря, где погибла героиня Карамзина) в великой славе; часто гуляет около него народ станицами и читает надписи, вырезанный на деревьях вокруг пруда». Эти надписи, по словам любопытного письма, были или чувствительного характера, или даже такого грубого, вроде упреков автору «Бедной Лизы». Очевидно, читатели искали осуществления в действительности романической истории Карамзина. Они не находили в ней зародыша того романа, который должен был развернуться блестящим цветком на тощем поле русской словесности. Между тем этот образованный представитель дворянского русского общества, скучающий и отыскивающий идеал по литературным впечатлениям от сентиментальных романов, идиллии – прямой предшественник Онегина и всех последующих героев русского идеализма. Это Эраст Карамзина – вполне естественный как в своем увлечении, так и в уступках свету, суете, невоздержанию и грубому поступку, погубившему бедную Лизу. Без сомнения, Пушкин имел в виду повесть Карамзина, когда писал в 1830 году «Барышню-крестьянку» («Повести Белкина») – Лизу, перерядившуюся для свидания с женихом крестьянкой. И следующее замечание Пушкина относится к «Бедной Лизе»: «Эти подробности (свидания молодых людей, возрастающая взаимная склонность и доверчивость) вообще должны казаться приторными». Тут же в повести Пушкина находим и прямую ссылку на другую повесть Карамзина (IV, 88), о которой сейчас же и скажем: «Круглый лист измарала афоризмами, выбранными из той же повести». Другая повесть Карамзина «Наталья боярская дочь» 1792 года, отразившаяся в содержании известной народной пьесы Пушкина «Жених» 1825 года (героиня – Наташа, герой – разбойник, похищающий девушку), скорее приближается к «Руслану и Людмиле» Пушкина, чем к историческим романам, как «Марфа Посадница» (1802), погубившая, кажется, навсегда всякие стремления правдиво и выпукло передать новгородскую старину. Талантливый Карамзин, идя по пути Новикова, пришел к русской истории. Он не понимал русского простонародного элемента и остался при своем европейском развитии и увлечении документальной стариной, в претворении и изучении которой заслужил себе справедливо славу. Влияние истории Карамзина на Пушкина, как и вообще на всех русских писателей начала настоящего столетия, несомненно, было громадным; но Карамзин отличался еще привлекательным характером и в этом отношении играл видную роль в жизни и в идеалах Пушкина. Личные отношения их начались еще во время пребывания Пушкина в Лицее. Сделавшись придворным историографом, Карамзин для печатания «Истории государства Российского» получил много милостей от двора. После безмолвного труда в Москве и в подмосковной деревне над историческими материалами и над обработкой первых 8 томов Карамзин переселился в Петербург и каждое лето подолгу жил с семьей в Царском Селе, упиваясь чистым воздухом, трудом и отдавая свободное время семье и гостям, среди которых появлялся с благоговением к литератору – главе передовой литературы и историку – молодой Пушкин. Живой представитель новой школы карамзинистов, боровшихся против защитников ломоносовской теории слога во главе с Шишковым – и бездарными писателями поэм, трагедий, торжественных слов, од, – преданный истории Карамзин увлекался своими молодыми последователями, их шутливым кружком «Арзамас» с Жуковским и с только что выступившими в печатной литературе с 1815 года Батюшковым и лицеистом Пушкиным. Естественно, что в семье Карамзина Пушкин находил не одно только развлечение, но и – богатую пищу для ума и сердца. Не без влияния на поэму Пушкина из времен Владимира, начатую еще в Лицее, могла быть «История» Карамзина и еще более на размышления о русской истории и раздумья Пушкина, которые он делил с блестящим царскосельским гусаром – мыслителем Чаадаевым. В такой обстановке у Пушкина и созрела мысль вместо назначения к высшим чинам государственной службы, по прямым целям аристократического Лицея, выбрать служение Музам, по пути литератора-публициста, или придворного историографа Карамзина. Рано познакомившись с «Историей» Карамзина, ранее ее появления в печати в 1818 году, Пушкин успел многое передумать и в кругу новых передовых и увлекающихся людей представил эпиграммы на Карамзина и на его основные взгляды. Карамзин, покровительствовавший Пушкину, называл его, по выходе из Лицея, либералом. И эта черта различия легла навсегда между Карамзиным и Пушкиным, несмотря на примирения, горячую благодарность молодого поэта за ходатайство Карамзина в 1820 году, несмотря на искреннее уважение к трудам и значению Карамзина со стороны Пушкина в течение всей жизни поэта. Мы еще возвратимся к влиянию Карамзина на Пушкина при создании «Бориса Годунова», теперь же приведем замечательное свидетельство Пушкина о первом появлении «Истории государства Российского», написанное вскоре после смерти Карамзина в 1826 году: «Это было в феврале 1818 года. Первые восемь томов «Русской Истории» Карамзина вышли в свет. Я прочел их в постеле (больной) с жадностью и со вниманием. Появление сей книги (как и быть надлежало) наделало много шуму и произвело сильное впечатление; 3000 экземпляров разошлось в один месяц (чего никак не ожидал и сам Карамзин) – пример единственный в нашей земле. Все (светские люди; V, 58), даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им не известную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия казалось найдена Карамзиным, как Америка Колумбом. Несколько времени ни о чем ином не говорили. У нас никто не в состоянии исследовать огромное создание Карамзина, зато никто не сказал спасибо человеку, уединившемуся в ученый кабинет во время самых лестных успехов и посвятившему целых 12 лет жизни безмолвным и неутомимым трудам. Ноты (примечания V, 59) «Русской Истории» свидетельствуют обширную ученость Карамзина, приобретенную им уже в тех летах, когда для обыкновенных людей круг образования и познаний давно окончен и хлопоты по службе заменяют усилия к просвещению. Молодые якобинцы негодовали (припомним эпиграммы самого Пушкина: «И, бабушка, затеяла пустое: Докончи лучше нам Илью-богатыря» 1818 года и др.). Повторяю, что «История Государства Российского» есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека» (V, 40–41).
В Лицее же Пушкин познакомился, может быть, в семействе Карамзина с Жуковским и Батюшковым, влияние которых, как непосредственных поэтов, отразилось всего более на первых произведениях «арзамасского» Сверчка (прозвище Александра Сергеевича – по балладе Жуковского), ближайшего к выдающемуся певцу и балладнику – арзамасской «Светлане» Жуковскому.
Первые произведения Батюшкова, появившегося в печати около 1810 года, должны уже были обратить на себя внимание лицеиста Пушкина по своему слогу, как прозаическому («Письма русского офицера из Финляндии»), так и поэтическому. Пушкин последовал за Батюшковым, найдя в нем совершенства державинской поэзии, освобожденной от недостатков неестественности, преувеличения, неровности и неискренности в чувствах, или вернее – неумелости дать выражение, подыскать подходящие действительным чувствам мысли и слова. Каждое новое произведение Батюшкова Пушкин ловил с восторгом и настраивал свою лиру в тон нового переводчика классических, французских и итальянских поэтов. Из подражания Батюшкову Пушкин избирает Парни и Тассо своими образцами в области лирики и эпоса. Еще более влияли на Пушкина оригинальные пьесы Батюшкова: его сатиры («Видения на берегах Леты», «Певец в беседе Славянороссов»), легкие эпиграммы, его военные песни («Разлука», «Пленный», «Тень друга» и др.), послания к друзьям («Мои Пенаты») и особенно нежные элегии («Таврида», «Умирающий Тасс», «Воспоминания»), в которых печаль об утраченном счастье соединяется с воспоминаниями о радостях жизни, о сладострастии любви – в увлекательных, но не грубых картинах, полных эллинской простоты, с чашами, цветами и беспечностью. Как долго отражалось на Пушкине влияние Батюшкова (указанное в частностях Гаевским в «Современнике» 1863 года. М. 7 и 8, акад. Гротом о Пушкине и акад. Л.Н. Майковым о Батюшкове), можно судить из известного произведения Пушкина – «Моя родословная» 1830 года, для которой послужили основанием следующие стихи Батюшкова:
Оставь меня, я не поэт,
Я не ученый, не профессор,
Меня в календаре в числе счастливцев нет,
Я… отставной асессор!
(Сочинения К.Н. Батюшкова, III, 1886, 343).
К.Н. Батюшков
Это стихотворение 1817 года из письма Батюшкова к В.Л. Пушкину, как «старосте» «Арзамаса», конечно, знал хорошо племянник – «маленький Пушкин», о котором Батюшков с восторгом упоминает несколько раз в своих письмах. Приведем следующую выдержку из журнальной статьи Батюшкова 1814 года «Прогулка в Академии Художеств», послужившую темой для вступления Пушкина в повесть «Медный всадник»: «Взглянув на Неву, покрытую судами, взглянув на великолепную набережную, на которую, благодаря привычке, жители петербургские смотрят холодным оком, – любуясь бесчисленным народом, который волновался под моими окнами, сим чудесным смешением всех наций, в котором я отличал Англичан и Азиатцев, Французов и Калмыков, Русских и Финнов, я сделал себе следующий вопрос: что было на этом месте до построения Петербурга? Может быть, сосновая роща, сырой, дремучий бор или топкое болото, поросшее мхом и брусникою; ближе к берегу – лачуга рыбака, кругом которой развешены были мрежи, невода и весь грубый снаряд скудного промысла. Сюда, может быть, с трудом пробирался охотник, какой-нибудь длинновласый финн:
За ланью быстрой и рогатой,
Прицелясь к ней стрелой пернатой.
Здесь все было безмолвно. Редко человеческий голос пробуждал молчание пустыни дикой, мрачной; а ныне?.. Я взглянул невольно на Троицкий мост, потом на хижину великого монарха, к которой по справедливости можно применить известный стих:
Souvent un faible gland recеle un ch?ne immen?e![3 - Нередко желудь малый таит огромный дуб в себе (фр.). – Примеч. ред.]
И воображение мое представило мне Петра, который в первый раз обозревал берега дикой Невы, ныне столь прекрасные!.. «Здесь будет город», – сказал он, – «чудо света, сюда призову все художества, все искусства, гражданские установления и законы победят самую природу». Сказал, и Петербург возник из дикого болота» (Сочинения К.Н. Батюшкова, Пб., 94–95). Кажется, незачем и подчеркивать все то, что нам хорошо напоминает вступление Пушкина в поэму «Медный всадник».
Многие выражения Батюшкова повторяются у Пушкина, хотя бы, например, излюбленные выражения о «сладострастьи высоких мыслей и стихов» («душ великих сладострастье», I, 124; «На ложе сладострастья», 134; «счастье, сердечно сладострастье, и негу, и новой», 138; «души прямое сладострастье», 243), о «башнях древних царей – свидетелей протекшей славы» (I, 151–152, «Послание к Дашкову»: «Пред златоглавою Москвою воздвиглись храмы и сады». «Москва отчизны край златой»), «певце любви», или такие фразы, как «и море и суша потворствуют нам» (I, 239, ср. «Песнь о Вещем Олеге»):
Но дружество найдет мои в замену чувства,
Историю моих страстей,
Ума и сердца заблужденья,
Заботы, суеты, печали прежних дней
И легкокрылы наслажденья (I, 275).
Нечего говорить о лицейских стихотворениях Пушкина, в которых встречаем подражательные произведения, вроде «К сестре» 1814 года, «Городок», «К Батюшкову» (послания 1814 и 1815 годов), романс «Под вечер осенью ненастной» (см. ниже). Даже «Музу» 1821 года, написанную в Киеве (14 февраля), Пушкин, по свидетельству современников, «любил за то, – что (стихотворение это) отзывается стихами Батюшкова» (I, 235). Может быть, несколько преувеличивая, Пушкин приравнивал Батюшкова к Ломоносову: «Батюшков, счастливый сподвижник Ломоносова, сделал для русского языка то же самое» (V, 20). Но Батюшков почти ничего не сделал для проведения народности в содержании своих произведений. Он мечтал об исторических сюжетах, о поэмах в народном стиле и, без сомнения, создал бы что-либо выдающееся в этом роде, если бы не стечение обстоятельств, нарушивших равновесие его душевного строя, его страстей. Он встретил только «Руслана и Людмилу» Пушкина и исчез навсегда из области литературных и общественных интересов. Друзья, и в том числе молодой Пушкин, ожидали от Батюшкова многого (VII, 107). Без сомнения, он, а не кто другой, разбудил поэзию в Пушкине.
Между тем Пушкин, вступая в свете со всей страстью и упоением жизнью, преклонялся про себя перед личностью и поэзией Жуковского (1783–1852):
Душа к возвышенной душе твоей летела
И, тайно съединясь, в восторгах пламенела, —
писал он в послании «К Жуковскому» 1817 года (I, 164). Еще с большей искренностью и увлечением отнесся Пушкин в 1818 году в двух прелестных обращениях «К портрету Жуковского» и к «Жуковскому»:
Блажен, кто знает сладострастье
Высоких мыслей и стихов,
Кто наслаждение прекрасным
В прекрасный получил удел,
И твой восторг уразумеет
Восторгом пламенным и ясным!
Жизнь Жуковского занимает видное место в житейских отношениях Пушкина, от первого вступления нашего поэта в литературу, в сознательное служение ей до последних мгновений Александра Сергеевича, когда он скончался в день рождения Жуковского, 29 января 1837 года. Жуковский так же покровительствовал Пушкину, как Карамзин; но, несмотря на неравенство лет (Жуковский родился в 1783 году, 29 января), между поэтами завязалась тесная искренняя дружба: с 1822 года Пушкин в письмах обращается с Жуковским на «ты», признавая его с памятного момента лицейской встречи в 1815 году, когда Жуковский подарил ему стихи (V, 2), своим учителем. Пушкин называет Жуковского в послании «К сестре» 1814 года певцом Людмилы и задумчивой Светланы, в IV песне «Руслана и Людмилы» 1820 года «Певцом таинственных видений, любви, мечтаний и чертей, могил и рая» и вспоминает свои впечатления от «Громобоя» и «Вадима» («Двенадцати спящих дев»); еще позднее, в 1828 году, Пушкин возвращается к первому произведению Жуковского, поразившему «весь свет» – в подражании Грею, – т. е. «Сельскому кладбищу» 1802 года. В истории русской словесности Пушкин признавал за Жуковским важное и решительное значение в области слога (VII, 107 и 129). Но влияние Жуковского на Пушкина не ограничивалось одним слогом и юношескими подражаниями (например, послание Пушкина к кн. Горчакову написано в подражание посланий Жуковского к Филалету – Тургеневу): оно шло глубже и отражалось в элегиях Пушкина, в образах и выражениях, впервые введенных в русскую литературу Жуковским из подражания германской поэзии (особенно Шиллеру), а отчасти и самостоятельно, в отклонении от подлинника, в образах, созданных Жуковским в соответствии с его духом, со всем пережитым и перечувствованным мечтательным поэтом. Кроме элегии (напр., мысли о смерти, об умерших женщинах, близких – дорогих сердцу поэта) влияние Жуковского на Пушкина сказалось и в народных балладах, как «Жених», «Утопленник», «Бесы», и в народных сказках, и в патриотических одах, написанных поэтами во время совместной жизни в Царском Селе и изданных вместе в одной книжке 1831 года. Последнее было своего рода состязанием и сотрудничеством двух поэтов.
Я жизнь мою во скуку трачу:
Настанет день, тоскую, плачу;
Покроет ночь, опять грущу,
И все чего-то я ищу.
В элегии Пушкина 1816 года «Разлука», переделанной в 1826 году, под названием «Уныние», находим повторение стихов Дмитриева:
Но я уныл и втайне я грущу.
Блеснет ли день за синею горою,
Взойдет ли ночь с осеннею луною —
Я все тебя, прелестный друг, ищу (I, 141).
Вставочный рассказ Дмитриева в «Причуднице» о драгунском ротмистре Брамербасе, «бывшем столько лет в Малороссийском крае игралищем злых ведьм» (на нем, обращенном в коня, ведьма разгуливала до полуночи), развивается у Пушкина в веселом несравненном рассказе «Гусар», имеющем что-то общее с «Вием» Гоголя. Нельзя не удивляться тому, как умел усовершенствовать свой стих и язык Дмитриев, пройдя длинный путь развития от тяжелых од до легких сказок, басен, песен. «Глас патриота на взятие Варшавы» Дмитриева ниже од Державина, но Жуковский в 1831 году вспоминает Дмитриева и приводит отрывки из «Гласа патриота», в то время, когда и Пушкин вдохновляется одами «Клеветникам России» и «Бородинской годовщиной». Мы уже приводили отзыв Пушкина о Дмитриеве как баснописце. Но молодой поэт ценил, как и его современники, старика Дмитриева за образцовый слог (I, 174). Особенно нравилась Пушкину сказка Дмитриева «Модная жена» – «сей прелестный образец легкого и шутливого рассказа» (V, 122), прелестная баллада Дмитриева (Карикатура, IV, 72), и вообще ему нравились «прелестный сказки Дмитриева» (V, 126) Наблюдения Дмитриева над русской жизнью, хотя и не полные, отрывочные, выразившиеся в «Чужом толке» и в сатирических сказках, не могли пройти без влияния на Пушкина. Так повлияли, конечно, на нашего поэта и остроумные эпиграммы Дмитриева на стихотворцев – эти образцы литературной критики XVIII века и начала XIX. Нельзя не упомянуть и о «Карманном песеннике, или Собрании лучших светских и простонародных песен», изданном Дмитриевым в Москве в 1796 году. Подобно Чулкову и Новикову Дмитриев соединил хорошие простонародные песни с искусственными XVIII века, поместив и свои песни, и Карамзина, и Державина, и других. Подражание этим народным песням и сказкам, изданным в сильно искаженном виде Чулковым и Новиковым под названием «Русские сказки» и пр. в 1780–1783 годах, охватывает Львова («Добрыня, богатырская песня», изд. 1804 года), Карамзина (Илья Муромец, 1794 год), Радищева («Альоша Попович, богатырское песнопение», 1801 год) и др.
И.И. Дмитриев
«Русские сказки, содержащие древнейшие повествования о славных богатырях, сказки народные, и прочие оставшиеся через пересказанные в памяти приключения», изданные в 10 частях Новиковым в 1783 году, имели для писателей, занимавшихся сюжетами из русской полуисторической-полусказочной старины, то же значение, что «Древние Российские стихотворения» (с 1804 года и особенно с 1809-го), или сборник богатырских былин и старых песен Кирши Данилова, так как «Илья Муромец» Карамзина, «Альоша Попович» Радищева, баллады Жуковского «Громобой» и Каменева «Громвал» связаны так или иначе с лицами и подробностями этих сказок. Поэма Пушкина «Руслан и Людмила», отражающая влияние сборника Кирши Данилова многими подробностями и непосредственно, и через поэмы Радищева, Карамзина и др., связана также с «Русскими сказками» 1780–1783 годов. Сказки, изданные Новиковым, были повторены третьим изданием в 1820 году, с некоторыми сокращениями, переделкой и дополнениями. Пушкин, находясь на юге, в 1821 году просил выслать ему несколько частей «Русских сказок». По всей вероятности, ему и были присланы или «Сказки» изд. 1783 года, или 1820 года. Отличия последних от первого издания заключаются в трех живых действительно народных анекдотах: о воре Тимошке, о цыгане и о воре Фомке. Это уже первые опыты изложения народных сказок в новом, почти неукрашенном виде, исключая слог, который сглажен в литературном стиле. Не то представляют т. н. народные сказки в первом издании 1780–1783 годов. Это в полном смысле волшебные истории вроде «1001 ночи», в которых имена русских богатырей, исторические названия Древней Руси, фразы из былин и народных сказок – преимущественно о типичной Бабе-яге, ее жертвах и Кощее – утопают в смеси заимствованных и выдуманных подробностей и лиц. Тут находим и злых волшебниц, волшебников, появляющихся в облаках с громом, в тучах, как пушкинский Черномор, и именно с целью похищения красавиц, и добродетельных волшебниц – Добрад, Велеслав, – помогающих героям Булатам, Громобоям, Алешам, Чурилам или Добрыням, связанным с кн. Владимиром и Киевом. Но последшй окружен очарованными домами, замками. Вообще подробности быта более подходят к французским нравам XVII–XVIII веков, взятым из сказок Гамильтона, Флориана, Лафонтена, чем к русским, столь типичным уже в изд. 1820 года, в трех названных сказках. Всем известен характер сказок о царевиче Хлоре или Февее, изложенных с нравоучительной целью Екатериной II. Напрасно мы будем искать следов таких подробностей этих сказок, как сын Рассудок, Роза без шипов, добродетель, в каких-либо народных сказках. К этим аллегорическим, морально-сатирическим фигурам т. н. народных сказок и особенно любимых богатырских сказок присоединяются в изданиях-переделках XVIII века и в начале XIX века еще превращения ложноклассических подробностей стиля, воззрений в т. н. русские – старинные: Феб уравнялся с Световидом, Лада с Венерой, Лель с Купидоном, Полель с Гименом и т. п. Все эти новые подробности составители народных сказок XVIII века объясняли из рукописных сборников былин и сказок, из хронографов и временников, из иностранных пособий по истории России: скандинавских саг, византийских летописцев. Благо что академики XVIII века издали и византийских историков, и летописи, и отрывки из хронографов. Русские повествователи не могли еще свыкнуться с различием между былинным Тугорканом и Полифемом, между Рогнедой и Баяной или Миланой. Вот почему и наши классические писатели, бравшиеся за поэмы из русской истории, следовали или Хераскову, или соединяли материал, как умели (так поступил и Пушкин в «Руслане и Людмиле»), или совсем бросали планы русских поэм из времени Владимира св. или князей-язычников, задуманные Жуковским и даже Пушкиным.
Мы позволим себе отметить и еще некоторый черты «Русских сказок» 1783 года и их влияние на русских авторов сказок, поэм, баллад. Львов, автор «Добрыни богатырской песни», напечатанной только в 1804 году, несомненно пользовался «Русскими сказками», разделяя с ними объяснение Феба или Аполлона – Световидом. Эта песня Львова такое же недоконченное шутливое подражание народным мотивам, как и ранее написанная сказка Карамзина, или «Богатырская песнь Илья Муромец» 1794 года. Вспоминая действительно народные сказки «своих покойных мамушек» и ставя их выше греческой и римской мифологии, как доставляющих также удовольствие «в чародействе красных вымыслов», Карамзин рассказывает пробуждение красавицы, очарованной злым хитрым волшебником Черномором (отсюда пушкинский волшебник в «Руслане и Людмиле») посредством талисмана доброй волшебницы Велеславы. Этот рассказ нежной встречи Ильи Муромца с витязем-женщиной изложен почти что в стиле «Русских сказок» 1783 года. Кроме Черномора мимоходом Карамзин упоминает Людмилу из своей более ранней баллады «Раиса» 1791 года, повторенную Жуковским и Пушкиным в «Руслане и Людмиле». «Герой древности молодой богатырь Илья Муромец» не удался Карамзину, так как у него не было под рукой еще даже и былин Кирши Данилова 1804 и 1819 годов. В последнем издании, в предисловии было указано важное значение для суждения о древности богатырских песен и др. Баллада Каменева «Громвал» 1804 года вполне покрывается подробностями «Русских сказок» 1783 года. Здесь находим и богатыря Громвала, и коварного злобного волшебника Зломара, похитившего Рогнеду, и добрую волшебницу, являющуюся в виде лебеди, и чудесное возвращение похищенной. Мы уже имели случай ранее[2 - Университетские известия 1895 г., Киев, № 6 – июнь.] указать повторение подробностей «Русских сказок» 1783 года в сочинениях Николая Радищева под названием «Альоша Попович богатырское стихотворение» 1801 года и «Чурила Пленкович», часть вторая 1801 года, и отношение поэм Радищева к «Руслану и Людмиле». Радищев воспользовался и Ильей Муромцем Карамзина, и «Русскими сказками»; но, по всей вероятности, Пушкин читал самостоятельно и последние, так как в «Сказках» 1783 года (часть IX) находим поле, покрытое мертвыми человеческими костями, и среди них богатырскую голову, под которой лежал великий меч (стр. 206), сильный чох (чихание. – Примеч. ред.), потрясший облака, борьбу с чародеем, поднявшимся на воздух, появление похитителя с громом в ниспадшем облаке, чудное заключение красавицы, шапку-невидимку, финнов и пр.
«Русские сказки» дали начало и русским повестям. Так, первый русский романист Нарежный издал в 1809 году повести, под названием «Славенские вечера», заимствовав содержание и героев из «Сказок» 1783 года. Здесь в отдельных рассказах появляются Громобой и Миловзора, Рогдай, Велесил – витязи Владимира-князя, Любослав и к ним присоединены в том же стиле повести о Кие и Дулебе, Рогволоде. Исторические повести Нарежного, как его поэмы 1798 года («Брега Альты», «Освобожденная Москва», «Песнь Владимиру киевских баянов» и др.), трагедия 1804 года («Димитрий Самозванец») примыкают вполне к ложноклассическим образцам Хераскова, Чулкова и Новикова. Достаточно указать, что в повести «Любочесть» герои из времен Владимира и печенегов ведут романическую переписку, изъясняются языком исторических трагедий Сумарокова. Карамзин, как увидим далее, сам разделял отчасти эти недостатки исторических повестей, что проявилось в «Наталье, боярской дочери» 1792 года и в меньшей степени в «Марфе Посаднице» 1803 года. Первая повесть Карамзина имеет предисловие, в котором автор прямо связывает происхождение своей «были или истории» со сказками, слышанными от бабушек, одна из которых (прапрабабушка в XVI–XVII веках) «почти всякий вечер сказывала сказки царице NN.». Многое в этой первой повести Карамзина в народно-историческом стиле напоминает русские сказки 1783 года или «Приключения» Новикова 1785 года с его Фролом Скобеевым и вообще те рукописные сказки-повести, которые обращались с XVII века в связи с переводными. Подражатели Карамзина в этом направлении и даже Жуковский в «Марьиной роще» 1809 года стоят ниже Карамзина. Неизвестный автор «Ольги» 1803 года рассказывает о князе Игоре, царствовавшем в Новгороде, о Прекрасе, внуке Гостомысла.
А.Н. Радищев
Карамзину же принадлежит бесплодное влияние на сентиментальные романы, под названиями «Несчастная Лиза» кн. Долгорукова, 1811 года, «Несчастный Л. российское сочинение» 1803 года, «Марьина роща» с героями, взятыми из сказок 1783 года, Жуковского, и др. Только маленький рассказ баснописца А. Измайлова «Бедная Маша. Российская, отчасти справедливая повесть» 1803 года, несмотря на сплетение трагических условий, приближается к реализму в силу присущего этому баснописцу таланта в изображении простонародных и городских чиновничьих типов. Влияние Фонвизина сказывается в названии героев Простаковыми, Миловым; но новая Софья – конца XVIII – начала XIX века – является не торжествующей со своей добродетелью, а «бедной», страдающей. Простая русская свадьба героини – со свахой, с народными песнями – разрешается обманом со стороны жениха, и городская героиня, несмотря на свою кротость и примирение во имя любви, гибнет.
Опыты реального романа, представленного Нарежным и, без всякого сомнения, впервые возведенного на высоту художественного создания Пушкиным, заключались не в исторических и не в сентиментальных повестях, а в т. н. нравоучительных романах и в романах с приключениями. Здесь, быть может, первое зерно, из которого развился «Евгений Онегин», «Граф Нулин», «Повести Белкина» и др. В 1799–1800 годах баснописец Измайлов издал роман «Евгений, или Пагубные последствия дурного воспитания» (2 части). Это имя, только в женской форме, тотчас же повторилось в повести Остолопова «Евгения, или Нынешнее воспитание» 1803 года, «Евгения, или Письма к другу» 1818 года. Опять черта, не лишенная значения для истории происхождения «Евгения Онегина». У «Евгения» Измайлова, погибшего от недостатков воспитания, так же, как у Евгения Онегина, были распущенные французские гувернеры; оба героя проводят рассеянную жизнь в Петербурге, «убивают время». Небольшие подробности общего характера исчерпываются именами и положениями, к которым следует отнести и возвращение героя Измайлова в больной матери, Татьяне, по смерти которой Евгений получает наследство, проматывает его, лишается невесты и умирает молодым. Зимняя поездка Евгения в столицу и ее описание до некоторой степени соответствуют описаниям Пушкина. Конечно, все это только намеки на художественное развитие романа у Пушкина.
При преобладающем количестве переводных романов и повестей над немногими русскими повестями во второй половине XVIII века и в первой четверти XIX века любопытны всякие проявления реализма в русской повести. Поэтому здесь можно упомянуть и о следующих произведениях в этом роде: «Похождения Ивана Гостинного сына» (1785) Новикова, в которых находятся изображения святочных вечеров и история Фрола Скобрева – известная повесть XVII века. Но особенно замечательны романы и повести Нарежного. Его большой роман «Российский Жильблаз, или История жизни князя Гаврилы Симоновича Чистякова, его сына Никандра и семейная история помещика Простакова», вышедший в 1814 году, только в 3 частях вместо шести, несмотря на подражание Лессажу, представляет множество очерков семейной и общественной жизни начала настоящего столетия (XIX века. – Примеч. ред.) и конца прошлого. Мы не находим у Пушкина каких-либо отзывов о повестях Нарежного; но это еще не свидетельствует о его незнакомстве с такими выдающимися произведениями своего времени, как «Бурсак» или «Два Ивана» Нарежного. Гоголь, так же как и Пушкин, нигде не упоминает о Нарежном, имевшем для Гоголя значение несомненное. Итак, в области повести и романа Пушкин имел уже предшественников.
Нам остается сказать о ложноклассической драме. Пушкин наследовал от нее только трагедии, драматические сцены, присоединяя комические сцены по образцу Шекспира, но не отдаваясь комедии исключительно. Какая противоположность с Фонвизиным и плеядой малоизвестных и неизвестных комических и сатирических писателей XVIII века, которые впервые возвели разговорную народную речь в обиход литературы! Черты этой народной речи у комических писателей XVIII века отличаются такой же пестротой и разнообразием, как во всяких неустановившихся новых формах. Тут мы находим и более или менее удачные опыты выбора и переделки народных песен, сказок, пословиц в их живописных выражениях, и обыденную речь, случайно подхваченную в народных говорах, со своеобразным выговором звуков. Кроме этой внешней форме речи комедии и комические оперы внесли в русскую литературу богатое содержание народной жизни, например святочных обрядов, свадебных с их драматическим развитием и др. Все это вместе с баснями, сказками давало почву для русских баллад, поэм, повестей и новой драмы в стиле Шекспира, с каковой и выступил так необычно Пушкин.
Нам нет необходимости распространяться о трагедии XVIII века и ее продолжении в начала XIX века с некоторыми изменениями. Начиная от Сумарокова до Озерова и Крюковского русская трагедия сохраняла одну и ту же ложноклассическую форму с ее напыщенными торжественными положениями, речами, с ее кровавыми, преувеличенными действиями, или, вернее, выражениями страстей.
Переходя теперь к выдающимся писателям начала XIX века, ближайшим предшественникам Пушкина, – к Карамзину, Батюшкову, Жуковскому, – мы сделаем заключение о русской поэзии XVIII века. Ей недоставало законченности, устойчивости языка, формы и содержания. Господство ломоносовского предания с его славянизмами, растянутостью речи не подрывалось предшественниками Карамзина конца XVIII века и начала XIX. Карамзин в конце прошлого века впервые дал иные образцы для новой литературной речи, выработанной просто и естественно только Пушкиным. Ложноклассические формы литературы вымирали уже в конце прошлого века: похвальные торжественные слова, оды, поэмы уступали место балладам, путешествиям, повестям, романам. Внешние формы построения и изложения – искусственные и натянутые, всего более подражательные – сменились естественными и более простыми формами. Содержание литературы в такой же мере упростилось и сблизилось с жизнью. Литература XVIII века по содержанию отличалась односторонностью, которая зависела и от отношений писателя к публике – исключительно высших классов, и от его кругозора. Карамзин стал вводить русскую публику в интересы европейской жизни, Жуковский – в интересы новой европейской поэзии; но оба писателя понимали значение народных начал и самобытности творчества, что и соединил в величайшей степени Пушкин. Оценивая русскую литературу XVIII века, не надо забывать ее исторического значения, что сознавал и Пушкин. К приведенным уже отзывам нашего поэта о литературе XVIII века присоединим еще его заметки о Фонвизине, Простаковых которого – «чету седую, с детьми всех возрастов, считая от тридцати до двух годов» (III, 333) – Пушкин вывел в V главу «Евгения Онегина» среди деревенских гостей Лариных: «Недоросль – единственный памятник народной сатиры» (V, 124); «со времен Фонвизина мы не смеялись» (V, 292); «Не забудь Фон-Визина писать Фонвизин, – пишет брату поэт в 1824 г. – Что он за нехристь? Он русский, из перерусских русский» (VII, 87). В «Евгении Онегине» Пушкин закрепил значение Фонвизина в следующих стихах I главы:
Волшебный край! Так в стары годы,
Сатиры смелый властелин,
Блистал Фонвизин, друг свободы,
И переимчивый Княжнин.
Я.Б. Княжнин
Последнее оттеняет самостоятельность творчества Фонвизина, что так ценил Пушкин и что признавал за немногими. Не раз высказывал он сожаление в этом отношении даже по поводу литературной деятельности Жуковского, которого глубоко уважал как человека и как поэта. Такое же уважение Пушкин питал и к Карамзину, увлеченный его «Историей». Здесь мы уже имеем дело с современниками Пушкина, с его живыми отношениями к Карамзину и Жуковскому.
Карамзин начал свою литературную деятельность переводами и подражаниями, причем стихотворная форма привлекала его, как многих писателей XVIII века. Он является одним из первых русских поэтов-балладников: в 1791 году Карамзин написал балладу «Раиса», в которой обращает внимание имя соперницы героини – Людмилы, воспетой Жуковским, а еще ранее, в 1789 году, – «Граф Гваринос, древнюю гишпанскую историческую песню» – предшественницу чудного «Сида» Жуковского. Песни Карамзина и эти стихотворения, в форме посланий, описаний природы (времен года), пользовались в свое время вниманием публики, но отступили на задний план в дальнейшем развитии его литературной деятельности.
Путешествие за границу дало другое направление деятельности Карамзина: он оставил стихи и стал писать прозой, но такой, которая по своим совершенствам не уступала стихотворной речи его современников. Можно без преувеличения сказать, что русская проза впервые заговорила поэтическим изящным легким языком под пером Карамзина. Особенно необыкновенным явлением для своего времени были «Письма русского путешественника» 1791 года. С них, можно сказать, русская литература сделалась приятным повседневным живым удовольствием, живою мыслью русского общества. «Письма русского путешественника» и журналы Карамзина положили начало широкому распространению литературных и общечеловеческих интересов. Все, что было в русской литературе XVIII века выдающегося, – все это как-то неполно отражало жизнь и вкусы читателей. Теперь в прозе Карамзина началось сближение между публикой и писателем, для которого всякий читатель являлся близким доверенным человеком, наравне с любезными друзьями. Писатель подходил к самым деликатным вопросам жизни, к сердцу читателя, которому поверял свои настроения, увлечения, желания. Торжественные реляции, патриотический жар или сатира, смотрящая на русскую жизнь свысока, как закон нравственности, составлявший особенность русской поэзии XVIII века, сменились привлекательной грустью, кротостью, увлечением природой, естественной жизнью, представляемой в рамках сельской-деревенской простоты. Последняя, впрочем, далеко отступила от грубой естественности народных сцен в произведениях XVIII века. Получалось что-то новое: образы из жизни образованного класса, но облеченные в костюмы добродетельных крестьян, из переводных романов. Такова «Бедная Лиза» 1792 года, произведшая необыкновенное впечатление на русских молодых читателей, как о том свидетельствует интересное частное письмо 1799 года: «Ныне пруд здесь (в Москве у Симонова монастыря, где погибла героиня Карамзина) в великой славе; часто гуляет около него народ станицами и читает надписи, вырезанный на деревьях вокруг пруда». Эти надписи, по словам любопытного письма, были или чувствительного характера, или даже такого грубого, вроде упреков автору «Бедной Лизы». Очевидно, читатели искали осуществления в действительности романической истории Карамзина. Они не находили в ней зародыша того романа, который должен был развернуться блестящим цветком на тощем поле русской словесности. Между тем этот образованный представитель дворянского русского общества, скучающий и отыскивающий идеал по литературным впечатлениям от сентиментальных романов, идиллии – прямой предшественник Онегина и всех последующих героев русского идеализма. Это Эраст Карамзина – вполне естественный как в своем увлечении, так и в уступках свету, суете, невоздержанию и грубому поступку, погубившему бедную Лизу. Без сомнения, Пушкин имел в виду повесть Карамзина, когда писал в 1830 году «Барышню-крестьянку» («Повести Белкина») – Лизу, перерядившуюся для свидания с женихом крестьянкой. И следующее замечание Пушкина относится к «Бедной Лизе»: «Эти подробности (свидания молодых людей, возрастающая взаимная склонность и доверчивость) вообще должны казаться приторными». Тут же в повести Пушкина находим и прямую ссылку на другую повесть Карамзина (IV, 88), о которой сейчас же и скажем: «Круглый лист измарала афоризмами, выбранными из той же повести». Другая повесть Карамзина «Наталья боярская дочь» 1792 года, отразившаяся в содержании известной народной пьесы Пушкина «Жених» 1825 года (героиня – Наташа, герой – разбойник, похищающий девушку), скорее приближается к «Руслану и Людмиле» Пушкина, чем к историческим романам, как «Марфа Посадница» (1802), погубившая, кажется, навсегда всякие стремления правдиво и выпукло передать новгородскую старину. Талантливый Карамзин, идя по пути Новикова, пришел к русской истории. Он не понимал русского простонародного элемента и остался при своем европейском развитии и увлечении документальной стариной, в претворении и изучении которой заслужил себе справедливо славу. Влияние истории Карамзина на Пушкина, как и вообще на всех русских писателей начала настоящего столетия, несомненно, было громадным; но Карамзин отличался еще привлекательным характером и в этом отношении играл видную роль в жизни и в идеалах Пушкина. Личные отношения их начались еще во время пребывания Пушкина в Лицее. Сделавшись придворным историографом, Карамзин для печатания «Истории государства Российского» получил много милостей от двора. После безмолвного труда в Москве и в подмосковной деревне над историческими материалами и над обработкой первых 8 томов Карамзин переселился в Петербург и каждое лето подолгу жил с семьей в Царском Селе, упиваясь чистым воздухом, трудом и отдавая свободное время семье и гостям, среди которых появлялся с благоговением к литератору – главе передовой литературы и историку – молодой Пушкин. Живой представитель новой школы карамзинистов, боровшихся против защитников ломоносовской теории слога во главе с Шишковым – и бездарными писателями поэм, трагедий, торжественных слов, од, – преданный истории Карамзин увлекался своими молодыми последователями, их шутливым кружком «Арзамас» с Жуковским и с только что выступившими в печатной литературе с 1815 года Батюшковым и лицеистом Пушкиным. Естественно, что в семье Карамзина Пушкин находил не одно только развлечение, но и – богатую пищу для ума и сердца. Не без влияния на поэму Пушкина из времен Владимира, начатую еще в Лицее, могла быть «История» Карамзина и еще более на размышления о русской истории и раздумья Пушкина, которые он делил с блестящим царскосельским гусаром – мыслителем Чаадаевым. В такой обстановке у Пушкина и созрела мысль вместо назначения к высшим чинам государственной службы, по прямым целям аристократического Лицея, выбрать служение Музам, по пути литератора-публициста, или придворного историографа Карамзина. Рано познакомившись с «Историей» Карамзина, ранее ее появления в печати в 1818 году, Пушкин успел многое передумать и в кругу новых передовых и увлекающихся людей представил эпиграммы на Карамзина и на его основные взгляды. Карамзин, покровительствовавший Пушкину, называл его, по выходе из Лицея, либералом. И эта черта различия легла навсегда между Карамзиным и Пушкиным, несмотря на примирения, горячую благодарность молодого поэта за ходатайство Карамзина в 1820 году, несмотря на искреннее уважение к трудам и значению Карамзина со стороны Пушкина в течение всей жизни поэта. Мы еще возвратимся к влиянию Карамзина на Пушкина при создании «Бориса Годунова», теперь же приведем замечательное свидетельство Пушкина о первом появлении «Истории государства Российского», написанное вскоре после смерти Карамзина в 1826 году: «Это было в феврале 1818 года. Первые восемь томов «Русской Истории» Карамзина вышли в свет. Я прочел их в постеле (больной) с жадностью и со вниманием. Появление сей книги (как и быть надлежало) наделало много шуму и произвело сильное впечатление; 3000 экземпляров разошлось в один месяц (чего никак не ожидал и сам Карамзин) – пример единственный в нашей земле. Все (светские люди; V, 58), даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им не известную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия казалось найдена Карамзиным, как Америка Колумбом. Несколько времени ни о чем ином не говорили. У нас никто не в состоянии исследовать огромное создание Карамзина, зато никто не сказал спасибо человеку, уединившемуся в ученый кабинет во время самых лестных успехов и посвятившему целых 12 лет жизни безмолвным и неутомимым трудам. Ноты (примечания V, 59) «Русской Истории» свидетельствуют обширную ученость Карамзина, приобретенную им уже в тех летах, когда для обыкновенных людей круг образования и познаний давно окончен и хлопоты по службе заменяют усилия к просвещению. Молодые якобинцы негодовали (припомним эпиграммы самого Пушкина: «И, бабушка, затеяла пустое: Докончи лучше нам Илью-богатыря» 1818 года и др.). Повторяю, что «История Государства Российского» есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека» (V, 40–41).
В Лицее же Пушкин познакомился, может быть, в семействе Карамзина с Жуковским и Батюшковым, влияние которых, как непосредственных поэтов, отразилось всего более на первых произведениях «арзамасского» Сверчка (прозвище Александра Сергеевича – по балладе Жуковского), ближайшего к выдающемуся певцу и балладнику – арзамасской «Светлане» Жуковскому.
Первые произведения Батюшкова, появившегося в печати около 1810 года, должны уже были обратить на себя внимание лицеиста Пушкина по своему слогу, как прозаическому («Письма русского офицера из Финляндии»), так и поэтическому. Пушкин последовал за Батюшковым, найдя в нем совершенства державинской поэзии, освобожденной от недостатков неестественности, преувеличения, неровности и неискренности в чувствах, или вернее – неумелости дать выражение, подыскать подходящие действительным чувствам мысли и слова. Каждое новое произведение Батюшкова Пушкин ловил с восторгом и настраивал свою лиру в тон нового переводчика классических, французских и итальянских поэтов. Из подражания Батюшкову Пушкин избирает Парни и Тассо своими образцами в области лирики и эпоса. Еще более влияли на Пушкина оригинальные пьесы Батюшкова: его сатиры («Видения на берегах Леты», «Певец в беседе Славянороссов»), легкие эпиграммы, его военные песни («Разлука», «Пленный», «Тень друга» и др.), послания к друзьям («Мои Пенаты») и особенно нежные элегии («Таврида», «Умирающий Тасс», «Воспоминания»), в которых печаль об утраченном счастье соединяется с воспоминаниями о радостях жизни, о сладострастии любви – в увлекательных, но не грубых картинах, полных эллинской простоты, с чашами, цветами и беспечностью. Как долго отражалось на Пушкине влияние Батюшкова (указанное в частностях Гаевским в «Современнике» 1863 года. М. 7 и 8, акад. Гротом о Пушкине и акад. Л.Н. Майковым о Батюшкове), можно судить из известного произведения Пушкина – «Моя родословная» 1830 года, для которой послужили основанием следующие стихи Батюшкова:
Оставь меня, я не поэт,
Я не ученый, не профессор,
Меня в календаре в числе счастливцев нет,
Я… отставной асессор!
(Сочинения К.Н. Батюшкова, III, 1886, 343).
К.Н. Батюшков
Это стихотворение 1817 года из письма Батюшкова к В.Л. Пушкину, как «старосте» «Арзамаса», конечно, знал хорошо племянник – «маленький Пушкин», о котором Батюшков с восторгом упоминает несколько раз в своих письмах. Приведем следующую выдержку из журнальной статьи Батюшкова 1814 года «Прогулка в Академии Художеств», послужившую темой для вступления Пушкина в повесть «Медный всадник»: «Взглянув на Неву, покрытую судами, взглянув на великолепную набережную, на которую, благодаря привычке, жители петербургские смотрят холодным оком, – любуясь бесчисленным народом, который волновался под моими окнами, сим чудесным смешением всех наций, в котором я отличал Англичан и Азиатцев, Французов и Калмыков, Русских и Финнов, я сделал себе следующий вопрос: что было на этом месте до построения Петербурга? Может быть, сосновая роща, сырой, дремучий бор или топкое болото, поросшее мхом и брусникою; ближе к берегу – лачуга рыбака, кругом которой развешены были мрежи, невода и весь грубый снаряд скудного промысла. Сюда, может быть, с трудом пробирался охотник, какой-нибудь длинновласый финн:
За ланью быстрой и рогатой,
Прицелясь к ней стрелой пернатой.
Здесь все было безмолвно. Редко человеческий голос пробуждал молчание пустыни дикой, мрачной; а ныне?.. Я взглянул невольно на Троицкий мост, потом на хижину великого монарха, к которой по справедливости можно применить известный стих:
Souvent un faible gland recеle un ch?ne immen?e![3 - Нередко желудь малый таит огромный дуб в себе (фр.). – Примеч. ред.]
И воображение мое представило мне Петра, который в первый раз обозревал берега дикой Невы, ныне столь прекрасные!.. «Здесь будет город», – сказал он, – «чудо света, сюда призову все художества, все искусства, гражданские установления и законы победят самую природу». Сказал, и Петербург возник из дикого болота» (Сочинения К.Н. Батюшкова, Пб., 94–95). Кажется, незачем и подчеркивать все то, что нам хорошо напоминает вступление Пушкина в поэму «Медный всадник».
Многие выражения Батюшкова повторяются у Пушкина, хотя бы, например, излюбленные выражения о «сладострастьи высоких мыслей и стихов» («душ великих сладострастье», I, 124; «На ложе сладострастья», 134; «счастье, сердечно сладострастье, и негу, и новой», 138; «души прямое сладострастье», 243), о «башнях древних царей – свидетелей протекшей славы» (I, 151–152, «Послание к Дашкову»: «Пред златоглавою Москвою воздвиглись храмы и сады». «Москва отчизны край златой»), «певце любви», или такие фразы, как «и море и суша потворствуют нам» (I, 239, ср. «Песнь о Вещем Олеге»):
Но дружество найдет мои в замену чувства,
Историю моих страстей,
Ума и сердца заблужденья,
Заботы, суеты, печали прежних дней
И легкокрылы наслажденья (I, 275).
Нечего говорить о лицейских стихотворениях Пушкина, в которых встречаем подражательные произведения, вроде «К сестре» 1814 года, «Городок», «К Батюшкову» (послания 1814 и 1815 годов), романс «Под вечер осенью ненастной» (см. ниже). Даже «Музу» 1821 года, написанную в Киеве (14 февраля), Пушкин, по свидетельству современников, «любил за то, – что (стихотворение это) отзывается стихами Батюшкова» (I, 235). Может быть, несколько преувеличивая, Пушкин приравнивал Батюшкова к Ломоносову: «Батюшков, счастливый сподвижник Ломоносова, сделал для русского языка то же самое» (V, 20). Но Батюшков почти ничего не сделал для проведения народности в содержании своих произведений. Он мечтал об исторических сюжетах, о поэмах в народном стиле и, без сомнения, создал бы что-либо выдающееся в этом роде, если бы не стечение обстоятельств, нарушивших равновесие его душевного строя, его страстей. Он встретил только «Руслана и Людмилу» Пушкина и исчез навсегда из области литературных и общественных интересов. Друзья, и в том числе молодой Пушкин, ожидали от Батюшкова многого (VII, 107). Без сомнения, он, а не кто другой, разбудил поэзию в Пушкине.
Между тем Пушкин, вступая в свете со всей страстью и упоением жизнью, преклонялся про себя перед личностью и поэзией Жуковского (1783–1852):
Душа к возвышенной душе твоей летела
И, тайно съединясь, в восторгах пламенела, —
писал он в послании «К Жуковскому» 1817 года (I, 164). Еще с большей искренностью и увлечением отнесся Пушкин в 1818 году в двух прелестных обращениях «К портрету Жуковского» и к «Жуковскому»:
Блажен, кто знает сладострастье
Высоких мыслей и стихов,
Кто наслаждение прекрасным
В прекрасный получил удел,
И твой восторг уразумеет
Восторгом пламенным и ясным!
Жизнь Жуковского занимает видное место в житейских отношениях Пушкина, от первого вступления нашего поэта в литературу, в сознательное служение ей до последних мгновений Александра Сергеевича, когда он скончался в день рождения Жуковского, 29 января 1837 года. Жуковский так же покровительствовал Пушкину, как Карамзин; но, несмотря на неравенство лет (Жуковский родился в 1783 году, 29 января), между поэтами завязалась тесная искренняя дружба: с 1822 года Пушкин в письмах обращается с Жуковским на «ты», признавая его с памятного момента лицейской встречи в 1815 году, когда Жуковский подарил ему стихи (V, 2), своим учителем. Пушкин называет Жуковского в послании «К сестре» 1814 года певцом Людмилы и задумчивой Светланы, в IV песне «Руслана и Людмилы» 1820 года «Певцом таинственных видений, любви, мечтаний и чертей, могил и рая» и вспоминает свои впечатления от «Громобоя» и «Вадима» («Двенадцати спящих дев»); еще позднее, в 1828 году, Пушкин возвращается к первому произведению Жуковского, поразившему «весь свет» – в подражании Грею, – т. е. «Сельскому кладбищу» 1802 года. В истории русской словесности Пушкин признавал за Жуковским важное и решительное значение в области слога (VII, 107 и 129). Но влияние Жуковского на Пушкина не ограничивалось одним слогом и юношескими подражаниями (например, послание Пушкина к кн. Горчакову написано в подражание посланий Жуковского к Филалету – Тургеневу): оно шло глубже и отражалось в элегиях Пушкина, в образах и выражениях, впервые введенных в русскую литературу Жуковским из подражания германской поэзии (особенно Шиллеру), а отчасти и самостоятельно, в отклонении от подлинника, в образах, созданных Жуковским в соответствии с его духом, со всем пережитым и перечувствованным мечтательным поэтом. Кроме элегии (напр., мысли о смерти, об умерших женщинах, близких – дорогих сердцу поэта) влияние Жуковского на Пушкина сказалось и в народных балладах, как «Жених», «Утопленник», «Бесы», и в народных сказках, и в патриотических одах, написанных поэтами во время совместной жизни в Царском Селе и изданных вместе в одной книжке 1831 года. Последнее было своего рода состязанием и сотрудничеством двух поэтов.