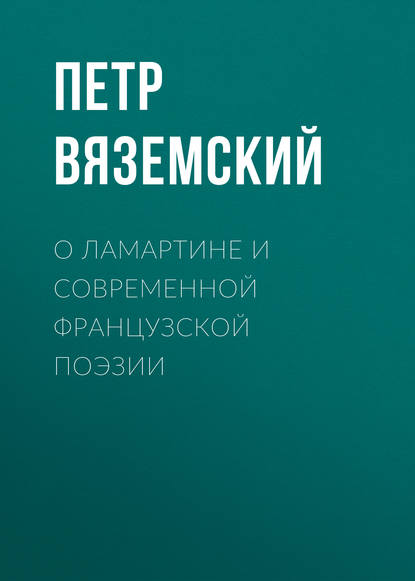По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
О Ламартине и современной французской поэзии
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Петр Андреевич Вяземский
«Ламартин из новейших поэтов французских более других знаком читателям нашим; после него Казимир де ла Винь и частью Беранже. Но имена Виктора Гюго, Сент-Бева (Sainte-Beuve), издавшего первый том своих стихотворений под псевдонимом Жозефа-де-Лорма, а другой недавно под названием „Утешений“ („Les Consolations“), Альфреда де Виньи, переводчика „Венецианского мавра“ и следовавшего в своем переводе Шекспиру столько, сколько французская совесть, хотя ультраромантическая, следовать позволила; а имена нескольких поэтов-женщин: Дельфины Ге, Деборд де Вальмор и еще некоторые другие имена, блестящие в нынешнем созвездии французской поэзии, едва знакомы нам и по одному слуху. Это жаль…»
Петр Вяземский
О Ламартине и современной французской поэзии
Ламартин из новейших поэтов французских более других знаком читателям нашим; после него Казимир де ла Винь и частью Беранже. Но имена Виктора Гюго, Сент-Бева (Sainte-Beuve), издавшего первый том своих стихотворений под псевдонимом Жозефа-де-Лорма, а другой недавно под названием «Утешений» («Les Consolations»), Альфреда де Виньи, переводчика «Венецианского мавра» и следовавшего в своем переводе Шекспиру столько, сколько французская совесть, хотя ультраромантическая, следовать позволила; а имена нескольких поэтов-женщин: Дельфины Ге, Деборд де Вальмор и еще некоторые другие имена, блестящие в нынешнем созвездии французской поэзии, едва знакомы нам и по одному слуху. Это жаль. Поэзия французская и вообще литература находится ныне в любопытном кризисе, который по крайней мере изучать полезно. Наша литература как-то совершенно отделилась от европейской. Запретительный тариф, бог знает от какой власти изданный, пресек сообщения наши с чужими державами, то есть по части торговли привозной, а вывозная наша процветает, сколько может, и на литературных европейских рынках романы наши разве чем немногим пониже в цене романов китайских и гренландских. Это освобождение от влияния чужестранцев хорошо, если развивает собственную промышленность. Если же нет, то независимость наша не есть приобретение, а урон. Между тем, отказавшись от чужих произведений, мы своих не изобретаем, не заводим русской выделки, а все (разумеется, за некоторыми исключениями) работаем на манер такого-то английского или немецкого мастера. В этом есть даже какое-то трогательное смирение, подобное тому, с которым наши русские мастеровые придают иностранные ярлыки домашней своей работе, никак не надеясь на одно имя свое. Где-то, кажется на Арбате, была следующая вывеска: «Гремислав, портной из Парижа». В портняжном литературном ремесле встречаются также свои Гремиславы. Прежде переводили у нас и Делилей, и Флорианов, и Лагарпов, не говорю уже о первостатейных поэтах, но крайней мере, переводы эти разнообразили движения нашего поэтического языка. Теперь сохрани боже быть переводчиком французского поэта; но переводить немецких, английских поэтов с французского перевода можно, а еще лучше писать в духе такого-то поэта, не понимая духа его и зная только по слуху и то потому, что земля слухом полнится. Странные и жалкие противоречия, заставляющие литературу нашу двигаться взад и вперед, не трогаясь почти с места.
Обратимся к Ламартину. Он у нас в особенности поэт женского пола. Если можно применять поэта к романисту, то он в глазах читательниц возвышается именно достоинством, коего недостаток столь вредит Вальтер Скотту перед судом женского трибунала. Любовь есть струна, которая более других звучит под рукою Ламартина, и любовь точно такая, какую женщины любят, по крайней мере в стихах. В романах шотландца любовь, напротив, часто посторонняя принадлежность, и где она и высказывается, то слишком просто, не логагрифом сердца, а ясною истиною его, и прекрасною своею истиною. Спросите у поклонников французского поэта, что им нравится в его стихотворениях? – А меланхолические аксиомы, подобно следующей, отвечают они: «Un seul etre me manque, et tout est depeuple»[1 - Одного существа мне не хватает, и все обезлюдело (фр.).]. Таким заявлением надеются они запечатлеть тотчас молчанием уста дерзнувшего спрашивать о том, что уже не подлежит ни вопросу, ни сомнению.
Вот отчего первая часть поэтических дум Ламартина вообще нравится более, чем вторая, в которой, да простят нам чувствительные души наше святотатство, более силы, более дарования, чем в первой. В подтверждение мнения нашего укажем на стихотворения: «Бонапарте», «Умирающий поэт». Несмотря на суждение наше, спешим сказать, что Ламартин истинный поэт; жаль, что по системе, принятой им, он выливает мысли и чувства свои в одну форму и смотрит на мир с одной точки зрения. Объятый умилением любви или религии, он всегда одинаково любит и молится. В лире его будто одна струна, один строй, между тем не видать, чтобы в душе была одна страсть, одно чувство, а разве одна привычка. Чем же изъяснить общий успех, который приветствовал поэта при самом появлении его? Он явился в пору: вдохновение, сие призвание свыше, или догадка, сие вдохновение ума, взвели его разом на успех неминуемый. Явись он во Франции десятью годами ранее или десятью позже, и он был бы в первом случае слишком странен, в другом – не довольно оригинален. Успех его изъясняется первыми успехами Шатобриана, не сравнивая дарований того и другого. Один в прозе, другой в стихах, пробудили в душе чувства, которые редко вызываемы были со дна ее французскими прозаиками и поэтами. В эпохи, следующие за грозами народными, в эпохи усталости, близкой к охлаждению, беспечности, близкой к дремоте нравственной, тот и другой нашли способ сладостно и задумчиво возбуждать тихие движения сердца, вызывать его из среды существенности, все испытавшей, все поглотившей, в сферу ощущений спокойных и созерцательных, отделить его от земли, на которой ничего уже нового ему не предстояло, и обратить его к новым упованиям, к новым потребностям. Шатобриан явился после революции; Ламартин после военного и аптипоэтического владычества Наполеона, сжавшего Францию и потрясшего ее после падением колосса своего. Ибо не должно забывать, что Наполеон стал предметом поэтическим только после низвержения. На скале своей он посвящен был несчастием, и поэзия присвоила себе сего Промефея, уже не баснословного, но исторического и современного. В обеих эпохах, упомянутых выше, душам нужен был отдых; но душа отдыхает не в бездействии, но в онемении, как бренное тело, а в тихих наслаждениях размышления, в созерцании прошедшего, уже перегоревшего, но еще не остывшего, в уповании, в бескорыстных расчетах на будущее. Люди, утомленные бурями и битвами земли, обращают взоры к небу. Шатобриан был благовестником религии; Ламартин – любви, полной мистицизма, любви религиозной, равно чуждой волокитства и утонченной порочности регентства во Франции, и, так сказать, чистой, непорочной чувственности древнего классицизма, возобновленной и одетой блестящими и свежими формами в опытах Андрея Шенье. Для дополнения применений наших заметим, что красноречие Шатобриана гораздо разнообразнее поэзии Ламартина. Не говоря уже о романах или прозаических поэмах, о путевых записках его, вспомним, что красноречие его овладело сценою политических прений; что он из области вымыслов или возвышенных созерцаний перенес в памфлеты свои весь жар, все чародейство, все могущество увлекательного слова. Не знаю, могли ли сии качества образовать в Шатобриане государственного мужа; но, без сомнения, упрочили они за ним славу красноречивейшего политического писателя. Читая его, нельзя не симпатизировать, не сочувствовать ему, часто украдкою от строгого ума своего, часто назло своим мнениям. Восстановленная династия могла праздновать памфлет: «Бонапарте и Бурбоны», как блестящую победу, одержанную и обратившую многих в пользу ее.
Ламартин не хотел или не умел разнообразить выражения дарования своего. Он несколько похож на проповедника, который раз в году, на известный случай, читал бы проповедь свою всегда на один текст. При всем даровании, при всей возможной полноте и звучности речи, при всем глубоком, искреннем чувстве, при всем изобилии красок, отсвечивающих одни и те же формы, он неминуемо должен был бы следовать всегда одному направлению и мог бы только разнообразить комментарии свои на предположенную себе тему. Ламартин другой Юнг. В нем нет воображения и творчества. Все воображение и творчество его заключаются в слоге, в искусстве соображения слов, красок и звуков. Попытки его в творениях важнейших: «Последняя песнь Чайльд-Гарольда», «Смерть Сократа» оказывают совершенный недостаток в нем драматической силы, без коей нет живого создания. В монологах нет еще драмы; а у него везде монолог одной мысли, одного чувства. Сам поэт должен быть средоточием действия великой драмы и, так сказать, утаивать, прятать присутствие свое в ней. Мы судим строго Ламартина как поэта, принадлежащего поэзии общей, а не французской в особенности. Изъятый из общего круга, он возвышается в очерке поэтов французских, во-первых, старшинством если не первобытным, то, по крайней мере, старшинством в новом поколении. Из современников он первый покорился владычеству новой музы, так сказать, музы внутренней, первый стал искать вдохновений более в глубине души, нежели в зрелище внешнего мира, так сказать, более взводить зеркало души своей на окружающий ее мир, нежели повторять в ней впечатления внешние. За исключением Андрея Шенье, который был классик не французский, но классик греческий, совершенно пластический, не довольствующийся одним подражанием списков, но созидающий формы новые по образцам древним, едва ли имели французского поэта, коего поэзия была бы целью исключительною себе самой, а не средством прикладным. Конечно, в некоторых творениях лирика Лебрёна, Жильбера, Мильвуа, коего имя, кажется, слишком забыто во Франции, Парни и, может быть, Бертена пробиваются струи чистого родника поэзии, и вообще можно сказать, что как есть химия, приложенная к искусствам, так у французов было искусство поэтическое (l'art poetique), приложенное к греческой мифологии, к римской истории, к царедворству, к терпимости, к политике, к остроумию, к общежитию, к волокитству, к либерализму и всем наукам и даже к химии. Для полноты сравнения скажем: поэзии было много, но поэзии мало. Ламартин, по крайней мере, освободил ее от необходимого товарищества и вывел с парижской мостовой, к которой она была приписана по городскому праву. Не раз уже замечено было, что Америка, Африка, Азия, куда Вольтер переносил свои драматические создания, что рощи, скалы, водопады, пустыни, природа, воспетые Сен-Ламбером и Делилем, не выдавались из ограды парнасских застав.
1830
notes
Сноски
1
Одного существа мне не хватает, и все обезлюдело (фр.).