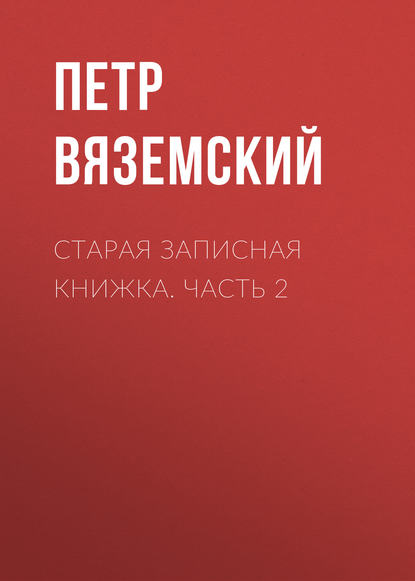По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Старая записная книжка. Часть 2
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
1852
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
* * *
Когда старику Пашкову, кажется, Василию Александровичу, дали Андрея, и все удивлялись, спрашивая, за что, Меншиков сказал, что за службу его по морскому ведомству: «Он десять лет не сходит с судна».
* * *
Глотка – греческое слово, по-французски glotte, petite fente du larynx, маленькая щель в гортани. В Академическом Русском словаре не обращено внимания на греческое происхождение некоторых наших слов, а если и бывают ссылки, то на латинские слова.
* * *
«Вся земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет», говорили славяне, призывая варягов. И ныне то же можем сказать и говорим. Россия в этом отношении все еще та же.
Нынешнее немецкое владычество в администрации России – повторение норманского. И тогда славянский народ не онорманили, и ныне русский народ не онемечили, но официальная Россия – не русская. Слова Погодина: влияние варягов на славян было более наружное, они образовали государство, – может быть применено ныне к немцам и вообще к иноплеменному люду.
Разница разве в том, что норманская, то есть иноплеменная сила воплотилась во втором периоде в русском Петре. Но и он, вероятно, находил, что наша земля велика и обильна, а наряда в ней нет, и призвал немцев на помощь.
* * *
28 октября 1846. Странная моя участь: из мытаря делаюсь ростовщиком, из вице-директора Департамента внешней торговли становлюсь управляющим в Государственный заемный банк. Что в этих должностях, в сфере этих действий есть общего, сочувственного со мной? Ровно ничего. Все это противоестественно, а именно потому так быть и должно, по русскому обычаю и порядку.
Правительство наше признает послаблением, пагубной уступчивостью советоваться с природными способностями и склонностями человека при назначении его на место. Человек рожден стоять на ногах: именно потому и надобно поставить его на руки и сказать ему: иди! А не то, что значит власть, когда она подчиняется общему порядку и течению вещей! К тому же тут действует и опасение: человек на своем месте делается некоторой силой, самобытностью, а власть имеет одни орудия, часто кривые, неудобные, но зато более зависимые от ее воли.
22-го числа октября призвал меня Вронченко и предложил мне это место. Я представил ему слегка свои возражения, говоря, что это место менее всего соответствует моим способностям, привычкам etc. Но, разумеется, эти возражения не могли иметь ни веса, ни значения, ибо они были в противоречии с общим положением дел в России. Что дано мне от природы – в службе моей подавлено, отложено в сторону: призываются к делу, применяются к действию именно мои недостатки.
У меня нет никакой способности к положительному делопроизводству; счеты, бухгалтерия, цифры для меня тарабарская грамота, от коей кружится голова и изнемогают все способности, все силы умственные и духовные: к ним-то меня и приковывают роковыми кандалами.
Было бы это случай, исключение, падающее на мою долю, – делать нечего, беда моя, да и только. Знать, так на роду моем написано; но дело в том, что это общее правило, и мое несчастье есть вместе и несчастье целой России. На конце поприща моего я вхожу в темный бор людей и дел. Все мне незнакомо и все в противоположности с внутренними моими стихиями. Меня герметически закупоривают в банке и говорят: дыши, действуй.
Вероятно, никто не встречал нового назначения и повышения с таким меланхолическим чувством, как я. Впрочем, все мои ощущения, даже и самые светлые и радостные, окончательно сводятся во мне в чувство глубокого уныния.
* * *
75 августа 1847. Я писал Жуковскому о нашей народной и руссославной школе. «Что не ясно, то не по-французски», говорят французы в отношении к языку и слогу. Всякая мысль не ясная, не простая, всякое учение, не легко применяемое к действительности, всякое слово, которое не легко воплощается в дело, – не русские мысль, учение, слово.
В чувстве этой народности есть что-то гордое, но вместе с тем и холопское. Как пруссаки ненавидят нас потому, что мы им помогли и выручили их из беды, так наши восточники ненавидят запад. Думать, что мы и без запада справились бы, – то же, что думать, что и без солнца могло бы светло быть на земле.
Наше время, против которого нынешнее протестует, дало однако же России 12-й год, Карамзина, Жуковского, Державина, Пушкина. Увидим, что даст нынешнее. Пока еще ничего не дало. Оно умалило, сузило умы.
Выдумывать новое просвещение на славянских началах, из славянских стихий – смешно и безрассудно. Да и где эти начала, эти стихии? Отказываться от того просвещения, которое ныне имеешь, в чаянии другого просвещения, более родного, более к нам приноровленного – то же, что ломать дом, в котором мы кое-как уже обжились и обзавелись, потому, что по каким-то преданиям, гаданиям, ворожейкам где-то, в какой-то потаенной, заветной каменоломне должен непременно скрываться камень-самородок, из которого можно построить такие дивные палаты, что перед ними все нынешние дворцы будут казаться просто нужниками. Вот эти русскославы и ходят все кругом этого места, где таится клад, с припевами, заговорами, заклятьями и проклятьями Западу, а своего ничего вызвать и осуществить не могут. Один пар бьет столбом из-под обетованной их земли.
Эти руссославы гораздо более немцы, чем русские.
* * *
Вигель, в записках своих упоминая о Козодавлеве, говорит, между прочим, что он был добрый человек и даже не худой христианин, но видно было из всего поведения и поступков его, что он более надеялся на милосердие Божие, нежели на правосудие.
В записках его много злости и много злопамятности, но много и живости в рассказе и в изображении лиц. Верить им слепо, кажется, не должно. Сколько мог я заметить, есть и сбивчивость, и анахронизмы в событиях. К тому же он многое писал по городским слухам, а не всегда имел возможность проникать в сокровенные причины описываемых им явлений, а мы знаем, как слухи служат иногда неверными и часто совершенно лживыми отголосками событий. Со всем тем, эти записки очень любопытны и Россия со всеми своими оттенками политическими, правительственными, литературными, общежительными, включая столицы и провинцию, и личностями отражается в них довольно полно, хотя, может быть, и не всегда безошибочно и не погрешительно верно. Вчера вечером читал он у нас многие отрывки из них. (17 октября 1847.)
* * *
5 декабря 1848. Сейчас узнаю, что я пожалован кавалером ордена св. Станислава 1-й степени. Видно, что я устарел и что дух во мне укротился. Эта милость меня не взбесила, а разве только немножко сердит. Во все продолжение службы моей я только и хлопотал о том, чтобы не получать крестов, а чтобы срочные оказываемые мне милости обращались в наличные награждения, а не личные.
При графе Канкрине я успевал в этом. Мои нынешние сношения с министром уже не таковы. Ордена, в некотором отношении, похожи на детские болезни: корь, скарлатину. Если не перенесешь их в свое время, то есть в молодых летах, то можешь подвергнуться действию их на старости лет.
Бог помиловал меня до нынешнего дня, но неминуемая скарлатина 1-го Станислава постигла меня на 56-м году жизни моей. Поздненько, но не можно сказать: лучше поздно, чем никогда. Всего забавнее, всего досаднее, что должно еще будет благодарить за это. Прошлого года по представлению моем не дали 1-го Станислава Скуридину, потому что я его не имел. Теперь могу привить его другим. La plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle а (Самая красивая девушка не может подарить более того, чем она обладает).
Впрочем, все это, может быть, к лучшему. Лишениями, оскорблениями по службе нельзя было бы задеть мое самолюбие. Провидение усмиряет мое самолюбие ниспосылаемыми мне милостями. Все мои сверстники далеко ушли от меня. Отличие, полученное мной, ни от кого меня не отличает, а, напротив, более прежнего записывает в число рядовых и дюжинных. Когда я ничего не получал, я мог ставить себя выше других, или по крайней мере поодаль, особняком; теперь, получив то, чего не мог не получить, самолюбию моему уже нет никакой уловки, никакой отрады, оно подрезается под общую мерку и должно стать в уровень со всеми. Боюсь только, чтобы не оскорбился Политковский, видя, что я догнал его.
6 февраля 1849. Представлялся сегодня государю благодарить за Станислава. Кажется, с 39-го или с 40-го года не был я во дворце. Государь говорил мне о моей пирушке в честь Жуковского и о желании, чтобы он скорее возвратился. Я нашел, что государь очень переменился в лице. Что-то как будто растянулось в чертах и поблекло.
* * *
Адам Смит, самый ревностный проповедник свободной торговли, умер главным управляющим таможен шотландских.
* * *
Титов передал мне слово, сказанное Карамзиным о политической экономии: «Эта наука – смесь истин, известных каждому, и предположений весьма гипотетических».
* * *
Франклин провел несколько из последних лет жизни своей во Франции. Перед отъездом, когда уговаривали его остаться в Париже, он отвечал друзьям своим: «Я очень приятно провел мой вечер, когда настает час ложиться спать, надобно каждому возвратиться домой. Мне очень тяжело уезжать, часто даже колеблюсь; но надеюсь, что исполню то, что прилично».
Можно каждому применить эти слова к жизни своей; перед тем, чтобы вкусить вечный покой, хорошо бы каждому возвратиться домой, то есть в себя, и отказаться от света и от всех житейских попечений и удовольствий. Так сделал Нелединский.
* * *
Москва, 5 октября 1860. Два раза был я у Ермолова. Ум и память еще очень свежи, но иногда говорит как-то с трудом, тяжело и невнятно. Разговор зашел об умении выбирать людей и о том, как редко это умение встречается в правителях…
При Павле, когда Ермолов служил в Петербурге по артиллерии, он неизвестно за что был сослан в Калугу. Через несколько времени объявлено ему высочайшее прощение. Он возвращается в Петербург. Спустя две недели сажают его в крепость в казематы – также не сказавши ему ни слова о причине и поводах к заключению его. Просидел он там два месяца – и сослан на жительство в Кострому, где нашел сосланного Платова.
Говорили о смерти Хомякова. «Очень жаль его, большая потеря, да нельзя не пожалеть и о семействе его», – тут кто-то сказал. «Нет, – продолжал Ермолов, – что же, он семейству оставил хорошее состояние, а нельзя не пожалеть о ***, который без него остался при собственных средствах своих, то есть дурак дураком».
* * *
После причащения Бажанов спросил императрицу Александру Федоровну, простила ли она всем, против которых имела она злопамятство. Она призадумалась и отвечала: «Нет». Духовник увещевал ее держаться христианского правила.
«Если так, – сказала она, – прощаю австрийскому императору все зло, которое он сделал покойному императору и нам».
Это повторение того, что было при кончине Николая Павловича. Когда сама императрица спросила его, не осталось ли на душе его озлобления против кого-нибудь, он отвечал: «Нет, прощаю и австрийскому императору, который так жестоко переворачивал нож в ране, им нанесенной мне, и готов молиться за него и за султана», – последнее слово проговорил он улыбаясь. (Рассказано мне Блудовым, который слышал это от императрицы Александры Федоровны.)
* * *
Книжка 12. (1838–1843)
10 июня 1843. Ревель. Прочитал «Князя Курбского» Бориса Федорова; читается, хотя и с трудом, по историческим подробностям, но романтическая и драматическая часть – ребячество; а славный сюжет, достойный Вальтера Скотта.
* * *
27 июня 1843. Приехал в Мануилово к Мещерским в 11 часов утра. В Мануилове крестьяне не говорят: дождь идет, дождь шел, а дождь летит, летел.