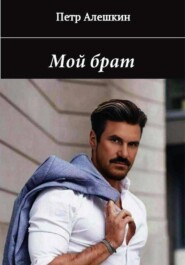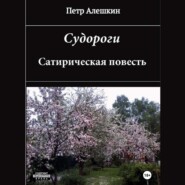По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тамбовский Робин Гуд
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну да, ты такой привязчивый… мне стыдно перед девчонками было. Ты забыл, что мне всего четырнадцать лет было. А тебе аж семнадцать! Старик! – Наташа засмеялась и снова положила голову на его плечо.
– И сейчас, перед телевизором, когда ты увлеклась игрой, лицо твое стало таким восторженным, по-детски наивным, непосредственным, ты так напомнила мне ту давнюю, четырнадцатилетнюю, что у меня сердце защемило… Почему я тебя потерял, не искал после армии? Впрочем, понятно почему. Причин много… И взаимности не было, думал, что не нравлюсь тебе, и вернулся из армии иным человеком. Дома нищета, пьянь. Денег колхоз не платит. Многие мужики новые деньги никогда не видели, в руках не держали. В институт без денег не поступишь, все платное… Я узнал, где ты, знал, что в Москве в университете культуры учишься. Я, может быть, в Москву на стройку только из-за того, что ты здесь, поехал.
– Ты на стройке работал? – удивилась Наташа. – Давно?
– Из Уварово многие сюда подрабатывать приезжают. Больше нигде заработать на жизнь нельзя. Везде безработица. Я тоже уговорил старшего брата податься сюда месяца на два. У него семья: жена, маленькая дочка. Раньше он пахал на химзаводе, пока завод не остановили. Кормились только огородом матери: картошки нароют, помидоров-огурцов насолят, закроют в банки. Тем и жили.
– Как и все у нас, – вздохнула Наташа.
– Ну да. Приехали мы с ним в Москву, довольно быстро нашли работу на стройке бетонщиками, по пять тысяч рублей в месяц нам обещали, плюс кормежка бесплатная в столовой да за жилье платить не надо, жить можно было в вагончике на стройке. Но работать нужно было по двенадцать часов и без выходных. Как мы счастливы были! Аж по десять тысяч домой привезем! Счастливчики! До смерти рады были этим грошам за работу от зари до зари. Но за такие деньги в Уварово нужно пахать год, и то, если сильно повезет с работой. Поэтому можешь нас понять, с каким энтузиазмом мы пахали. Оба молодые, здоровые, мне двадцать лет, только из армии явился, а брату, как мне сейчас – двадцать четыре. Отпахали два месяца, ждем расплаты, радуемся, кучу денег получим… Я мечтал сразу ехать тебя искать, мол, при деньгах прикачу, мороженым угощу, – усмехнулся горько Игорь над собой. – Приезжает начальничек ихний, который нас нанимал. Спрашивает: «Сколько до Уварово обратный билет стоит?» «Триста рублей!» – отвечаем. Он вытащил бумажник, отслюнявил шесть сотенных и протягивает нам с улыбочкой…
Игорь умолк надолго. Наташа, поглаживая его по груди рукой, ждала, когда он продолжит рассказ, но он молчал. Наконец она не выдержала, спросила:
– Так и не заплатил?
– Почему? Заплатил, куда он денется, – спокойно ответил Игорь. – Заплатил, брат в Уварово вернулся, а я в Москве остался…
– Почему же меня не нашел?
– Так… сложилось, – неопределенно ответил Игорь.
– Ты его убил?
– Кого?
– Ну, того, кто деньги зажал. – Наташа тихонько водила рукой по его груди и изредка целовала в плечо.
Протасов был расслаблен. Ему почему-то вспоми— налась мать, вспоминалось, как она, когда он был маленький, лет пяти-шести, ласкала его, держа на коленях. Тогда казалось ему, что руки у матери пушистые, как шерсть котенка. Точно такими сейчас казались ему руки Наташа, пушистыми, нежными, огненными. От ее прикосновений ему было грустно и томительно, грустно до слез. Но он не хотел, чтобы Наташа поняла его состояние, отвечал ей спокойно.
– Нет. Это они хотели меня убить. И убили бы. Рука не дрогнула. Не я первый, не я последний. А я хотел просто взять свои заработанные деньги…
– Отслюнявил он вам шестьсот рублей, а вы?
– Я говорю ему, нам по десять тысяч за два месяца положено, мы на такую сумму подряжались. За такую сумму от зари до зари без выходных пахали. «Шустер! – ухмыльнулся, повернулся начальничек к амбалу, с которым прикатил на крутой машине. – На десять кусков губы раскатал!» Амбал гыгыкнул в ответ. «Вы пахали, – смеется начальничек, – а мы вас кормили, обували-одевали, спецовочка-то наша, спать ложили! Вот ваша зарплата, – снова протягивает он шестьсот рублей, – берите и уматывайте подобру-поздорову, а то калеками домой вернетесь!» Амбал позади него ехидно так гыгыкает. Я слышал, что на стройках в Москве кидают деревенских лохов, таких, как мы. В глазах у меня потемнело, и как только он сказал, что мы из Москвы калеками можем домой вернуться, я из Чечни здоровым вернулся, а тут, ну не выдержал я, врезал начальничку вполсилы. Он с копыт на руки к амбалу. Амбал его удержал на ногах, в сторонку отстранил и на меня. Ему-то я, не сдерживаясь, ткнул так, что он минут на пять вырубился. Я начальничку, взял его за кадык, говорю: «Давай зарплату или горло твое через миг собакам выброшу!» Брат мой опомнился, повис на мне. «Не надо! – кричит. – Нас посадят! Паспорта-то у них!» Они паспорта наши забрали, когда на работу принимали. Я заведенный был, не слушал, оттолкнул брата, еще немножко примочил начальничка под дых для прочищения мозгов, вытащил у него из кармана наши паспорта, бумажник. В нем всего пять тысяч оказалось. Начальничек немного отошел, захрипел, что он человек подневольный, мол, сам на зарплате, это директор приказал так с нами расплатиться. «Где директор?» – спрашиваю. «В офисе!» «Вези в офис!» «Там тебя пришьют», – хрипит он. «Посмотрим! – говорю. – Вези!» Шофер-амбал все в отрубе. Раскачали мы его, полили водичкой, напоили, привели в чувство. Я брату говорю: «Кати на Павелецкий вокзал. Жди меня в кассовом зале. Я тебя найду, домой с деньгами поедем!» А сам с этими – в машину. Приехали к особнячку где-то в Замоскворечье. Особнячок такой симпатичный, аккуратненький, двухэтажный, как игрушка раскрашенный. Железные ворота автоматические, с охраной, распахнулись перед нами. Свои едут. Вкатили во двор к парадному входу, вылезли из машины. Только вышли, поднялись втроем к охране у входа, Амбал как заорет: «Держите его!» Пришлось его мне снова вырубать. Охранники на секунду опешили, не успели опомниться, как оба на полу оказались. Начальничек бежать внутрь, я за ним. Догнал на лестнице на второй этаж. Помню, чистенькая такая лестница из желтого мрамора, по ступеням, посреди зеленая ковровая дорожка расстелена, а рядом фонтанчик бьет из зелени, журчит. Схватил я начальничка за шиворот и говорю тихонько: «Еще раз дернешься, без головы останешься! Веди к директору!» Он дрожит в моих руках, еле хрипит: «Нам конец, конец…» «Веди!» – встряхнул я его яростно. А сам, помню, хоть и в напряжении был, но спокоен, голова ясная. Пошли мы по лестнице на второй этаж, входим в приемную. Два горбоносых орла-кавказца поднимаются навстречу, ухоженные, упитанные, в пиджаках. «К директору», – говорю, улыбаюсь я дружески. «Вы записаны?» – с кавказским акцентом спрашивает один. Вид у него настороженный, внимательный, подозрительный. «Вот он записывался», – киваю я на начальничка. А тот дрожит, слова сказать не может. Понял я тогда по глазам орлов, что не видать мне директора. А сзади шум слышу. Видно, охранники с первого этажа очухались. Что делать? Пришлось, пока орлы не поняли меня, врезать им по разочку. Ребята тренированные оказались, вырубить, сбить с ног ни одного не удалось, но зато от двери в кабинет они отскочили. Я сходу нырнул туда, вижу, в кабинете два хмыря сидят. Один – лысоватый, чистенький, за столом, другой, боровок с налитыми щеками, сбоку, в кресле. Кабинет большой. Я по нему, по ковру бегом к лысому. Вскочил на стул, потом на стол перед директором, прыгнул на лысоватого, сбил его на пол вместе с креслом, придавил к полу за горло и ору: «Зарплату давай!» Он побелел, язык высунул, ворочает им из стороны в сторону, и тут орлы на меня навалились. Пришлось отпускать директора. Ох, и помотались мы по кабинету! Между делом я успел разочек, вкось, смазать директору по зубам. Губы разбил. Восемьсот долларов зарплаты нам, гады, пожалели, а в кабинете мы побили мебели тысяч на пять, если не больше. Снизу охранники подоспели, злые, у одного челюсть выбита, у другого нос перебит. Скрутили меня, попинали. Допрашивать стали: откуда, что надо, кто послал? Я прошепелявил разбитыми губами все как есть, что из Тамбова приехал на заработки, и как со мной обошлись. О брате молчу, не впутываю, понял, зарплаты не видать. Хоть бы живым выпустили. Я рассказываю, а один из орлов-кавказцев, из приемной, материться, перебивает, вопит: «Михалыч, дай его мне! Я его на куски рвать буду!» Глаз у него один заплыл, палец, видно, сломан. Он его все к груди прижимает, кряхтит. А Михалыч сам окровавленный платок к губам прикладывает.
Выслушал Михалыч меня и прошипел орлу с подбитым глазом:
– В подвал его, прикончить!.. И никого не пускайте в офис, пока в порядок не приведете, – обвел он рукой кабинет.
– Михалыч, погоди, не торопись! Не нравится мне этот бетонщик! – подал вдруг голос боровок. Он, кажется, ни разу не шевельнулся в своем кресле, пока мы по кабинету мотались.
– Потому и тороплюсь, что он мне не нравится, – буркнул в ответ Михалыч. – Дожил! Бетонщики морду квасить стали. Чего ждать дальше-то, а? И я терпеть должен кровную обиду, – снова коснулся он, морщась, платком разбитой губы. – Если он жив останется, ты меня уважать будешь?
– Михалыч, будь мудрее, – снова спокойно запыхтел боровок. – Ты веришь, что простой бетонщик прошел всю твою охрану? Если веришь, гони охрану. Он тамбовский, – как-то значительно поднял пухлый палец боровок.
Михалыч опустился в свое кресло, глядя на боровка, и буркнул:
– Ты думаешь?..
– Все может быть. Я сейчас позвоню. – Боровок полез в карман за мобильником.
– Зачем ему надо? – прошепелявил разбитой губой Михалыч.
– Кто знает… А может, от Семьи идет…
– В подвал! – рявкнул Михалыч своим охранникам, увидев, что они слушают, ждут, держат меня под мышки. Они поволокли меня из кабинета, а Михалыч крикнул им вслед: – Привяжите, но не трогайте! Успеете!
В подвале меня привязали к деревянному креслу. Когда привязывали, орел с подбитым глазом все ныл, приговаривал со злобным наслаждением:
– Сейчас я тебя резать буду! По кусочкам, по кусочкам, на шашлык!
Привязали, и он врезал мне под дых. Я чуть сознание не потерял. Тело и без того сплошная боль, на одной воле держался. Еле отдышался… Понимаешь, убивают, а разум все не хочет верить, что конец пришел. Видно, человек, приговоренный к повешению, даже тогда, когда у него веревка на шее, через миг скамейку из-под ног выбьют, все верит, что он не умрет, что вот-вот спасенье придет: палач передумает, судьи решенье отменят.
– Это для разминки! – предупредил орел с подбитым глазом. – Ох, и натешусь я сейчас!
Глаза у него так и светятся радостью, предвкушением. Изверг! Но больше не бил, садист поганый. От жуткой боли, я ничего не чувствовал. Но говорят, что лучше боль физическую терпеть, чем душевную. Помню, мысль металась в голове, работала, подыхать не хотелось. Вижу, только двое со мной осталось: орел с подбитым глазом и амбал, который с начальничком на стройку приезжал. Исподтишка оглядываю подвал: нельзя ли выбраться? Вялым, беспомощным прикидываюсь. Слышу, заверещал мобильник у амбала. Он его слушает и обращается ко мне:
– Ты из Тамбова или из района?
– Из Уваровского района, – отвечаю.
Он сказал это в трубку и ждет, слушает, потом снова спрашивает:
– Из какой деревни?
– Из Масловки…
Он повторил в трубку, подождал и ко мне:
– Фамилия как?
– Протасов.
Больше ничего не спросил, послушал, выключил мобильник и сунул в карман.
– Чего там? – нетерпеливо спросил орел с подбитым глазом. Он дрожал от предвкушения потехи над беззащитным человеком, над своим обидчиком.
– Ждать и не трогать, – хмуро бросил амбал.
– Чего ждать, чего ждать! – занервничал орел.
– Не дергайся, – остановил его амбал. – У меня, может, сильнее твоего руки чешутся… Велено ждать, будем ждать. Успеем! Не сбежит! Михалыч, не отпустит!
8
Ждали с полчаса, может, чуть больше. Они с меня глаз не спускали. Чуть шевельнусь, как псы напрягаются, в стойку встают. Слышим, дверь открылась. Шаги. Спускаются двое. Сам Михалыч входит, за ним – худощавый, жилистый, седой мужик. Волосы на голове сплошь белые, одет хорошо: костюм, галстук, но очень странный на вид. Я потом его разглядел, а сразу не понял, почему от него тревогой, чуть ли не ужасом веет. Левая половина лица у него, как мертвая, неподвижная, кажется, левый глаз не моргает совсем. И большой след от шрама. Смотришь слева на него – не по себе становится, смотришь справа, нормальный мужик, бизнесмен или менеджер крупный. Но вначале он ко мне все левой стороной держался. Вошел, глянул на меня своим жутким глазом и говорит амбалу:
– Развяжи.