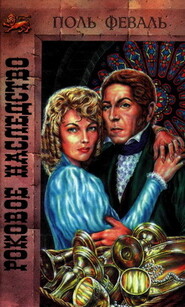По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Карнавальная ночь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Столь разнообразные события взбудоражили обитель.
Со времен основания ордена любопытство сестер не подвергалось подобному искушению. Мать Франсуаза Ассизская ни перед кем не отчитывалась в своих странных поступках. Между ней и остальными обитательницами монастыря всегда существовала непроницаемая завеса. Но кое-какие слухи просочились, а воображению сестер, и без того взволнованному присутствием раненого в приемной, достаточно было самой малости, чтобы строить самые невероятные догадки.
Жизнь постаревшей принцессы, отрекшейся от мира, похоронившей себя заживо в монастырских стенах, всегда возбуждала интерес сестер. Они чувствовали, что пожилая монахиня скрывает какую-то тайну, хотя доказательств тому отыскать не могли. Мать Франсуаза Ассизская, отрекшись от мира, жила покаянием и молитвой, но с ней обращались, как с королевой, а регулярное появление кареты герцога, запряженной четверкой лошадей, неизменно становилось событием.
И вот к прежней тайне добавилась новая. Кем был этот молодой человек? Что связывало его со знатным семейством, переживавшим ныне упадок, ибо существование единственной наследницы, маленькой принцессы Ниты, грозило исчезновением славному имени?
Проводив нарочного, мать Франсуаза Ассизская, казалось, впала в прежнюю невозмутимость. Всю последующую неделю она не появлялась в приемной, правда, сиделка каждое утро приходила к ней с докладом. Однако странная вещь, внутрь кельи Мари Даво не допускали. Пожилая монахиня выслушивала ее, стоя на пороге, а сиделка оставалась в коридоре.
В воскресенье вечером, на двенадцатый день пребывания Ролана в монастыре, в часовне Пресвятой Девы, начался девятидневный молитвенный обет, в котором всем сестрам было предложено принять участие. Накануне сиделка доложила матери Франсуазе Ассизской: «Сегодня утром он пошевелился во сне, а когда проснулся, то открыл глаза, и мне показалось, что он сейчас заговорит. Но когда он увидел, что я слежу за ним, взгляд его снова потух».
Пожилая монахиня на минуту задумалась. Мари Даво получила луидор и наставление: «Удвойте бдительность».
В тот же день больного посетил отец-иезуит, дабы облегчить ему душевные муки. Священник, по его собственному выражению, нашел больного «потолстевшим» и посвежевшим. Рана заживала хорошо, что обещало скорое выздоровление. Но было бы больше толку, если бы священник обратил свою речь к камню. Молодой больной не подавал никаких признаков жизни, он был глух, слеп и нем.
Мать Франсуаза Ассизская предупредила сиделку, чтобы та держала язык за зубами и никому не рассказывала о раненом. Тщетное предостережение! Луидор, конечно, хорошая штука, но он становится вдвое дороже, если показать его соседям да еще похвастаться неожиданно привалившим счастьем, чтобы те позеленели от зависти.
Мари Даво болтала и хвалилась, пистоль превращался в ее рассказах в сотню франков. Сиделка обитала в тихом квартале, но жизнь там текла на деревенский лад. Улица Вожирар пришла в волнение и разговорилась с улицей Шерш-Миди, та дала знать Севрской улице. Длинные старинные улицы наполнились слухами, к вящей радости их обитателей, любимым времяпрепровождением которых были пересуды. Судачили у ворот бесчисленных монастырей и часовен, церковные сторожа разносили «сведения». История о Буридане, прекрасном, как ангел, и более загадочном, чем «незнакомцы» из мелодрам, обрастая все новыми подробностями, распространилась по всему кварталу от театра Одеон до больницы Красного Креста, достигнув даже мостов, откуда шла прямая дорога на улицу Бак.
Но вот что удивительно: мадам Тереза, мать Ролана, жила в доме № 10 по улице Святой Маргариты в самом центре квартала, обсуждавшего приключения Буридана. Нам известно, как страстно любила она своего сына, последнее, что у нее осталось. Нам известно, сколь важное значение, возможно, преувеличенное, придавала она бумажнику с двадцатью тысячами франков, врученному Ролану. Почему же она до сих пор никак не проявила себя?
Конечно, болезнь и бедность делают людей бессильными, но мадам Тереза не была настолько беспомощна, чтобы не попытаться действовать в столь серьезных обстоятельствах. Она всегда могла обратиться к своей соседке, мадам Марселине, или к великодушному доктору Абелю Ленуару, готовому помочь не только словом, но и делом.
Потеря любимого сына относится к тем из ряда вон выходящим событиям, которые и парализованного поднимут на ноги, а мать Ролана не была навечно прикована к постели и голова у нее оставалась ясной. Воздух вокруг нее кишел слухами, история о несчастном раненом успела превратиться в ходячую байку, самый смак которой заключался, по общему мнению, в костюме молодого человека. Почему же мадам Тереза хранила молчание и ничего не предпринимала? Первый встречный мог бы поведать ей о заколотом Буридане, да и в полицию никому не заказано обращаться. Впрочем, любой прохожий знал об этой истории больше, чем комиссар полиции.
Ответ на этот вопрос существует, и он поможет нам понять поведение Ролана, а также разгадать медицинскую тайну, повергшую в недоумение хирурга, лечившего молодого человека, ибо Ролан вот уже несколько дней ломал комедию.
Рана его была чрезвычайно серьезной. Кинжал Жулу вонзился слишком глубоко в опасной близости от сердца, и в первый момент никто не мог бы поручиться, что Ролан выживет. В течение первой недели жизнь едва теплилась в нем. В то время малейшее усилие пошло бы во вред организму, медленно сращивавшему разорванные ткани, и привело бы к смерти. Хирург был прав, когда запретил перевозить Ролана. Впрочем, врач всегда прав, рекомендуя покой и тишину, благоприятствующие основному принципу человеческой природы – бороться с разрушениями. Так что, когда велось следствие, раненый действительно не мог ни слышать, ни говорить.
Но вот уже несколько дней, как Мари Даво заподозрила, что раненый видит, слышит и живет в полном смысле этого слова. Если бы он захотел, он смог бы выдержать допрос.
Но он не хотел.
Однажды ночью, когда Даво добросовестно бдела, читая роман Поля де Кока, прикрытый молитвенником, Ролан очнулся от тяжелого сна. Он словно заново родился. Он смутно понимал, где он и что с ним, но не мог ни пошевелиться, ни заговорить.
Роман был, видимо, очень забавным, время от времени сиделка разражалась заливистым смехом. Ролана мучили жажда и страх.
Постепенно из глубин сознания выплыло имя матери. Сердце Ролана сжалось, пересохшие губы затрепетали, словно он звал мать.
Ее имени оказалось достаточно, чтобы вспомнить все, что с ним случилось. Словно во сне, перед ним прошли события последней карнавальной ночи. Он увидел ослепительно прекрасную Маргариту, почувствовал пьянящий аромат пылкого и странного свидания, а затем ужас неожиданной развязки, и наконец ощутил, как нож вонзается ему в грудь. Ролан заснул, совершенно измученный.
Тогда ему не пришло в голову притворяться. Эта мысль возникла у него на следующий день, когда первым, кого он увидел и услышал, был посыльный из прокуратуры, пришедший узнать, возможно ли возобновить допрос пострадавшего. Следствие застопорилось самым печальным образом, и отправители правосудия с нетерпением ожидали показаний жертвы. Услышав такое, Ролан вновь испытал приступ страха. Но теперь он знал, чего он страшится: его пугала мысль о матери.
Ролан догадался, что находится в приюте. В каком именно, его не интересовало, подробности казались неважными, когда он понял главное: вершители правосудия не отпустят его с миром, пока не заведут дело на человека, ранившего его. Ролану представлялась его бедная мать, больная, беспомощная, и он тут же принял решение: сбежать – сбежать или умереть.
Решение было столь ясным и твердым, словно явилось результатом долгих раздумий. Мать и правосудие! Два этих понятия казались несовместимыми, и желание убежать становилось все сильнее, все настоятельнее. Его мать даже в несчастье умела сохранять благородство и гордость. А правосудие, эта совесть народа, вещает так громко и задевает так больно даже тех, кого оно призвано защищать!
Для правосудия найден хороший символ: рука, огромная каменная рука, холодная, суровая, неподкупная, она не хочет и не может действовать осторожно. Эта рука срывает все покровы, используя не только свое право, но и выполняя свой долг, ибо слабости ей не простят. Она должна всех и вся обнажить. Но каждое преступление предполагает наличие двоих: преступника и жертвы. Тем хуже для жертвы!
Тогда все предстает в ином свете, или, если хотите, в своем истинном свете. Малодушные иллюзии исчезают вместе со спасительными умиротворяющими словами. Действительность становится суровой и бесстыдной, словно вы оказались в покойницкой.
Ролану привиделся судья, подводящий итог следствию. Указывая на него пальцем, судья говорил: «Этот человек был убит, когда выходил от женщины легкого поведения. При нем было двадцать тысяч франков. А его мать погибает в нищете!»
И что, если подобное обвинение достигнет ушей его матери?!
Существовало лишь два способа избежать беспощадного публичного обвинения: сбежать или умереть, так и не назвав себя и не проронив ни слова.
Человеку рассудительному оба способа показались бы нелепыми и невозможными. Но Ролан отвергал лишь один: смерть. Он с глубоким раскаянием сознавал, что в долгу перед матерью, и хотел жить ради нее.
Оставался побег. Он с трудом мог пошевелиться, лежа в постели, однако мысль о побеге, однажды зародившись, более не отпускала его. Таков был Ролан: отважный, терпеливый и сильный.
Он сделал попытку встать. Ослабевшее тело не слушалось его. Тогда он воззвал к разуму.
Но тут новая забота омрачила его думы. Ролан не знал, сколько дней прошло после трагедии. Он преувеличивал срок, полагая, что находится в приюте непростительно долго. И перед ним встал вопрос, который мы уже задавали себе: почему мать не ищет его? А если ищет, то почему до сих пор не нашла? Ответ был прост. Ролан вспомнил доктора Абеля Ленуара, говорившего: «Ее спасет надежда». Что остается одинокой больной женщине? Только молиться!
Ролан молился и плакал. Рука невольно потянулась утереть слезу – и радость волной захлестнула юношу! Его рука, уперевшись в матрас, поднялась. Он почувствовал, как напряглись мускулы. Ролан решил, что свершилось чудо.
За чудом последовал обморок, и сиделка отправилась к матери Франсуазе Ассизской, дабы уведомить, что раненый совсем плох. Это случилось в среду, на пятнадцатый день пребывания Ролана в обители.
Ныне никто не сомневается, что у медицины есть бесценная помощница – гимнастика. Сама по себе гимнастика не лечит, но она помогает излечению столь впечатляющим образом, что порою ей начинают приписывать решающее значение, несправедливо отнимая заслуги у лекарств. Если бы гимнасты, шарлатаны или невежды не подрывали уважения к их искусству, раздавая невыполнимые обещания и внушая несбыточные надежды, гимнастика давно бы вошла в каждый дом, что принесло бы огромное благо общественному здоровью.
Лучше всего заниматься гимнастикой в гимнастическом зале, и, конечно, господин Триа не зря выдумал тысячу и одно приспособление, упражняющие каждый мускул нашего двигательного механизма. Но, в крайнем случае, гимнастикой можно заниматься вне зала и без специальных инструментов.
Если бы у Ролана был Триа и его приспособления, его дела пошли бы намного быстрее. Но у него ничего не было, потому он делал то, что мог.
Заметим, что все в этом мире является гимнастикой, и каждый из нас постоянно занимается ею, сам того не замечая, упражняя тело и ум.
Не претендуя на научность определения с точки зрения медицины, а также вступая в некоторое противоречие с модной ныне философией, мы полагаем, что гимнастика – это прибавочная стоимость, образующаяся от пользования всякой вещью. Лопата, побывавшая в деле, копает лучше, чем новая; вскопанная земля повышается в цене; рука, поработавшая лопатой, обретает силу. Разве это не замечательно, не утешительно, не общественно полезно и не подразумевает божественный промысел? Разве не в этом заключается великий смысл всякого труда?
Не следует путать пользование и износ, эти две вещи противоположны друг другу, как жизнь и смерть. Разумеется, все мы смертны и победа изнашивает нас не меньше поражения, тут уж ничего не поделаешь. Но мы всегда предпочитаем победу поражению.
Гимнастика представляет собой прибавочную стоимость, полученную в результате усилий или активного пользования. Она, собственно, ряд, усилий, направленных на получение вожделенной прибавочной стоимости.
Любая мать может припомнить, как первые попытки ребенка заняться гимнастикой вызвали у нее слезы радости. Белокурое дитя уперлось пухлыми ножками в пол. Ребенок покачнулся и чуть было не упал. Отец улыбнулся: ребенок сделал первый шаг. Второй шаг был уже более твердым, а третий наполнил счастливую мать гордостью. Через месяц дитя бегает вовсю! Затем губы и небо начинают упражняться в звуках. Родители в восторге! А как славно ваш ребенок изъясняется спустя несколько лет, не правда ли?
То же самое верно и для игры на фортепьяно. Маленькие пальчики неловки, слабы, непослушны, когда они впервые тычут в неподатливые клавиши, с трудом добираясь до конца гаммы до мажор, лишенной бемолей и диезов и прямой, как шоссе Сен-Дени. Разве не удивительно, что приходит время, когда маленький пианист, закрыв глаза, исполняет сложные пьесы? Но музыкальные упражнения – сущие пустяки по сравнению с теми усилиями, которые необходимо предпринять, дабы из эльзасского новобранца сделать полковника!
Ролан занимался гимнастикой, сам того не подозревая, как господни Журден не знал, что говорит прозой. Юноша делал упражнения, лежа в постели, без ведома сиделки и хирурга. Рисковал ли он? Возможно. Однако затея увенчалась успехом.
Разумеется, ему приходилось нелегко. Смысл гимнастики заключается в разнообразии и постоянном умножении движений, а Ролан находился под неусыпным наблюдением.
К счастью для него, Мари Даво, движимая благодарностью или жаждой наживы, или же тем и другим чувствами одновременно, приняла знаменательное решение. До сих пор она каждый день отдыхала по шесть часов, и тогда ее сменяла послушница. Даво, якобы опасаясь упустить нечто важное, отказалась от отдыха, дабы не терять из виду раненого ни на минуту. В результате восемь часов из двадцати четырех она крепко спала, несмотря на бесчисленные чашки черного кофе, призванного побороть Морфея.
Мы охотно даем себе поблажки. Вот и Даво полагала, что, когда больной заснет, она вполне может вздремнуть пару минут.
Но именно этого Ролан и ждал. Когда Даво бодрствовала, он наслаждался сном, но стоило ей закрыть глаза, гимнастика шла своим ходом.
Сначала он делал легкие, неуловимые для постороннего глаза движения, стараясь не разбередить все еще не затянувшуюся рану. Однажды ночью, когда сиделка, напившись кофе, храпела, Ролан сел в постели. Он был смертельно бледен, упражнение утомило его.
Со времен основания ордена любопытство сестер не подвергалось подобному искушению. Мать Франсуаза Ассизская ни перед кем не отчитывалась в своих странных поступках. Между ней и остальными обитательницами монастыря всегда существовала непроницаемая завеса. Но кое-какие слухи просочились, а воображению сестер, и без того взволнованному присутствием раненого в приемной, достаточно было самой малости, чтобы строить самые невероятные догадки.
Жизнь постаревшей принцессы, отрекшейся от мира, похоронившей себя заживо в монастырских стенах, всегда возбуждала интерес сестер. Они чувствовали, что пожилая монахиня скрывает какую-то тайну, хотя доказательств тому отыскать не могли. Мать Франсуаза Ассизская, отрекшись от мира, жила покаянием и молитвой, но с ней обращались, как с королевой, а регулярное появление кареты герцога, запряженной четверкой лошадей, неизменно становилось событием.
И вот к прежней тайне добавилась новая. Кем был этот молодой человек? Что связывало его со знатным семейством, переживавшим ныне упадок, ибо существование единственной наследницы, маленькой принцессы Ниты, грозило исчезновением славному имени?
Проводив нарочного, мать Франсуаза Ассизская, казалось, впала в прежнюю невозмутимость. Всю последующую неделю она не появлялась в приемной, правда, сиделка каждое утро приходила к ней с докладом. Однако странная вещь, внутрь кельи Мари Даво не допускали. Пожилая монахиня выслушивала ее, стоя на пороге, а сиделка оставалась в коридоре.
В воскресенье вечером, на двенадцатый день пребывания Ролана в монастыре, в часовне Пресвятой Девы, начался девятидневный молитвенный обет, в котором всем сестрам было предложено принять участие. Накануне сиделка доложила матери Франсуазе Ассизской: «Сегодня утром он пошевелился во сне, а когда проснулся, то открыл глаза, и мне показалось, что он сейчас заговорит. Но когда он увидел, что я слежу за ним, взгляд его снова потух».
Пожилая монахиня на минуту задумалась. Мари Даво получила луидор и наставление: «Удвойте бдительность».
В тот же день больного посетил отец-иезуит, дабы облегчить ему душевные муки. Священник, по его собственному выражению, нашел больного «потолстевшим» и посвежевшим. Рана заживала хорошо, что обещало скорое выздоровление. Но было бы больше толку, если бы священник обратил свою речь к камню. Молодой больной не подавал никаких признаков жизни, он был глух, слеп и нем.
Мать Франсуаза Ассизская предупредила сиделку, чтобы та держала язык за зубами и никому не рассказывала о раненом. Тщетное предостережение! Луидор, конечно, хорошая штука, но он становится вдвое дороже, если показать его соседям да еще похвастаться неожиданно привалившим счастьем, чтобы те позеленели от зависти.
Мари Даво болтала и хвалилась, пистоль превращался в ее рассказах в сотню франков. Сиделка обитала в тихом квартале, но жизнь там текла на деревенский лад. Улица Вожирар пришла в волнение и разговорилась с улицей Шерш-Миди, та дала знать Севрской улице. Длинные старинные улицы наполнились слухами, к вящей радости их обитателей, любимым времяпрепровождением которых были пересуды. Судачили у ворот бесчисленных монастырей и часовен, церковные сторожа разносили «сведения». История о Буридане, прекрасном, как ангел, и более загадочном, чем «незнакомцы» из мелодрам, обрастая все новыми подробностями, распространилась по всему кварталу от театра Одеон до больницы Красного Креста, достигнув даже мостов, откуда шла прямая дорога на улицу Бак.
Но вот что удивительно: мадам Тереза, мать Ролана, жила в доме № 10 по улице Святой Маргариты в самом центре квартала, обсуждавшего приключения Буридана. Нам известно, как страстно любила она своего сына, последнее, что у нее осталось. Нам известно, сколь важное значение, возможно, преувеличенное, придавала она бумажнику с двадцатью тысячами франков, врученному Ролану. Почему же она до сих пор никак не проявила себя?
Конечно, болезнь и бедность делают людей бессильными, но мадам Тереза не была настолько беспомощна, чтобы не попытаться действовать в столь серьезных обстоятельствах. Она всегда могла обратиться к своей соседке, мадам Марселине, или к великодушному доктору Абелю Ленуару, готовому помочь не только словом, но и делом.
Потеря любимого сына относится к тем из ряда вон выходящим событиям, которые и парализованного поднимут на ноги, а мать Ролана не была навечно прикована к постели и голова у нее оставалась ясной. Воздух вокруг нее кишел слухами, история о несчастном раненом успела превратиться в ходячую байку, самый смак которой заключался, по общему мнению, в костюме молодого человека. Почему же мадам Тереза хранила молчание и ничего не предпринимала? Первый встречный мог бы поведать ей о заколотом Буридане, да и в полицию никому не заказано обращаться. Впрочем, любой прохожий знал об этой истории больше, чем комиссар полиции.
Ответ на этот вопрос существует, и он поможет нам понять поведение Ролана, а также разгадать медицинскую тайну, повергшую в недоумение хирурга, лечившего молодого человека, ибо Ролан вот уже несколько дней ломал комедию.
Рана его была чрезвычайно серьезной. Кинжал Жулу вонзился слишком глубоко в опасной близости от сердца, и в первый момент никто не мог бы поручиться, что Ролан выживет. В течение первой недели жизнь едва теплилась в нем. В то время малейшее усилие пошло бы во вред организму, медленно сращивавшему разорванные ткани, и привело бы к смерти. Хирург был прав, когда запретил перевозить Ролана. Впрочем, врач всегда прав, рекомендуя покой и тишину, благоприятствующие основному принципу человеческой природы – бороться с разрушениями. Так что, когда велось следствие, раненый действительно не мог ни слышать, ни говорить.
Но вот уже несколько дней, как Мари Даво заподозрила, что раненый видит, слышит и живет в полном смысле этого слова. Если бы он захотел, он смог бы выдержать допрос.
Но он не хотел.
Однажды ночью, когда Даво добросовестно бдела, читая роман Поля де Кока, прикрытый молитвенником, Ролан очнулся от тяжелого сна. Он словно заново родился. Он смутно понимал, где он и что с ним, но не мог ни пошевелиться, ни заговорить.
Роман был, видимо, очень забавным, время от времени сиделка разражалась заливистым смехом. Ролана мучили жажда и страх.
Постепенно из глубин сознания выплыло имя матери. Сердце Ролана сжалось, пересохшие губы затрепетали, словно он звал мать.
Ее имени оказалось достаточно, чтобы вспомнить все, что с ним случилось. Словно во сне, перед ним прошли события последней карнавальной ночи. Он увидел ослепительно прекрасную Маргариту, почувствовал пьянящий аромат пылкого и странного свидания, а затем ужас неожиданной развязки, и наконец ощутил, как нож вонзается ему в грудь. Ролан заснул, совершенно измученный.
Тогда ему не пришло в голову притворяться. Эта мысль возникла у него на следующий день, когда первым, кого он увидел и услышал, был посыльный из прокуратуры, пришедший узнать, возможно ли возобновить допрос пострадавшего. Следствие застопорилось самым печальным образом, и отправители правосудия с нетерпением ожидали показаний жертвы. Услышав такое, Ролан вновь испытал приступ страха. Но теперь он знал, чего он страшится: его пугала мысль о матери.
Ролан догадался, что находится в приюте. В каком именно, его не интересовало, подробности казались неважными, когда он понял главное: вершители правосудия не отпустят его с миром, пока не заведут дело на человека, ранившего его. Ролану представлялась его бедная мать, больная, беспомощная, и он тут же принял решение: сбежать – сбежать или умереть.
Решение было столь ясным и твердым, словно явилось результатом долгих раздумий. Мать и правосудие! Два этих понятия казались несовместимыми, и желание убежать становилось все сильнее, все настоятельнее. Его мать даже в несчастье умела сохранять благородство и гордость. А правосудие, эта совесть народа, вещает так громко и задевает так больно даже тех, кого оно призвано защищать!
Для правосудия найден хороший символ: рука, огромная каменная рука, холодная, суровая, неподкупная, она не хочет и не может действовать осторожно. Эта рука срывает все покровы, используя не только свое право, но и выполняя свой долг, ибо слабости ей не простят. Она должна всех и вся обнажить. Но каждое преступление предполагает наличие двоих: преступника и жертвы. Тем хуже для жертвы!
Тогда все предстает в ином свете, или, если хотите, в своем истинном свете. Малодушные иллюзии исчезают вместе со спасительными умиротворяющими словами. Действительность становится суровой и бесстыдной, словно вы оказались в покойницкой.
Ролану привиделся судья, подводящий итог следствию. Указывая на него пальцем, судья говорил: «Этот человек был убит, когда выходил от женщины легкого поведения. При нем было двадцать тысяч франков. А его мать погибает в нищете!»
И что, если подобное обвинение достигнет ушей его матери?!
Существовало лишь два способа избежать беспощадного публичного обвинения: сбежать или умереть, так и не назвав себя и не проронив ни слова.
Человеку рассудительному оба способа показались бы нелепыми и невозможными. Но Ролан отвергал лишь один: смерть. Он с глубоким раскаянием сознавал, что в долгу перед матерью, и хотел жить ради нее.
Оставался побег. Он с трудом мог пошевелиться, лежа в постели, однако мысль о побеге, однажды зародившись, более не отпускала его. Таков был Ролан: отважный, терпеливый и сильный.
Он сделал попытку встать. Ослабевшее тело не слушалось его. Тогда он воззвал к разуму.
Но тут новая забота омрачила его думы. Ролан не знал, сколько дней прошло после трагедии. Он преувеличивал срок, полагая, что находится в приюте непростительно долго. И перед ним встал вопрос, который мы уже задавали себе: почему мать не ищет его? А если ищет, то почему до сих пор не нашла? Ответ был прост. Ролан вспомнил доктора Абеля Ленуара, говорившего: «Ее спасет надежда». Что остается одинокой больной женщине? Только молиться!
Ролан молился и плакал. Рука невольно потянулась утереть слезу – и радость волной захлестнула юношу! Его рука, уперевшись в матрас, поднялась. Он почувствовал, как напряглись мускулы. Ролан решил, что свершилось чудо.
За чудом последовал обморок, и сиделка отправилась к матери Франсуазе Ассизской, дабы уведомить, что раненый совсем плох. Это случилось в среду, на пятнадцатый день пребывания Ролана в обители.
Ныне никто не сомневается, что у медицины есть бесценная помощница – гимнастика. Сама по себе гимнастика не лечит, но она помогает излечению столь впечатляющим образом, что порою ей начинают приписывать решающее значение, несправедливо отнимая заслуги у лекарств. Если бы гимнасты, шарлатаны или невежды не подрывали уважения к их искусству, раздавая невыполнимые обещания и внушая несбыточные надежды, гимнастика давно бы вошла в каждый дом, что принесло бы огромное благо общественному здоровью.
Лучше всего заниматься гимнастикой в гимнастическом зале, и, конечно, господин Триа не зря выдумал тысячу и одно приспособление, упражняющие каждый мускул нашего двигательного механизма. Но, в крайнем случае, гимнастикой можно заниматься вне зала и без специальных инструментов.
Если бы у Ролана был Триа и его приспособления, его дела пошли бы намного быстрее. Но у него ничего не было, потому он делал то, что мог.
Заметим, что все в этом мире является гимнастикой, и каждый из нас постоянно занимается ею, сам того не замечая, упражняя тело и ум.
Не претендуя на научность определения с точки зрения медицины, а также вступая в некоторое противоречие с модной ныне философией, мы полагаем, что гимнастика – это прибавочная стоимость, образующаяся от пользования всякой вещью. Лопата, побывавшая в деле, копает лучше, чем новая; вскопанная земля повышается в цене; рука, поработавшая лопатой, обретает силу. Разве это не замечательно, не утешительно, не общественно полезно и не подразумевает божественный промысел? Разве не в этом заключается великий смысл всякого труда?
Не следует путать пользование и износ, эти две вещи противоположны друг другу, как жизнь и смерть. Разумеется, все мы смертны и победа изнашивает нас не меньше поражения, тут уж ничего не поделаешь. Но мы всегда предпочитаем победу поражению.
Гимнастика представляет собой прибавочную стоимость, полученную в результате усилий или активного пользования. Она, собственно, ряд, усилий, направленных на получение вожделенной прибавочной стоимости.
Любая мать может припомнить, как первые попытки ребенка заняться гимнастикой вызвали у нее слезы радости. Белокурое дитя уперлось пухлыми ножками в пол. Ребенок покачнулся и чуть было не упал. Отец улыбнулся: ребенок сделал первый шаг. Второй шаг был уже более твердым, а третий наполнил счастливую мать гордостью. Через месяц дитя бегает вовсю! Затем губы и небо начинают упражняться в звуках. Родители в восторге! А как славно ваш ребенок изъясняется спустя несколько лет, не правда ли?
То же самое верно и для игры на фортепьяно. Маленькие пальчики неловки, слабы, непослушны, когда они впервые тычут в неподатливые клавиши, с трудом добираясь до конца гаммы до мажор, лишенной бемолей и диезов и прямой, как шоссе Сен-Дени. Разве не удивительно, что приходит время, когда маленький пианист, закрыв глаза, исполняет сложные пьесы? Но музыкальные упражнения – сущие пустяки по сравнению с теми усилиями, которые необходимо предпринять, дабы из эльзасского новобранца сделать полковника!
Ролан занимался гимнастикой, сам того не подозревая, как господни Журден не знал, что говорит прозой. Юноша делал упражнения, лежа в постели, без ведома сиделки и хирурга. Рисковал ли он? Возможно. Однако затея увенчалась успехом.
Разумеется, ему приходилось нелегко. Смысл гимнастики заключается в разнообразии и постоянном умножении движений, а Ролан находился под неусыпным наблюдением.
К счастью для него, Мари Даво, движимая благодарностью или жаждой наживы, или же тем и другим чувствами одновременно, приняла знаменательное решение. До сих пор она каждый день отдыхала по шесть часов, и тогда ее сменяла послушница. Даво, якобы опасаясь упустить нечто важное, отказалась от отдыха, дабы не терять из виду раненого ни на минуту. В результате восемь часов из двадцати четырех она крепко спала, несмотря на бесчисленные чашки черного кофе, призванного побороть Морфея.
Мы охотно даем себе поблажки. Вот и Даво полагала, что, когда больной заснет, она вполне может вздремнуть пару минут.
Но именно этого Ролан и ждал. Когда Даво бодрствовала, он наслаждался сном, но стоило ей закрыть глаза, гимнастика шла своим ходом.
Сначала он делал легкие, неуловимые для постороннего глаза движения, стараясь не разбередить все еще не затянувшуюся рану. Однажды ночью, когда сиделка, напившись кофе, храпела, Ролан сел в постели. Он был смертельно бледен, упражнение утомило его.