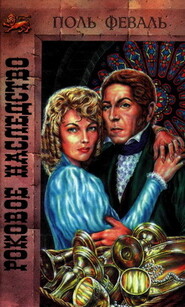По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Карнавальная ночь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Полагаю, мы можем считать дело сделанным.
– Само собой разумеется, – добавил Жафрэ.
– Позвольте, – отвечал Ролан, следивший за ними на расстоянии, – я не связывал себя словом. Положением своих дел я в целом доволен, и оно кажется мне прочным. Но у меня были иные виды. Это идет вразрез с некоторыми моими замыслами. Господа, обещаю ответить вам завтра утром: да или нет. Честь имею быть вашим покорным слугою.
Он просто помахал рукой и повернулся спиной.
Пока Комейроль и Жафрэ шли до ворот сада, они не обменялись ни словом. Очутившись на улице Матюрэн-Сен-Жак, Жафрэ решился заговорить; Комейроль ускорил шаг. Он поднялся одним махом по лестнице нового дома и остановился лишь в столовой у Жафрэ.
– Стакан коньяку! – заорал он. – Задыхаюсь!
– Как по-твоему, – спросил Жафрэ, – что он за птица?
Бывший главный письмоводитель выхлебал один за другим два стакана водки.
– Законченный идиот, – отозвался он наконец, – либо редкий прохвост, либо полицейский агент.
«Ангельская» прическа Жафрэ встала дыбом на его заостренном черепе.
– Который из трех? – пробормотал он. Комейроль буркнул:
– Титулы надо запереть в надежный шкаф с секретом и изменить комбинацию шифра. Я б зарыл его на сто футов под землю. Ах! Да чтоб меня! Да чтоб меня! Не будем рисковать! Какого черта этот идиот Лекок дал себя укокошить!
– У нас есть еще графиня… – предположил Жафрэ. Комейроль хлопнул себя по лбу.
– Фиакр! – приказал он. – И галопом к Маргарите!
Оставшись один, Ролан спокойно обошел мастерскую. Солнце уже закатывалось за высокие старинные дома квартала; в декабре сумерки наступают быстро. Ролан долго расхаживал, временами то хмурясь от горьких мыслей, то улыбаясь сладостной мечте. Одиночки, как он, умеют беседовать сами с собой и в безмолвии советоваться со своей совестью.
На часах Сорбонны звонило четыре, когда он остановился перед картиной, скрытой занавесью. Он отодвинул драпировку, и очаровательные лица юных дев, уже описанные нами, показались из-за ткани в последних отсветах сумерек.
В большом городе всегда немало затворников; я бы не колеблясь утверждал, что ни в одной Фиваиде вы не найдете столько пещерных скитов. Можно быть одиночкой, не произнося при всяком удобном случае пошлых и многословных монологов. Сердце Ролана распирало в груди, губы его приоткрылись, глаза блестели, и свет страстных упований озарил его мужественное лицо.
Сад был полон звуков; Ролан нимало не беспокоился, слыша их. Он заранее знал, что мастерская Каменного Сердца чествовала своего главу в Сен-Никез, и уже был готов благосклонно встретить какие угодно сюрпризы. Гул простуженной бронзы Сорбонны еще отдавался в воздухе, когда взрыв шутихи под его окнами возвестил Ролану о начале ежегодных увеселений.
Тотчас на пару молодых улыбчивых лиц, уже вполовину окутанных ночной мглой, вновь пала занавеска, и Господин Сердце, во всем величии своих властных полномочий, сделал шаг к дверям, навстречу почестям, которыми должны были его осыпать.
И вовремя. Мощная вспышка опалила сад, и в тот же миг чудовищный вопль вознесся к удивленным небесам.
– Да здравствует хозяин и гулянка!
Две длинные цепочки подмастерьев с факелами в руках уходили и терялись из виду перед входом в павильон; со всех деревьев, разом освещенных, словно плоды сказочного сада, свисали цветные стекляшки.
– Ага! – произнес Ролан убежденно. – Да, ребятки, такого, я признаюсь, не ожидал! Это похлеще, чем в прошлом году!
В прошлом году Ролан говорил в точности то же самое; но этого было достаточно, чтобы вознаградить труды этих горемык, которые словно большие дети размахивали факелами и снова разражались своими фантастическими выкриками.
Вояка Гонрекен, разумеется, был во главе первой цепочки; второй командовал господин Барюк.
Каждый нес факел в правой руке, держа левую за спиной. Господин Барюк подал знак, и все вытащили спрятанные руки, вооруженные большими букетами. Целый холм цветов вырос перед крыльцом павильона, на котором стоял Господин Сердце.
– Да здравствует хозяин и гулянка!
– А теперь, – сказал господин Барюк, сняв свою мягкую фетровую шляпу, – Вояка, как всегда, произнесет свою извечную речь. Проглотите языки! В этот миг, в этот торжественный момент, не сметь ни чихать, ни кашлять, ни сопеть… А ну!
Тотчас воцарилась полнейшая тишина. И вот уже Гонрекен, сняв шляпу и не без волнения, сделал шаг к помосту. Однако заговорил он не вдруг, ибо тут, ко всеобщему удивлению, господин Барюк, повинуясь знаку Господина Сердце, поднялся по ступенькам маленького помоста.
Сначала господин Барюк улыбаясь слушал, что тихо говорит ему хозяин; но внезапно побледнел и, шатаясь, отступил на шаг назад.
СИМИЛОР
Господин Барюк был маленький и хладнокровный человек, и прозвище Дикобраз довольно точно передавало его характер. Он ничему, вообще говоря, не удивлялся и вводил всех – кроме хозяина – в заблуждение непроницаемо бесстрастной миной. Любопытный, пронырливый, но при этом не болтливый, он знал великое множество мелких секретов, каковыми делился лишь в случае надобности, и это особенно повышало его вес в этом пестром мирке, где каждому приходилось что-то скрывать.
Хозяину господин Барюк был предан безгранично, хотя тот был единственным из окружавших его людей, с кем Барюк познакомился не по своей воле.
Заставить пергаментные щеки господина Барюка заметно побледнеть, а его короткие и крепкие, как пни, ноги подкоситься могли две причины: либо дело было из рук вон скверно, либо он угадал все номера в лотерее – ибо радость тоже пугает, как то доказал своим несравненным успехом один из самых чарующих сочинителей нашего времени.
Мы сейчас объясним, из-за чего пошатнулся и побледнел бравый господин Барюк, когда Господин Сердце говорил ему на ухо.
Господин Сердце сказал ему:
– Дружище, не стоит особенно затягивать нынешний праздник; нам придется вечерком поработать.
А поскольку господин Барюк напомнил старые пословицы о том, что работа может потерпеть и до утра, Господин Сердце отвечал:
– Завтра будет поздно: меня уже с вами не будет.
Это-то и была одна из тех вещей, с которыми живое воображение Дикобраза никогда не пожелало б смириться. Он пережил многих хозяев; выборное королевство мастерской Каменного Сердца время от времени меняло монарха со времен его юности, не задевая сколько-нибудь его чувств, но этот! Дитя дома! Облагодетельствованный благодетель! Тот неизвестный, которого нашли и выходили словно сына, ни разу не спросив его о его тайне; тот, кого любили, и кто царствовал тем успешней, что правил он из заоблачных высей! Сын мастерской и ее хозяин!
Господин Барюк уже достиг зрелых лет и среди тех благостных мыслей, что приходят с годами, лучшей была мечта – почти уверенность – что он умрет раньше Господина Сердце.
Он слишком был умен, чтобы не заметить нравственной дистанции, отделявшей патрона от его мастерской, и слишком любопытен, чтобы не подобраться своим пытливым умом совсем близко к загадке, заданной Господином Сердце, но нечто, а точнее, искренняя нежность, своего рода преклонение, всегда останавливало его расследования.
Но что значила, в конце концов, эта дистанция? Господин Сердце был свободен как ветер. Ему, хоть он о том никогда не просил, воздвигли настоящий алтарь. От него ничего не требовалось, кроме одного: чтобы он существовал и оставался на своем месте – и все вокруг были счастливы!
– Завтра меня с вами уже не будет!
Так сказал Господин Сердце, а устами его, как известно, глаголет сам Бог.
– Значит, – пробормотал господин Барюк, – завтра не будет и мастерской Каменного Сердца. Тело не может жить без души. У нас самих ничего не удержится; без вас все пойдет насмарку. Если вы нас вот так возьмете и бросите, то чем веселиться и жечь шутихи, лучше просто подпалить дом!
– Надо праздник праздновать, старина, – заговорил снова Ролан. – Ты меня не понял, я вас не только не бросаю, но вы мне очень понадобитесь.
При этих словах лицо господина Барюка просияло светом надежды, и толпа пачкунов и мазил, замершая было при виде такого его замешательства, вновь воспряла духом.
Сам Вояка Гонрекен ничего не заметил, настолько он был поглощен предстоящей ему ответственной речью. Он говорил не то вслух, не то про себя:
– Непростое это дело, торчать в ожидании с приготовленной в одночасье речью, которая так и испаряется с каждой минутой из головы!
– Само собой разумеется, – добавил Жафрэ.
– Позвольте, – отвечал Ролан, следивший за ними на расстоянии, – я не связывал себя словом. Положением своих дел я в целом доволен, и оно кажется мне прочным. Но у меня были иные виды. Это идет вразрез с некоторыми моими замыслами. Господа, обещаю ответить вам завтра утром: да или нет. Честь имею быть вашим покорным слугою.
Он просто помахал рукой и повернулся спиной.
Пока Комейроль и Жафрэ шли до ворот сада, они не обменялись ни словом. Очутившись на улице Матюрэн-Сен-Жак, Жафрэ решился заговорить; Комейроль ускорил шаг. Он поднялся одним махом по лестнице нового дома и остановился лишь в столовой у Жафрэ.
– Стакан коньяку! – заорал он. – Задыхаюсь!
– Как по-твоему, – спросил Жафрэ, – что он за птица?
Бывший главный письмоводитель выхлебал один за другим два стакана водки.
– Законченный идиот, – отозвался он наконец, – либо редкий прохвост, либо полицейский агент.
«Ангельская» прическа Жафрэ встала дыбом на его заостренном черепе.
– Который из трех? – пробормотал он. Комейроль буркнул:
– Титулы надо запереть в надежный шкаф с секретом и изменить комбинацию шифра. Я б зарыл его на сто футов под землю. Ах! Да чтоб меня! Да чтоб меня! Не будем рисковать! Какого черта этот идиот Лекок дал себя укокошить!
– У нас есть еще графиня… – предположил Жафрэ. Комейроль хлопнул себя по лбу.
– Фиакр! – приказал он. – И галопом к Маргарите!
Оставшись один, Ролан спокойно обошел мастерскую. Солнце уже закатывалось за высокие старинные дома квартала; в декабре сумерки наступают быстро. Ролан долго расхаживал, временами то хмурясь от горьких мыслей, то улыбаясь сладостной мечте. Одиночки, как он, умеют беседовать сами с собой и в безмолвии советоваться со своей совестью.
На часах Сорбонны звонило четыре, когда он остановился перед картиной, скрытой занавесью. Он отодвинул драпировку, и очаровательные лица юных дев, уже описанные нами, показались из-за ткани в последних отсветах сумерек.
В большом городе всегда немало затворников; я бы не колеблясь утверждал, что ни в одной Фиваиде вы не найдете столько пещерных скитов. Можно быть одиночкой, не произнося при всяком удобном случае пошлых и многословных монологов. Сердце Ролана распирало в груди, губы его приоткрылись, глаза блестели, и свет страстных упований озарил его мужественное лицо.
Сад был полон звуков; Ролан нимало не беспокоился, слыша их. Он заранее знал, что мастерская Каменного Сердца чествовала своего главу в Сен-Никез, и уже был готов благосклонно встретить какие угодно сюрпризы. Гул простуженной бронзы Сорбонны еще отдавался в воздухе, когда взрыв шутихи под его окнами возвестил Ролану о начале ежегодных увеселений.
Тотчас на пару молодых улыбчивых лиц, уже вполовину окутанных ночной мглой, вновь пала занавеска, и Господин Сердце, во всем величии своих властных полномочий, сделал шаг к дверям, навстречу почестям, которыми должны были его осыпать.
И вовремя. Мощная вспышка опалила сад, и в тот же миг чудовищный вопль вознесся к удивленным небесам.
– Да здравствует хозяин и гулянка!
Две длинные цепочки подмастерьев с факелами в руках уходили и терялись из виду перед входом в павильон; со всех деревьев, разом освещенных, словно плоды сказочного сада, свисали цветные стекляшки.
– Ага! – произнес Ролан убежденно. – Да, ребятки, такого, я признаюсь, не ожидал! Это похлеще, чем в прошлом году!
В прошлом году Ролан говорил в точности то же самое; но этого было достаточно, чтобы вознаградить труды этих горемык, которые словно большие дети размахивали факелами и снова разражались своими фантастическими выкриками.
Вояка Гонрекен, разумеется, был во главе первой цепочки; второй командовал господин Барюк.
Каждый нес факел в правой руке, держа левую за спиной. Господин Барюк подал знак, и все вытащили спрятанные руки, вооруженные большими букетами. Целый холм цветов вырос перед крыльцом павильона, на котором стоял Господин Сердце.
– Да здравствует хозяин и гулянка!
– А теперь, – сказал господин Барюк, сняв свою мягкую фетровую шляпу, – Вояка, как всегда, произнесет свою извечную речь. Проглотите языки! В этот миг, в этот торжественный момент, не сметь ни чихать, ни кашлять, ни сопеть… А ну!
Тотчас воцарилась полнейшая тишина. И вот уже Гонрекен, сняв шляпу и не без волнения, сделал шаг к помосту. Однако заговорил он не вдруг, ибо тут, ко всеобщему удивлению, господин Барюк, повинуясь знаку Господина Сердце, поднялся по ступенькам маленького помоста.
Сначала господин Барюк улыбаясь слушал, что тихо говорит ему хозяин; но внезапно побледнел и, шатаясь, отступил на шаг назад.
СИМИЛОР
Господин Барюк был маленький и хладнокровный человек, и прозвище Дикобраз довольно точно передавало его характер. Он ничему, вообще говоря, не удивлялся и вводил всех – кроме хозяина – в заблуждение непроницаемо бесстрастной миной. Любопытный, пронырливый, но при этом не болтливый, он знал великое множество мелких секретов, каковыми делился лишь в случае надобности, и это особенно повышало его вес в этом пестром мирке, где каждому приходилось что-то скрывать.
Хозяину господин Барюк был предан безгранично, хотя тот был единственным из окружавших его людей, с кем Барюк познакомился не по своей воле.
Заставить пергаментные щеки господина Барюка заметно побледнеть, а его короткие и крепкие, как пни, ноги подкоситься могли две причины: либо дело было из рук вон скверно, либо он угадал все номера в лотерее – ибо радость тоже пугает, как то доказал своим несравненным успехом один из самых чарующих сочинителей нашего времени.
Мы сейчас объясним, из-за чего пошатнулся и побледнел бравый господин Барюк, когда Господин Сердце говорил ему на ухо.
Господин Сердце сказал ему:
– Дружище, не стоит особенно затягивать нынешний праздник; нам придется вечерком поработать.
А поскольку господин Барюк напомнил старые пословицы о том, что работа может потерпеть и до утра, Господин Сердце отвечал:
– Завтра будет поздно: меня уже с вами не будет.
Это-то и была одна из тех вещей, с которыми живое воображение Дикобраза никогда не пожелало б смириться. Он пережил многих хозяев; выборное королевство мастерской Каменного Сердца время от времени меняло монарха со времен его юности, не задевая сколько-нибудь его чувств, но этот! Дитя дома! Облагодетельствованный благодетель! Тот неизвестный, которого нашли и выходили словно сына, ни разу не спросив его о его тайне; тот, кого любили, и кто царствовал тем успешней, что правил он из заоблачных высей! Сын мастерской и ее хозяин!
Господин Барюк уже достиг зрелых лет и среди тех благостных мыслей, что приходят с годами, лучшей была мечта – почти уверенность – что он умрет раньше Господина Сердце.
Он слишком был умен, чтобы не заметить нравственной дистанции, отделявшей патрона от его мастерской, и слишком любопытен, чтобы не подобраться своим пытливым умом совсем близко к загадке, заданной Господином Сердце, но нечто, а точнее, искренняя нежность, своего рода преклонение, всегда останавливало его расследования.
Но что значила, в конце концов, эта дистанция? Господин Сердце был свободен как ветер. Ему, хоть он о том никогда не просил, воздвигли настоящий алтарь. От него ничего не требовалось, кроме одного: чтобы он существовал и оставался на своем месте – и все вокруг были счастливы!
– Завтра меня с вами уже не будет!
Так сказал Господин Сердце, а устами его, как известно, глаголет сам Бог.
– Значит, – пробормотал господин Барюк, – завтра не будет и мастерской Каменного Сердца. Тело не может жить без души. У нас самих ничего не удержится; без вас все пойдет насмарку. Если вы нас вот так возьмете и бросите, то чем веселиться и жечь шутихи, лучше просто подпалить дом!
– Надо праздник праздновать, старина, – заговорил снова Ролан. – Ты меня не понял, я вас не только не бросаю, но вы мне очень понадобитесь.
При этих словах лицо господина Барюка просияло светом надежды, и толпа пачкунов и мазил, замершая было при виде такого его замешательства, вновь воспряла духом.
Сам Вояка Гонрекен ничего не заметил, настолько он был поглощен предстоящей ему ответственной речью. Он говорил не то вслух, не то про себя:
– Непростое это дело, торчать в ожидании с приготовленной в одночасье речью, которая так и испаряется с каждой минутой из головы!