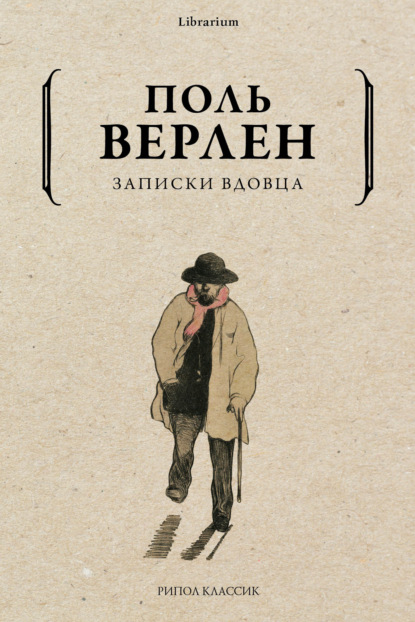По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Записки вдовца
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Записки вдовца
Поль Мари Верлен
Librarium
В сборник вошли прозаический цикл «Записки вдовца» и избранные стихотворения в переводе Ф. Сологуба.
Поль Верлен
Записки вдовца
Перевод с французского С. Я. Рубановича, Ф. К. Сологуба
© Издание на русском языке, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2021
Как предисловие
Маленькие рассказы и статьи, собранные под заглавием «Записки вдовца», были написаны Верленом в 1883–1884 году.
В эту эпоху вся жизнь Верлена была уже позади. Ему было уже сорок лет. Далеко в прошлом были его дебюты в рядах парнасцев: уже больше десяти лет отделяло его от того времени, когда, женившись, он пытался вести жизнь доброго буржуа, служащего, утешающегося скромными семейными радостями; также удален был и скорый финал этой попытки: отъезд Верлена в Англию с Артюром Рембо, их бродяжничество по Европе, их разрыв, кончившийся тем, что Верлен во время одной ссоры выстрелил в своего друга из револьвера и легко его ранил, за что и был приговорен бельгийским судом к двухлетнему тюремному заключению – наказание, которое он отбыл полностью; прошлым были и все другие бурные события последующих лет: попытки зарабатывать себе хлеб преподаванием английского языка и рисования; еще более нелепые попытки стать фермером и заниматься земледелием; новое, страстное увлечение юношей из крестьянской семьи, Люсьеном Летинуа, вскоре умершим; тяжелые денежные неудачи, бывшие следствием наивной доверчивости Верлена; его вторичное тюремное заключение (на два месяца), и другие горестные события, окончательно выбившие поэта «Романсов без слов» из колеи обычной жизни, отнявшие у него едва ли не всех близких, бросившие его одиноким и беспомощным в круговорот безжалостного и глухого ко всем мольбам Парижа… Более чем когда-либо мог теперь говорить Верлен, как в одном из характернейших стихотворений «Sagesse», о «разочарованиях, которые плачут вдоль рек», об «отвращении к жизни», об «уныниях, собранных как зрелые плоды».
Автор целого ряда замечательнейших книг лирики, поэт, написавший все те стихи, на которых теперь зиждется его слава и которые навсегда останутся драгоценнейшими жемчужинами французской поэзии, автор «Po?mes Saturniens», «F?tes Galantes», «La Bonne Chanson», «Romances sans paroles», «Sagesse». Поль Верлен был почти совсем неизвестен в литературных кругах. Впрочем, нельзя было особенно упрекать в этом критиков и читателей: у большинства книг Верлена была своя печальная судьба, участь неудачников. «Романсы без слов» были изданы в то время, когда их автор отбывал наказание в бельгийской тюрьме; его друг, Эдмонд Лепеллетье (написавший позднее лучшую биографию Верлена) напечатал эту книгу в маленькой провинциальной типографии, и книга почти не появлялась в продаже. «Sagesse» была издана одним издателем католических религиозно-нравственных сочинений, круг покупателей которого состоял из лиц, стихами не интересующихся, так как никто другой не хотел брать на себя издания книги писателя столь скомпрометированного. Тому же Лепеллетье удалось пристроить сочувственный разбор этой удивительной книги только в той газете, где он тогда работал, – большом политическом органе, совершенно чуждом литературе. Только за самые последние годы Верлен нашел себе издателя, который более или менее оценил его значение – Леона Ванье, впоследствии заработавшего немало на книгах отверженного всеми поэта, – но успех фирмы Ванье еще весь был в будущем. Большие журналы не принимали рукописей Верлена, а у маленьких эфемерных боевых журнальчиков, которые начинали возникать в ту пору и где к Верлену раньше, чем где-либо в другом месте, стали относиться как к ma?tre, число читателей едва ли не совпадало с числом сотрудников.
Поселившись после смерти Люсьена Летинуа в Париже, лишенный всяких материальных средств, Верлен решил «жить своим пером». Для этого надо было пристроиться в одном из тех изданий, где за рукописи платили. Горький опыт уже убедил Верлена, что стихи не нужны никому, что платят деньги только за прозу. Эдмонд Лепеллетье как раз в это время вошел в состав редакции только что основанной большой газеты «Le Rеveil», которую предполагалось издавать по совершенно новому типу: в ней широкое место предполагалось отводить литературе. Этот вид газеты, где политика отодвинута на второй план и где «руководящие» статьи уступают место легкой хронике, должен был получить впоследствии широчайшее распространение и занять главенствующее положение (как мы это видим на примере хотя бы «Matin», «Echo do Paris», «Journal»), но в то время был решительной новостью. Лепеллетье предложил своему другу попробовать свои силы в журналистике такого рода.
В «Le Rеveil» был основан особый отдел, озаглавленный «Paris-Vivant». Там должны были печататься курсивом на первой странице маленькие статейки, частью посвященные разным «злобам дня», частью по вопросам общим, частью в полу-беллетристической форме, написанные разными авторами, но только за двумя подписями-псевдонимами: Jean qui pleure и Jean qui rit («Смеющийся Жан», «Плачущий Жан»). В этом отделе сотрудничали, кроме самого Лепеллетье, Поль Боннетен, Робер Каз и другие, но свое бессмертие он получил, конечно, благодаря участию в нем Поля Верлена. Не всегда статейки, приносимые Верленом, казались редакторам газеты отвечающими задачам ежедневной прессы, многие приходилось возвращать автору (и эти безнадежно затерялись), но некоторые все же находили себе приют на страницах «Rеveil», принося бедному поэтому кое-какой доход и понемногу сближая его с литературной средой. Из этих- то статеек и образовался том, озаглавленный «Mеmoires d'un veuf», «Записки вдовца».
Э. Лепеллетье рассказывает о первом появлении Верлена в редакции «Rеveil». Когда показался в чинных комнатах редакции странный господин, никому неизвестный, плешивый, с растрепанной бородой, плоховато одетый, с обликом странствующего жида, все были до некоторой степени смущены и даже несколько скандализованы. Изумление еще увеличилось, когда услыхали, что пришедший в живой и остроумной речи говорит о литературе, истории, философии, высказывая обо всем мнения неожиданные и оригинальные, что он цитирует давно забытые имена и книги Петрюса Бореля, Барбей д'Оревилли, что о Леконте де Лиль, о Эредиа, о Франсуа Коппе, о самом Викторе Гюго он поминает, как о личных знакомых. Анри Бауер, талантливый писатель и интересный поэт, спросил у Лепеллетье, кто такой этот странный посетитель. «Это Поль Верлен, великий поэт», – ответил Лепеллетье, но имя Верлена ничего не сказало спрашивающему. Только на другой день, попросив у Лепеллетье одну из книг Верлена, Бауер убедился, что характеристика, сделанная в ответ на его вопрос, была верна. «Да, – сказал он, возвращая Лепеллетье томик „Романсов без слов“, – вы правы: Верлен – великий поэт!»
«Le Rеveil» не имело настоящего успеха, хотя газета велась очень талантливо и хотя в ней были впервые напечатаны, кроме хроник Верлена, такие истинно литературные, значительные сами по себе вещи, как «Сафо» Альфонса Додэ и «Сестры Рондоли» Ги де Мопассана. Эта газета лишь подготовила позднейший успех других, аналогичных изданий. «Не следует быть правым раньше времени», – как сказал по этому поводу Лепеллетье. Однако Верлен все же успел поместить в газете несколько десятков своих фельетонов, которые он тогда же решил выпустить отдельным томиком. Однако отдельное издание замедлилось вследствие того, что Верлен занялся раньше печатанием некоторых других своих книг. То было именно время, когда начиналась деятельность Ванье, и Верлен отдал ему сначала свою книгу статей, полукритических, полуантузиазматических, о «Отверженных поэтах», «les Po?tes maudits» (первая книга Верлена, имевшая некоторый успех) и свой новый сборник стихов «Jadis et Nagu?re», в котором он сгруппировал разные свои стихи, не попавшие по разным причинам в предыдущие сборники. «Записки вдовца» вышли только в 1886 году у того же Ванье с посвящением Эдмонду Лепеллетье.
«Записки вдовца» – это частью картинки парижской и сельской жизни, частью маленькие повествования, сжатые и острые, в манере «стихотворений в прозе», частью воспоминания или критические заметки, не всегда беспристрастные. На всем очень определенно чувствуется влияние «Стихотворений в прозе» Бодлера, которого Верлен всегда высоко чтил. Язык «Записок» – характерный язык верленовской прозы. Он не любил слишком правильного построения фраз, не любил точек, поставленных на «i», он предпочитал писать капризными оборотами речи с неожиданной и необычной расстановкой слов, употребляя по временам жаргонные словечки и почти всегда довольствуясь намеком вместо точного рассказа. Этот язык и составляет разительное отличие «Записок» Верлена от «Стихотворений в прозе» Бодлера, написанных чеканным, выработанным стилем. Но в «Записках вдовца» этот язык Верлена еще не переходит границ художественности, не приводит его к намеренному кривлянию, к ужимкам дурного тона, что, к сожалению, чувствуется в позднейших прозаических книгах Верлена.
Вскоре после того как Верлен начал писать в «Le Rеveil», состоялось его сближение с той молодежью, которая вскоре выступила с боевыми знаменами декадентства и символизма. Печатая фельетоны в «Paris-Vivant», Верлен в то же время отдавал свои стихи и критические заметки в «Lut?ce», маленький журнальчик Латинского квартала. Молодые поэты, которые до той поры лишь смутно слышали о Верлене и почитали его давно умершим, ознакомившись е его стихами, признали в нем своего вождя. Его поэзия, интимная до последних пределов, отвечала их запросам, их утомлению объективностью и холодностью парнасцев. «Art poеtique» Верлена, напечатанный в «Lut?ce», сделался символом веры новой школы. Критические статьи Верлена о Стефане Малларме, о Артюре Рэмбо, о Тристане Корбьере были для молодежи откровением, так как она из них впервые узнала об этих своеобразных поэтах и о новой манере относиться к поэзии вообще. Верлен было именно тем, кто был нужен революционерам литературы. Если Мореас мог дать теорию новой поэзии (кстати сказать, очень сбивчивую и неясную), а Малларме – ее философию (не для всех понятную), если другие «вожди» могли провозгласить новые принципы, то никто не был в силах дать непререкаемые образцы нового. Эти образцы молодежь нашла в поэмах Верлена, так долго не находивших себе читателей…
С успеха Верлена в революционно-литературных кружках молодежи начинается постепенный его успех и в общей литературе. Вскоре по выходе первых книг Верлена, изданных у Ванье, потребовались новые издания его «Romances sans paroles» и «Sagesse». Несколько благосклонных отзывов о Верлене появилось в газетах с большим тиражом. Макс Нордау в своей нашумевшей (и крайне невежественной) книге объявил Верлена «единственным поэтом» среди символистов. То же повторил Рене Думик, влиятельный в те годы критик. В конце 80-х годов открылся Верлену доступ в большие журналы. Его имя получило не только огласку, но и подлинную известность. Быстрыми шагами подходила слава. Если бы Верлен в ту эпоху мог «взять себя в руки», вести жизнь, которая почитается должной для людей «стоящих на виду», работать систематически, – он, без всякого сомнения, добился бы и высокого положения в литературном мире и материального благополучия… Но все это было недоступно – или уже недоступно – «бедному Лелиану» (псевдоним Верлена). Печальная привычка к жизни богемы и горестная страсть к абсенту закрывали ему все пути. Слава пришла слишком поздно…
«Записки вдовца» – одна из последних удачных книг Верлена. Еще в книге стихов «Amour», написанной, впрочем, почти целиком раньше, есть много прекрасных страниц, еще есть религиозное одушевление кое-где в его «Bonheur» и острота и очарование в его «Parall?lement», где, однако, многие стихи тоже относятся к периоду гораздо более раннему, но после этих книг начинается явный и плачевный упадок таланта. Еще длинную серию книг в стихах и в прозе написал Верлен в последние годы жизни, побуждаемый постоянной нуждой в деньгах и подчиняясь правилу своего издателя, который не хотел выдавать ни сантима иначе, как под рукопись хотя бы единичного стихотворения, но эти поздние произведения бедной музы Верлена принадлежат к числу тех произведений, о которых чем меньше говорить, тем лучше. В то время, как пленительные песни Верлена совершали свое триумфальное шествие по всей Европе, во всех странах очаровывая и покоряя сердца чуткой молодежи, сам их создатель, больной, старый, почти нищий, влачил жалкое существование в кабачках Латинского квартала со столь же жалкими подругами своей невеселой старости, обиравшими у него его бедные гроши и отравлявшими ему дни своими глупыми раздорами и своей нелепой и фальшивой ревностью. «Мои дурные братья, – говорит он с горечью в одном из своих последних стихотворений, – вы, которые хоронили меня когда-то под своим молчанием, откуда же вдруг взялись все эти восклицания, восторги, откуда вся эта перемена?! Ах! Это то, что называется славой!» Верлен чувствовал сам, что слава пришла для него слишком поздно.
Валерий Брюсов
Записки вдовца
Некоторые мои сны
Я хочу описать как можно подробнее некоторые из моих постоянных снов, те, разумеется, которые мне кажутся достойными этого по их законченному обороту или по их развитию в атмосфере, сколько-нибудь выносимой для проснувшихся.
Я часто вижу Париж. Никогда таким, как он есть. Это незнакомый город, нелепый и многообразный. Я окружаю его узкой рекой, бегущей глубоко меж двух рядов каких-нибудь деревьев. Среди ярко-зеленой листвы блестят красные крыши. Тяжкая летняя пора с густыми, очень темными тучами в разводах, как на небесах исторических пейзажей, и сквозь них самый желтый солнечный свет. Как видите, сельский пейзаж. Но, когда я оглядываюсь на город по ту сторону речки, там видны еще дома, дворы и строения, где сушится белье и откуда доносятся голоса, – ужасные, штукатурные дома предместий настоящего Парижа, напоминающие несколько Сент-Уэнскую долину и всю эту военную Северную улицу, лишь чаще усеянную неровностями. Мне всегда страшно в этом месте, и здесь дышат предания ночных и иных нападений. Не смутное ли воспоминание о призрачном Сент-Мартенском канале?
Я не знаю, как проникают в самый город, и вот я без всякого перехода оказываюсь последовательно на трех площадях, совсем одинаковых, маленьких, четырехугольных, с белыми сводчатыми домами. На тротуаре и на мостовой ни кошки, только рассыльный, который, не знаю почему, заговаривает со мной и показывает пальнем на дощечку на углу одной из площадей. Он смеется и, не помню по какому поводу, находит это нелепым, и я забываю название площади, которое, однако, прочел. Он указывает мне на английское посольство, куда я и отправляюсь. Оно на площади, в одном из низких сводчатых домов. Красный гренадер стоит на часах: меховая шапка и больше ничего – ни перьев, ни кокарды, ни серебряных украшений, короткий мундир с белыми отворотами, черные панталоны с узкой красной выпушкой. Я вхожу, взбираюсь но парадной лестниц из белого гранита с высокими перилами. На ступенях и на перилах сидят или лежат развалившись шотландцы и шотландки в более или менее непринужденных позах. В помещении, похожем на антресоли, куда приводит лестница, сцена изменяется или, лучше сказать, очерчивается ярче и – о, как причудливо! Это нечто в роде гауптвахты: сверкающее оружие, составленное в углу, разбросанное по походным койкам и на каменном полу. Почти голые, все с какой-либо характерной частью одежды – в токе с орлиным пером, в короткой юбке с зелеными и красными полосами или в полусапожках – мужчины и женщины девственные и такие белые, такие легкие двигаются в благородных играх, в мужественных забавах под бодрые взрывы открытого смеха или родных горных песен, распеваемых во все горло…
Видение исчезает в каком-то неполном пробуждении и сон застает меня снова шагающим во весь дух по одной из этих улиц, недавно проложенных и все же не новых, знаете, таких широких, едва только отстроенных, местами невымощенных, без лавочек и носящих имена подрядчиков на – ier и – ard: пыль от штукатурки и песка; ставни и оконные стекла домов, бронза и зелень фонарей и все там имеет тот непотертый вид, от которого делается оскомина на зубах и холодеют концы ногтей. Она поднимается в гору, эта улица, а причина моей поспешности – похоронное шествие, за которым я иду вместе с моим отцом, умершим уже давно, но которого почти всегда я вижу во сне. Я, вероятно, останавливался для какой-нибудь покупки венка или цветов, потому что не вижу больше катафалка, который, должно быть, свернул в конце улицы в узкий переулок, уходящий направо. Направо, а не налево. Слева, там пустыри со спинами и боками высоких доходных домов на самом дальнем плане – отвратительное зрелище. Мой отец делает мне знак идти быстрее и я скоро догоняю его. Мгновенный пробел в моей памяти оставляет меня в неведении, как и где мы вскарабкались на империал дилижанса, катящегося по рельсам, несмотря на отсутствие какого бы то ни было видимого двигателя. Что это за дилижанс? Перед нами гуськом по рельсам, как клопы, ползут продолговатые ящики вышиною около двух метров, окрашенные в светло-голубой грязноватый цвет; в них гробы и это поезд на кладбище. Я это знаю, это так принято, этот способ применяется уже давно. Кривой переулок – все справа. Широкие рвы зияют в глинистой почве зелеными и желтыми пластами. Землекопы, опершись на свои лопаты, глядят, как мы проходим мимо: обоз мертвецов и мы. У них сероватый вид на сероватом воздухе. Холодно. Должно быть ноябрь. Мы все катимся.
А вот совсем другая картина.
Рынок на открытом воздухе, на покатой местности. Виден в ширь. Сотня палаток. Все кишит. Необыкновенная быстрота нашего движения делает несколько смутными очертания предметов и лиц, меж тем как скрип колес по рельсам покрывает все шумы, шаги и голоса. Но запах охватывает нас, мчится с нами, вьется и опускается, приторный и жирный запах, колбасных времен Осады, пирожных и английских кондитерских изделий, разложенных на прилавках, розовых и желтых пудингов, пластов красного полурастаявшего леденца, утыканного половинками прогорклого миндаля, фиолетовых груд безымянных желе и несказуемых студней, пыльных нагромождений Frenchrocks, tea and coffee cakes и попорченных muffins, все это кружится, тает и испаряется в весело растущем отдалении и в туманах исчезающего сна.
Кладбище, куда не приводит меня предыдущий сон, представляется мне в двух совсем различных видах.
Иногда в сильный дождь с ветром перед заходом солнца, очевидно торопясь куда-нибудь добраться и мало озабоченный видом окрестностей, я прохожу большими шагами по высокой аллее, с одной стороны окаймленной могилами, растрепанными деревьями и высокими вздрагивающими травами, меж тем как с другой спускается долина и ее деревья – деревья лесов: буки, дубы и ясени – стонут и скрипят своими вершинами как раз на одной высоте со мной, а в чаще сквозь сумрак вечера и сумрак ветвей просвечивают надгробные памятники, урны и кресты.
Иногда же мне представляется летнее утро, уже жаркое в десять часов. Тени сини вдоль тротуаров и мощно вырезываются на улице меж солнечных ромбов. Как раз в середине какого-нибудь красивого квартала, Отейль или Нейльи, не торгового, но довольно людного, сквозь стекла кареты, в которой я сижу, я вижу издали урывками поросший цветущими изгородями вал: за ним высятся белые надгробные часовни разных стилей и разной высоты, осеняемые пышными развесистыми деревьями, где чирикают воробьи и певчие птицы: у него почти греческий или сицилийский вид, у этого некрополя из мрамора и зелени посреди многолюдного города, и среди разбросанных изящных отелей, где все дышит беспечным равнодушием к смерти, он кажется лишь долгою нежною молнией под таким синим небом…
Настоящий Париж все же нередко появляется в этих грезах, но всегда какие-нибудь мои изменения, какие-нибудь невинные городские работы не преминут ввести в него что-нибудь странное и неожиданное. Так, например, рядом с базаром Бонн-Нувель, между бульваром того же имени и улицей, впадающей там же, я помещаю стеклянный пассаж, выходящий, следовательно, углом. Эта галерея очень красива, широка и удобна для торговли, несравненно удобнее всего, что только есть в этом роде. Я наделяю еще нижние этажи решетчатыми перилами, а подвальные – наружные, значит, – поперечными балюстрадами, как в Лондоне.
Напротив, если мне снится, что я там, в Лондоне, то все это характерное убранство исчезает. И это провинциальный город с вывесками на старо-французском языке, с узкими улицами спиралью, где по досадной и упрямой случайности я вижу себя постыдно пьяным и игрушкою оскорбительных происшествий.
Чтобы вернуться к Парижу и с ним покончить, я должен упомянуть об одном из снов моего раннего детства, когда я еще живал в провинции: мне часто снился на улице Сен-Лазар, немного ближе нынешнего местоположения церкви Грошик каретный сарай бок о бок с бесконечными казармами. Все припомнят, что они видали там сарай и казармы. Казармы были разрушены в 1855 году и на их развалинах вырос склад досок, только гораздо позднее уступивший место названной церкви. Каретный сарай исчез при расширении перекрестка. Все-таки я изумился, как маленький мальчик, когда, спустя годы после того, как я забыл свой сон, чтобы теперь внезапно вспомнить о нем, я в первый раз увидел этот уголок улицы, так хорошо мне знакомый.
Я порядком постранствовал, жил много месяцев в провинции и за границей, и все это продолжалось достаточно долго, чтобы за это время нажить себе привычек, набраться страстей и приключений, наконец, чтобы видеть их во сне. И что же? Кроме изложенного случая в Лондоне, все мои ночи протекают в Париже или же «нигде». Конечно, это «нигде» трудно уловить. Насколько я в силах что-нибудь восстановить – это страна, как всякая другая: города и деревни. В одном из этих городов есть что-то вроде сводчатого прохода, очень темного, очень длинного, сырого и узкого, как туннель, и пахнущего уриной, куда я боюсь углубляться из опасения воров. Но это уже всецело относится к кошмарам, и я перехожу дальше. Что же еще в этих городах? Да, рестораны, где я порчу себе желудок, люди когда-то очень знакомые, которых я снова встречаю и называю по именам, вновь забываемым после пробуждения, – вот и все, все. Да, в открытом ли это поле или при выходе из одного из этих городов «нигде» я оказываюсь на шоссе, окаймленном чрезмерно высокими деревьями, обнаженными, совсем черными, и с которых без ветра каждое мгновение падают ветки на влажную почву, забрызгивающую меня грязью?
А затем все расплывается в тумане. Воспоминание тоже.
Опять на каторге
Ilfaisait noir dans t'escalier,
Plus noir encore sur le palier,
Et pour comble d’infortun
On ne voyait pas ia lune.
Моей всегдашней мечтой было жить в настоящей деревне, где-нибудь «в открытом поле», в каком-нибудь хозяйстве, на ферме, где я был бы владельцем и одним из работников, одним из самых смиренных в виду моей слабости и лени.
И вот я осуществил это «hoc erat», я узнал, испытал, оценил мелкие полевые работы, легкое садовничество, милое любопытство, здоровое сельское злословие, которое делает ваш дом как бы стеклянным и принуждает следить за своим поведением, всегда держа на страже готовое было уснуть сознание достоинства, и непробудный сон после простого дня. Такая жизнь длилась достаточно времени, чтобы всегда вспоминать о ней и долго сожалеть.
Ибо обстоятельства – была ли в них моя вина, что вероятно, или нет, что тоже возможно – снова швырнули меня и даже довольно грубо прямо в самую гущу парижской каторги.
И вот я, угрюмый горожанин, без языка и с чувством отчужденности, сижу в былом своем углу, от которого некогда отрекся, бьюсь из-за корки хлеба посреди этой распри искусственных интересов и бешеных наслаждений, без бодрой мечты, отягощенный бесплодным опытом. Беготня и хлопоты, плоские и утомительные, как тротуар, отравленные обеды, ночи без сна, соседства, с которыми поневоле приходится мириться, искушения презренные, но властные над дряхлым сердцем, которое некогда отдавалось им всецело.
Ночью я взбираюсь но моим ста ступеням, чиркая спичками, обжигающими мне концы пальцев, с мышцами, полными усталости, с головой, полной уличных песен, чтобы лечь спать и не заснуть под нескончаемый стук карет со спущенными шторами, и телег, и тачек, и возов, нагруженных ломом, разбитой мебелью и мусором.
Собаки
Великий Бодлер воспел добрых псов ленивой Бельгии. Я, немощный, хочу попытаться воспеть собаку Парижа. Жан Ришпен недавно прекрасно описал одну из разновидностей этой породы, настолько превосходящей человечество наших дней, – бездомного пса, гуляку, невинного приживальщика, но отнюдь не сутенера, пса кафе, пивной, кабачка или харчевни, пса бродягу, но и гордеца в своем роде, который вовсе неплох.
Как бы то ни было, вот она, моя собака.
Я живу очень высоко, я, видите ли, несколько горд, в комнате, окно которой выходит прямо против самой многолюдной улицы Овернского Парижа.
Поль Мари Верлен
Librarium
В сборник вошли прозаический цикл «Записки вдовца» и избранные стихотворения в переводе Ф. Сологуба.
Поль Верлен
Записки вдовца
Перевод с французского С. Я. Рубановича, Ф. К. Сологуба
© Издание на русском языке, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2021
Как предисловие
Маленькие рассказы и статьи, собранные под заглавием «Записки вдовца», были написаны Верленом в 1883–1884 году.
В эту эпоху вся жизнь Верлена была уже позади. Ему было уже сорок лет. Далеко в прошлом были его дебюты в рядах парнасцев: уже больше десяти лет отделяло его от того времени, когда, женившись, он пытался вести жизнь доброго буржуа, служащего, утешающегося скромными семейными радостями; также удален был и скорый финал этой попытки: отъезд Верлена в Англию с Артюром Рембо, их бродяжничество по Европе, их разрыв, кончившийся тем, что Верлен во время одной ссоры выстрелил в своего друга из револьвера и легко его ранил, за что и был приговорен бельгийским судом к двухлетнему тюремному заключению – наказание, которое он отбыл полностью; прошлым были и все другие бурные события последующих лет: попытки зарабатывать себе хлеб преподаванием английского языка и рисования; еще более нелепые попытки стать фермером и заниматься земледелием; новое, страстное увлечение юношей из крестьянской семьи, Люсьеном Летинуа, вскоре умершим; тяжелые денежные неудачи, бывшие следствием наивной доверчивости Верлена; его вторичное тюремное заключение (на два месяца), и другие горестные события, окончательно выбившие поэта «Романсов без слов» из колеи обычной жизни, отнявшие у него едва ли не всех близких, бросившие его одиноким и беспомощным в круговорот безжалостного и глухого ко всем мольбам Парижа… Более чем когда-либо мог теперь говорить Верлен, как в одном из характернейших стихотворений «Sagesse», о «разочарованиях, которые плачут вдоль рек», об «отвращении к жизни», об «уныниях, собранных как зрелые плоды».
Автор целого ряда замечательнейших книг лирики, поэт, написавший все те стихи, на которых теперь зиждется его слава и которые навсегда останутся драгоценнейшими жемчужинами французской поэзии, автор «Po?mes Saturniens», «F?tes Galantes», «La Bonne Chanson», «Romances sans paroles», «Sagesse». Поль Верлен был почти совсем неизвестен в литературных кругах. Впрочем, нельзя было особенно упрекать в этом критиков и читателей: у большинства книг Верлена была своя печальная судьба, участь неудачников. «Романсы без слов» были изданы в то время, когда их автор отбывал наказание в бельгийской тюрьме; его друг, Эдмонд Лепеллетье (написавший позднее лучшую биографию Верлена) напечатал эту книгу в маленькой провинциальной типографии, и книга почти не появлялась в продаже. «Sagesse» была издана одним издателем католических религиозно-нравственных сочинений, круг покупателей которого состоял из лиц, стихами не интересующихся, так как никто другой не хотел брать на себя издания книги писателя столь скомпрометированного. Тому же Лепеллетье удалось пристроить сочувственный разбор этой удивительной книги только в той газете, где он тогда работал, – большом политическом органе, совершенно чуждом литературе. Только за самые последние годы Верлен нашел себе издателя, который более или менее оценил его значение – Леона Ванье, впоследствии заработавшего немало на книгах отверженного всеми поэта, – но успех фирмы Ванье еще весь был в будущем. Большие журналы не принимали рукописей Верлена, а у маленьких эфемерных боевых журнальчиков, которые начинали возникать в ту пору и где к Верлену раньше, чем где-либо в другом месте, стали относиться как к ma?tre, число читателей едва ли не совпадало с числом сотрудников.
Поселившись после смерти Люсьена Летинуа в Париже, лишенный всяких материальных средств, Верлен решил «жить своим пером». Для этого надо было пристроиться в одном из тех изданий, где за рукописи платили. Горький опыт уже убедил Верлена, что стихи не нужны никому, что платят деньги только за прозу. Эдмонд Лепеллетье как раз в это время вошел в состав редакции только что основанной большой газеты «Le Rеveil», которую предполагалось издавать по совершенно новому типу: в ней широкое место предполагалось отводить литературе. Этот вид газеты, где политика отодвинута на второй план и где «руководящие» статьи уступают место легкой хронике, должен был получить впоследствии широчайшее распространение и занять главенствующее положение (как мы это видим на примере хотя бы «Matin», «Echo do Paris», «Journal»), но в то время был решительной новостью. Лепеллетье предложил своему другу попробовать свои силы в журналистике такого рода.
В «Le Rеveil» был основан особый отдел, озаглавленный «Paris-Vivant». Там должны были печататься курсивом на первой странице маленькие статейки, частью посвященные разным «злобам дня», частью по вопросам общим, частью в полу-беллетристической форме, написанные разными авторами, но только за двумя подписями-псевдонимами: Jean qui pleure и Jean qui rit («Смеющийся Жан», «Плачущий Жан»). В этом отделе сотрудничали, кроме самого Лепеллетье, Поль Боннетен, Робер Каз и другие, но свое бессмертие он получил, конечно, благодаря участию в нем Поля Верлена. Не всегда статейки, приносимые Верленом, казались редакторам газеты отвечающими задачам ежедневной прессы, многие приходилось возвращать автору (и эти безнадежно затерялись), но некоторые все же находили себе приют на страницах «Rеveil», принося бедному поэтому кое-какой доход и понемногу сближая его с литературной средой. Из этих- то статеек и образовался том, озаглавленный «Mеmoires d'un veuf», «Записки вдовца».
Э. Лепеллетье рассказывает о первом появлении Верлена в редакции «Rеveil». Когда показался в чинных комнатах редакции странный господин, никому неизвестный, плешивый, с растрепанной бородой, плоховато одетый, с обликом странствующего жида, все были до некоторой степени смущены и даже несколько скандализованы. Изумление еще увеличилось, когда услыхали, что пришедший в живой и остроумной речи говорит о литературе, истории, философии, высказывая обо всем мнения неожиданные и оригинальные, что он цитирует давно забытые имена и книги Петрюса Бореля, Барбей д'Оревилли, что о Леконте де Лиль, о Эредиа, о Франсуа Коппе, о самом Викторе Гюго он поминает, как о личных знакомых. Анри Бауер, талантливый писатель и интересный поэт, спросил у Лепеллетье, кто такой этот странный посетитель. «Это Поль Верлен, великий поэт», – ответил Лепеллетье, но имя Верлена ничего не сказало спрашивающему. Только на другой день, попросив у Лепеллетье одну из книг Верлена, Бауер убедился, что характеристика, сделанная в ответ на его вопрос, была верна. «Да, – сказал он, возвращая Лепеллетье томик „Романсов без слов“, – вы правы: Верлен – великий поэт!»
«Le Rеveil» не имело настоящего успеха, хотя газета велась очень талантливо и хотя в ней были впервые напечатаны, кроме хроник Верлена, такие истинно литературные, значительные сами по себе вещи, как «Сафо» Альфонса Додэ и «Сестры Рондоли» Ги де Мопассана. Эта газета лишь подготовила позднейший успех других, аналогичных изданий. «Не следует быть правым раньше времени», – как сказал по этому поводу Лепеллетье. Однако Верлен все же успел поместить в газете несколько десятков своих фельетонов, которые он тогда же решил выпустить отдельным томиком. Однако отдельное издание замедлилось вследствие того, что Верлен занялся раньше печатанием некоторых других своих книг. То было именно время, когда начиналась деятельность Ванье, и Верлен отдал ему сначала свою книгу статей, полукритических, полуантузиазматических, о «Отверженных поэтах», «les Po?tes maudits» (первая книга Верлена, имевшая некоторый успех) и свой новый сборник стихов «Jadis et Nagu?re», в котором он сгруппировал разные свои стихи, не попавшие по разным причинам в предыдущие сборники. «Записки вдовца» вышли только в 1886 году у того же Ванье с посвящением Эдмонду Лепеллетье.
«Записки вдовца» – это частью картинки парижской и сельской жизни, частью маленькие повествования, сжатые и острые, в манере «стихотворений в прозе», частью воспоминания или критические заметки, не всегда беспристрастные. На всем очень определенно чувствуется влияние «Стихотворений в прозе» Бодлера, которого Верлен всегда высоко чтил. Язык «Записок» – характерный язык верленовской прозы. Он не любил слишком правильного построения фраз, не любил точек, поставленных на «i», он предпочитал писать капризными оборотами речи с неожиданной и необычной расстановкой слов, употребляя по временам жаргонные словечки и почти всегда довольствуясь намеком вместо точного рассказа. Этот язык и составляет разительное отличие «Записок» Верлена от «Стихотворений в прозе» Бодлера, написанных чеканным, выработанным стилем. Но в «Записках вдовца» этот язык Верлена еще не переходит границ художественности, не приводит его к намеренному кривлянию, к ужимкам дурного тона, что, к сожалению, чувствуется в позднейших прозаических книгах Верлена.
Вскоре после того как Верлен начал писать в «Le Rеveil», состоялось его сближение с той молодежью, которая вскоре выступила с боевыми знаменами декадентства и символизма. Печатая фельетоны в «Paris-Vivant», Верлен в то же время отдавал свои стихи и критические заметки в «Lut?ce», маленький журнальчик Латинского квартала. Молодые поэты, которые до той поры лишь смутно слышали о Верлене и почитали его давно умершим, ознакомившись е его стихами, признали в нем своего вождя. Его поэзия, интимная до последних пределов, отвечала их запросам, их утомлению объективностью и холодностью парнасцев. «Art poеtique» Верлена, напечатанный в «Lut?ce», сделался символом веры новой школы. Критические статьи Верлена о Стефане Малларме, о Артюре Рэмбо, о Тристане Корбьере были для молодежи откровением, так как она из них впервые узнала об этих своеобразных поэтах и о новой манере относиться к поэзии вообще. Верлен было именно тем, кто был нужен революционерам литературы. Если Мореас мог дать теорию новой поэзии (кстати сказать, очень сбивчивую и неясную), а Малларме – ее философию (не для всех понятную), если другие «вожди» могли провозгласить новые принципы, то никто не был в силах дать непререкаемые образцы нового. Эти образцы молодежь нашла в поэмах Верлена, так долго не находивших себе читателей…
С успеха Верлена в революционно-литературных кружках молодежи начинается постепенный его успех и в общей литературе. Вскоре по выходе первых книг Верлена, изданных у Ванье, потребовались новые издания его «Romances sans paroles» и «Sagesse». Несколько благосклонных отзывов о Верлене появилось в газетах с большим тиражом. Макс Нордау в своей нашумевшей (и крайне невежественной) книге объявил Верлена «единственным поэтом» среди символистов. То же повторил Рене Думик, влиятельный в те годы критик. В конце 80-х годов открылся Верлену доступ в большие журналы. Его имя получило не только огласку, но и подлинную известность. Быстрыми шагами подходила слава. Если бы Верлен в ту эпоху мог «взять себя в руки», вести жизнь, которая почитается должной для людей «стоящих на виду», работать систематически, – он, без всякого сомнения, добился бы и высокого положения в литературном мире и материального благополучия… Но все это было недоступно – или уже недоступно – «бедному Лелиану» (псевдоним Верлена). Печальная привычка к жизни богемы и горестная страсть к абсенту закрывали ему все пути. Слава пришла слишком поздно…
«Записки вдовца» – одна из последних удачных книг Верлена. Еще в книге стихов «Amour», написанной, впрочем, почти целиком раньше, есть много прекрасных страниц, еще есть религиозное одушевление кое-где в его «Bonheur» и острота и очарование в его «Parall?lement», где, однако, многие стихи тоже относятся к периоду гораздо более раннему, но после этих книг начинается явный и плачевный упадок таланта. Еще длинную серию книг в стихах и в прозе написал Верлен в последние годы жизни, побуждаемый постоянной нуждой в деньгах и подчиняясь правилу своего издателя, который не хотел выдавать ни сантима иначе, как под рукопись хотя бы единичного стихотворения, но эти поздние произведения бедной музы Верлена принадлежат к числу тех произведений, о которых чем меньше говорить, тем лучше. В то время, как пленительные песни Верлена совершали свое триумфальное шествие по всей Европе, во всех странах очаровывая и покоряя сердца чуткой молодежи, сам их создатель, больной, старый, почти нищий, влачил жалкое существование в кабачках Латинского квартала со столь же жалкими подругами своей невеселой старости, обиравшими у него его бедные гроши и отравлявшими ему дни своими глупыми раздорами и своей нелепой и фальшивой ревностью. «Мои дурные братья, – говорит он с горечью в одном из своих последних стихотворений, – вы, которые хоронили меня когда-то под своим молчанием, откуда же вдруг взялись все эти восклицания, восторги, откуда вся эта перемена?! Ах! Это то, что называется славой!» Верлен чувствовал сам, что слава пришла для него слишком поздно.
Валерий Брюсов
Записки вдовца
Некоторые мои сны
Я хочу описать как можно подробнее некоторые из моих постоянных снов, те, разумеется, которые мне кажутся достойными этого по их законченному обороту или по их развитию в атмосфере, сколько-нибудь выносимой для проснувшихся.
Я часто вижу Париж. Никогда таким, как он есть. Это незнакомый город, нелепый и многообразный. Я окружаю его узкой рекой, бегущей глубоко меж двух рядов каких-нибудь деревьев. Среди ярко-зеленой листвы блестят красные крыши. Тяжкая летняя пора с густыми, очень темными тучами в разводах, как на небесах исторических пейзажей, и сквозь них самый желтый солнечный свет. Как видите, сельский пейзаж. Но, когда я оглядываюсь на город по ту сторону речки, там видны еще дома, дворы и строения, где сушится белье и откуда доносятся голоса, – ужасные, штукатурные дома предместий настоящего Парижа, напоминающие несколько Сент-Уэнскую долину и всю эту военную Северную улицу, лишь чаще усеянную неровностями. Мне всегда страшно в этом месте, и здесь дышат предания ночных и иных нападений. Не смутное ли воспоминание о призрачном Сент-Мартенском канале?
Я не знаю, как проникают в самый город, и вот я без всякого перехода оказываюсь последовательно на трех площадях, совсем одинаковых, маленьких, четырехугольных, с белыми сводчатыми домами. На тротуаре и на мостовой ни кошки, только рассыльный, который, не знаю почему, заговаривает со мной и показывает пальнем на дощечку на углу одной из площадей. Он смеется и, не помню по какому поводу, находит это нелепым, и я забываю название площади, которое, однако, прочел. Он указывает мне на английское посольство, куда я и отправляюсь. Оно на площади, в одном из низких сводчатых домов. Красный гренадер стоит на часах: меховая шапка и больше ничего – ни перьев, ни кокарды, ни серебряных украшений, короткий мундир с белыми отворотами, черные панталоны с узкой красной выпушкой. Я вхожу, взбираюсь но парадной лестниц из белого гранита с высокими перилами. На ступенях и на перилах сидят или лежат развалившись шотландцы и шотландки в более или менее непринужденных позах. В помещении, похожем на антресоли, куда приводит лестница, сцена изменяется или, лучше сказать, очерчивается ярче и – о, как причудливо! Это нечто в роде гауптвахты: сверкающее оружие, составленное в углу, разбросанное по походным койкам и на каменном полу. Почти голые, все с какой-либо характерной частью одежды – в токе с орлиным пером, в короткой юбке с зелеными и красными полосами или в полусапожках – мужчины и женщины девственные и такие белые, такие легкие двигаются в благородных играх, в мужественных забавах под бодрые взрывы открытого смеха или родных горных песен, распеваемых во все горло…
Видение исчезает в каком-то неполном пробуждении и сон застает меня снова шагающим во весь дух по одной из этих улиц, недавно проложенных и все же не новых, знаете, таких широких, едва только отстроенных, местами невымощенных, без лавочек и носящих имена подрядчиков на – ier и – ard: пыль от штукатурки и песка; ставни и оконные стекла домов, бронза и зелень фонарей и все там имеет тот непотертый вид, от которого делается оскомина на зубах и холодеют концы ногтей. Она поднимается в гору, эта улица, а причина моей поспешности – похоронное шествие, за которым я иду вместе с моим отцом, умершим уже давно, но которого почти всегда я вижу во сне. Я, вероятно, останавливался для какой-нибудь покупки венка или цветов, потому что не вижу больше катафалка, который, должно быть, свернул в конце улицы в узкий переулок, уходящий направо. Направо, а не налево. Слева, там пустыри со спинами и боками высоких доходных домов на самом дальнем плане – отвратительное зрелище. Мой отец делает мне знак идти быстрее и я скоро догоняю его. Мгновенный пробел в моей памяти оставляет меня в неведении, как и где мы вскарабкались на империал дилижанса, катящегося по рельсам, несмотря на отсутствие какого бы то ни было видимого двигателя. Что это за дилижанс? Перед нами гуськом по рельсам, как клопы, ползут продолговатые ящики вышиною около двух метров, окрашенные в светло-голубой грязноватый цвет; в них гробы и это поезд на кладбище. Я это знаю, это так принято, этот способ применяется уже давно. Кривой переулок – все справа. Широкие рвы зияют в глинистой почве зелеными и желтыми пластами. Землекопы, опершись на свои лопаты, глядят, как мы проходим мимо: обоз мертвецов и мы. У них сероватый вид на сероватом воздухе. Холодно. Должно быть ноябрь. Мы все катимся.
А вот совсем другая картина.
Рынок на открытом воздухе, на покатой местности. Виден в ширь. Сотня палаток. Все кишит. Необыкновенная быстрота нашего движения делает несколько смутными очертания предметов и лиц, меж тем как скрип колес по рельсам покрывает все шумы, шаги и голоса. Но запах охватывает нас, мчится с нами, вьется и опускается, приторный и жирный запах, колбасных времен Осады, пирожных и английских кондитерских изделий, разложенных на прилавках, розовых и желтых пудингов, пластов красного полурастаявшего леденца, утыканного половинками прогорклого миндаля, фиолетовых груд безымянных желе и несказуемых студней, пыльных нагромождений Frenchrocks, tea and coffee cakes и попорченных muffins, все это кружится, тает и испаряется в весело растущем отдалении и в туманах исчезающего сна.
Кладбище, куда не приводит меня предыдущий сон, представляется мне в двух совсем различных видах.
Иногда в сильный дождь с ветром перед заходом солнца, очевидно торопясь куда-нибудь добраться и мало озабоченный видом окрестностей, я прохожу большими шагами по высокой аллее, с одной стороны окаймленной могилами, растрепанными деревьями и высокими вздрагивающими травами, меж тем как с другой спускается долина и ее деревья – деревья лесов: буки, дубы и ясени – стонут и скрипят своими вершинами как раз на одной высоте со мной, а в чаще сквозь сумрак вечера и сумрак ветвей просвечивают надгробные памятники, урны и кресты.
Иногда же мне представляется летнее утро, уже жаркое в десять часов. Тени сини вдоль тротуаров и мощно вырезываются на улице меж солнечных ромбов. Как раз в середине какого-нибудь красивого квартала, Отейль или Нейльи, не торгового, но довольно людного, сквозь стекла кареты, в которой я сижу, я вижу издали урывками поросший цветущими изгородями вал: за ним высятся белые надгробные часовни разных стилей и разной высоты, осеняемые пышными развесистыми деревьями, где чирикают воробьи и певчие птицы: у него почти греческий или сицилийский вид, у этого некрополя из мрамора и зелени посреди многолюдного города, и среди разбросанных изящных отелей, где все дышит беспечным равнодушием к смерти, он кажется лишь долгою нежною молнией под таким синим небом…
Настоящий Париж все же нередко появляется в этих грезах, но всегда какие-нибудь мои изменения, какие-нибудь невинные городские работы не преминут ввести в него что-нибудь странное и неожиданное. Так, например, рядом с базаром Бонн-Нувель, между бульваром того же имени и улицей, впадающей там же, я помещаю стеклянный пассаж, выходящий, следовательно, углом. Эта галерея очень красива, широка и удобна для торговли, несравненно удобнее всего, что только есть в этом роде. Я наделяю еще нижние этажи решетчатыми перилами, а подвальные – наружные, значит, – поперечными балюстрадами, как в Лондоне.
Напротив, если мне снится, что я там, в Лондоне, то все это характерное убранство исчезает. И это провинциальный город с вывесками на старо-французском языке, с узкими улицами спиралью, где по досадной и упрямой случайности я вижу себя постыдно пьяным и игрушкою оскорбительных происшествий.
Чтобы вернуться к Парижу и с ним покончить, я должен упомянуть об одном из снов моего раннего детства, когда я еще живал в провинции: мне часто снился на улице Сен-Лазар, немного ближе нынешнего местоположения церкви Грошик каретный сарай бок о бок с бесконечными казармами. Все припомнят, что они видали там сарай и казармы. Казармы были разрушены в 1855 году и на их развалинах вырос склад досок, только гораздо позднее уступивший место названной церкви. Каретный сарай исчез при расширении перекрестка. Все-таки я изумился, как маленький мальчик, когда, спустя годы после того, как я забыл свой сон, чтобы теперь внезапно вспомнить о нем, я в первый раз увидел этот уголок улицы, так хорошо мне знакомый.
Я порядком постранствовал, жил много месяцев в провинции и за границей, и все это продолжалось достаточно долго, чтобы за это время нажить себе привычек, набраться страстей и приключений, наконец, чтобы видеть их во сне. И что же? Кроме изложенного случая в Лондоне, все мои ночи протекают в Париже или же «нигде». Конечно, это «нигде» трудно уловить. Насколько я в силах что-нибудь восстановить – это страна, как всякая другая: города и деревни. В одном из этих городов есть что-то вроде сводчатого прохода, очень темного, очень длинного, сырого и узкого, как туннель, и пахнущего уриной, куда я боюсь углубляться из опасения воров. Но это уже всецело относится к кошмарам, и я перехожу дальше. Что же еще в этих городах? Да, рестораны, где я порчу себе желудок, люди когда-то очень знакомые, которых я снова встречаю и называю по именам, вновь забываемым после пробуждения, – вот и все, все. Да, в открытом ли это поле или при выходе из одного из этих городов «нигде» я оказываюсь на шоссе, окаймленном чрезмерно высокими деревьями, обнаженными, совсем черными, и с которых без ветра каждое мгновение падают ветки на влажную почву, забрызгивающую меня грязью?
А затем все расплывается в тумане. Воспоминание тоже.
Опять на каторге
Ilfaisait noir dans t'escalier,
Plus noir encore sur le palier,
Et pour comble d’infortun
On ne voyait pas ia lune.
Моей всегдашней мечтой было жить в настоящей деревне, где-нибудь «в открытом поле», в каком-нибудь хозяйстве, на ферме, где я был бы владельцем и одним из работников, одним из самых смиренных в виду моей слабости и лени.
И вот я осуществил это «hoc erat», я узнал, испытал, оценил мелкие полевые работы, легкое садовничество, милое любопытство, здоровое сельское злословие, которое делает ваш дом как бы стеклянным и принуждает следить за своим поведением, всегда держа на страже готовое было уснуть сознание достоинства, и непробудный сон после простого дня. Такая жизнь длилась достаточно времени, чтобы всегда вспоминать о ней и долго сожалеть.
Ибо обстоятельства – была ли в них моя вина, что вероятно, или нет, что тоже возможно – снова швырнули меня и даже довольно грубо прямо в самую гущу парижской каторги.
И вот я, угрюмый горожанин, без языка и с чувством отчужденности, сижу в былом своем углу, от которого некогда отрекся, бьюсь из-за корки хлеба посреди этой распри искусственных интересов и бешеных наслаждений, без бодрой мечты, отягощенный бесплодным опытом. Беготня и хлопоты, плоские и утомительные, как тротуар, отравленные обеды, ночи без сна, соседства, с которыми поневоле приходится мириться, искушения презренные, но властные над дряхлым сердцем, которое некогда отдавалось им всецело.
Ночью я взбираюсь но моим ста ступеням, чиркая спичками, обжигающими мне концы пальцев, с мышцами, полными усталости, с головой, полной уличных песен, чтобы лечь спать и не заснуть под нескончаемый стук карет со спущенными шторами, и телег, и тачек, и возов, нагруженных ломом, разбитой мебелью и мусором.
Собаки
Великий Бодлер воспел добрых псов ленивой Бельгии. Я, немощный, хочу попытаться воспеть собаку Парижа. Жан Ришпен недавно прекрасно описал одну из разновидностей этой породы, настолько превосходящей человечество наших дней, – бездомного пса, гуляку, невинного приживальщика, но отнюдь не сутенера, пса кафе, пивной, кабачка или харчевни, пса бродягу, но и гордеца в своем роде, который вовсе неплох.
Как бы то ни было, вот она, моя собака.
Я живу очень высоко, я, видите ли, несколько горд, в комнате, окно которой выходит прямо против самой многолюдной улицы Овернского Парижа.
Другие электронные книги автора Поль Мари Верлен
Другие аудиокниги автора Поль Мари Верлен
Избранное




 4.67
4.67