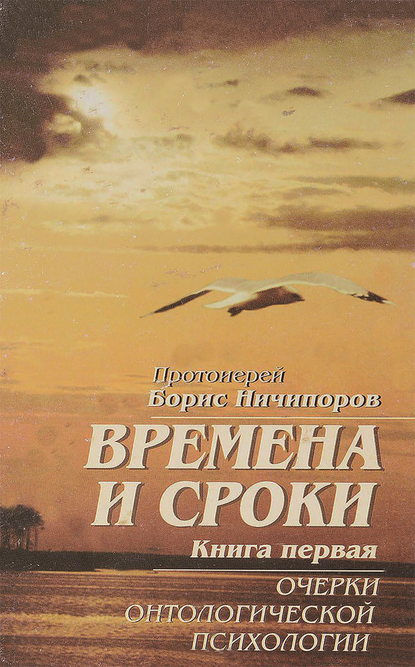По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Времена и сроки. Книга первая. Очерки онтологической психологии
Автор
Год написания книги
2001
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте. [9 - Б. Пастернак. Стихи. – М. 1966. Стр. 269.]
И вот когда мы строим наш педагогический концепт, мы должны вводить ребенка именно в реальность двойного бытия. Для освоения здешнего, «посюстороннего» (К. Маркс) бытия нужен хороший учитель и посредник. Еще более важно тонко и пластично открыть ребенку мир духовный, мир Божий. И здесь тоже необходим учитель, духовник, старец. В этом и открывается нам «двойное бытие».
Ребенок знает инобытие лучше нас. Нам остается только поименовать, подтвердить его наличность. И не заслонять мир Божий своим лицемерием, самостью и равнодушием. А во всем остальном нам лишь остается учиться у самого ребенка.
В 1932 году О. Мандельштам писал:
О, как мы любим лицемерить
И забываем без труда
То, что мы в детстве ближе к смерти,
Чем в наши зрелые года.[10 - О. Мандельштам. Стихотворения. Переводы. Очерки. Статьи. – Тбилиси. 1990. Стр. 182.]
«Ближе к смерти» не в прямом смысле, а ближе к тому пределу, где кончается проблема и начинается тайна.
Созерцание современности
Может быть, одной из самых главных ценностей молодых (и не только молодых) людей является желание быть современным. А что это значит?
Сличим два стиха. О. Мандельштам:
Неужели я настоящий,
И действительно смерть придет? [11 - Там же, стр. 53.]
И второе – у Б. Пастернака:
Не знаю, решена ль
Загадка зги загробной,
Но жизнь, как тишина
Осенняя, – подробна. [12 - Б. Пастернак. «Давай ронять слова…». – Стихи. М. 1966. Стр. 101.]
К. Юнг говорит, что самое трудное – быть современным. Христос был убит, потому что Он был предельно современен. Ветхий Завет оставался позади.
Страх перед реальностью, греховность, наивная мечтательность о будущем, с одной стороны, или реставрационная ностальгия по прошлому, иллюзии и самообман, с другой – все это мешает нам войти в «узел жизни» (О. Мандельштам), в это «здесь и теперь», в сегодня.
Рождество Христово в его пределе схождения в конкретную историческую правду являет нам образ самой «подробности» жизни, ощущения самой ее ткани. Христос родился в конкретном месте, в Теле, и не призрачно понес всю тяготу этой жизни вместе с нами. И недаром одно из Его имен, Эммануил, значит «с нами Бог».
Главным препятствием вхождения в правдивое знание о себе являются малодушие и самопревозношение – тщеславие и трусость.
Главным условием самообнаружения себя самого здесь и теперь является смирение. Смирение и есть снисхождение в глубины «я». Именно смирение выстраивает, воссоздает полюса глубина – высота. Для христиан это очевидно, для психологов – это, может быть, когда-нибудь станет открытием, и открытием великим!
Смирение правильно ориентирует в пространстве. В жизни так и бывает, когда замечтаешься, засмотришься – сейчас и упадешь, и коленка в кровь… Хорошо, что только коленка.
Есть как бы врата – Сцилла и Харибда вхождения в конкретность (современность) жизни. Первый полюс – это вязкое застревание на деталях – душевная скука – все учесть и ничего не забыть, переутомленность трудолюбивой бездарности. И второй полюс – маниловщина и мечтательность, которая никогда так и не приступит к делу: не возьмет молоток в руки, не сядет за статью, не напишет письмо матери, не пойдет гулять с ребенком. В «Мертвых душах» у Манилова мебель много лет так и стояла в чехлах. Чехол, «накидка» на реальность, которую некому снять, – вот образ мнимоутонченного, малодушного страха перед реальностью. Вопрос: «Неужели я настоящий?» – произнесен из глубин сердца, желающего пробудиться и войти в реальность, в ткань жизни.
Антиномия «Я» – «Другой»
Один из драматических ракурсов бытия – отношения «Я» – «Другой». Правильно говорит И. Ильин: «Человек человеку есть духовно-душевно-телесное инобытие. Каждый из нас, как “душе – дух” пожизненно связан с одним единственным в своем роде телом, которое его овеществляет, изолирует, обслуживает, питает и символизирует… “Ты не я, а я не ты”»[13 - И.А. Ильин. Аксиомы религиозного опыта. – М. 1993. Стр. 42.]
Расхожая фраза: «Ну, знаешь, я от тебя этого не ожидал». Или: «Подождем, что он еще выкинет». Все это рождает потом мудрость: «Чужая душа – потемки». Если не останавливаться на бытовом уровне этого самочувствия, а двинуться дальше штопором вниз, то мы обретем одно из самых ужасно тяжелых страданий – одиночество. «Я один. Вокруг маски. Я обманут, брошен, непонят».
Помните монолог Кириллова из «Бесов»: «Вся планета наша есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке». К этому выстраданному постижению надо отнестись очень серьезно.
Но попытаемся выбраться из этой инкапсулированиести, из своего футляра и двинуться навстречу своему ближнему. Здесь не все безоблачно. Наша открытость может – увы! – разбиться о цинизм и насмешки. И здесь необходимо различать два вида самоустроения личности. Одно из них обнаженность. Это ложная, несовершенная открытость, открытость в состоянии отчаянья и обиды. Второе – искренность. Это духовная культура любви к ближнему, культура преодоления собственного двоедушия, лицемерия и эгоцентризма. Но это и культура той меры открытости, которая нужна именно «сейчас», дабы «не метать бисер» своей открытости…
Обида и утешение
Речь здесь идет не о случайных, разовых, «проходных» обидах. Их много. Одни из них забываются мгновенно, другие мы помним дольше, но есть некий глубинный эпицентр – глубинное уязвление, рана. Это вовсе не значит, что мы забыли, как улыбаться и шутить. Но есть нечто трагическое не у человека вообще, а именно у меня.
В жизни много обидного:
– невинное страдание («без вины виноватые»);
– столкновение духа с пошлостью;
– зависть и клевета;
– предательство друга;
– сиротство – объективное (детство без родителей) или субъективное («все бросили»);
– ранняя смерть любимой супруги (супруга), ребенка и проч.;
– уход из семьи мужа (жены), которому отданы годы;
– непонимание «моей» уникальности родителями или, напротив, равнодушие и эгоизм детей;
– это болезнь, сковавшая мою телесную свободу;
– это и объективные трудности: отсутствие жилья, безденежье и многое другое.
Одна православная женщина всю свою жизнь материально нуждалась. И ей снится сон. Она как будто заходит в прекрасную комнату. Комната вся увешана самыми драгоценными крестами. И ей голос говорит: «Выбери себе – какой понравится». Она огляделась и увидела такой миниатюрный, но прекрасно изготовленный крест. Он ей приглянулся. Она подошла, берет его в руки, разглядывает, а в его сердцевине надпись: «Нищета».
Преподобный Амвросий Оптинский пишет, что многие наши кресты вырастают на почве нашего же сердца.
Обида, укоренясь, становится некоей то затухающей, то обостряющейся болью. У одних это ярко выражено, у других слабее.
Обида с годами теряет свое первоначальное содержание. Мы уже и не помним, что нас обидело во всей этой жизни. Позже это уже лишь общий вопрос: «За что?!» Или: «Господи! За что?!». Вопрос всегда сочетается с душевным восклицанием.
Христос как Богочеловек имел свое крестоношение. Накануне своих страданий он молился в Гефсимании так: Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты (Мф. 26, 39).
Это классическое антиномийное утверждение: сначала просьба «да минует Меня чаша», но далее: «впрочем, не как Я».
Символ чаши в христианской культуре также двоякий: чаша – сосуд страданий и слез, но и она же чаша благодати, жизни и радости (см., наир.: Пс.10, 6; 115, 4; Притч. 23, 31; Мф. 20, 22; Откр. 16, 19).
Обида в своей изначальности – это переживание трагического несоответствия искренности и «надежды на лучшее» (меня всегда умилял первый тост с шампанским на Новый год: «С Новым годом, с новым счастьем!»), с одной стороны, и мира с его злом – с другой.