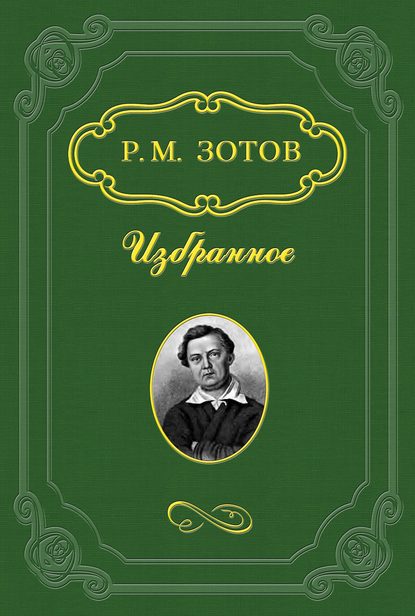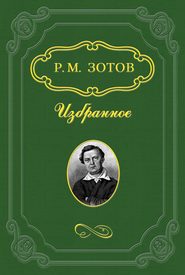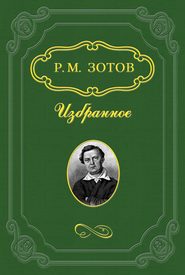По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Два брата, или Москва в 1812 году
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Саша молчал, но слезы градом текли по щекам его. Пристально посмотрел на него пустынник и покачал головою.
– Перестань, дитя! Мы одни, но мне за тебя стыдно…
– Что ж мне делать, дяденька, если я чувствую такое непреодолимое отвращение от военной службы!.. Моя ли это вина? Я очень хорошо понимаю справедливость слов ваших и всеобщих упреков… Но если я не могу…
– Человеческая воля всего сильнее, сын мой! Вижу теперь, что я во всем виноват. Воспитывая тебя, я только хотел, чтоб ты был добрым, честным и умным человеком. Я забыл внушить тебе долг мужества, полагая, что это инстинкт. Я ошибся. Это тоже принадлежит к воспитанию. Впрочем, для этого довольно теперь и рассудка. Преодолей себя. Тверди себе каждую минуту, что это должно, что это необходимо, и ты исполнишь свой долг. Собери все силы своего разума и самолюбия, выдержи только первую опасность, и ты будешь так же хорошо служить, как и все…
– Но если я при первой же встрече умру…
– Этого не случится… Унизиться же до трусости ты никогда не решишься, потому что тогда уж нельзя тебе будет жить в обществе людей… Перестань же, сын мой! ступай в свою комнату… Помолись усердно богу… Прощай!
Саша поцеловал руку дяди и ушел. Когда он пришел в свою комнату, то бросился на диван и долго плакал.
– Что это с вами, Александр Иваныч? – спросил его с участием и заботливостию старый Егор.
Саша рассказал другу своего детства все свои несчастия. Какова же была досада его, когда Егор, проведший всю жизнь в людской, оправдывал всеобщие упреки и требования.
– Да как же иначе, Александр Иваныч! – вскричал он с жаром. – Разумеется, вам надо служить и драться за святую Русь… Я уж давно сбирался спросить у вас об этом… Ну, да я знал, что дядюшка, верно, все это устроит… Теперь послушайте, Александр Иваныч. Я вам столько лет служил верно и честно… Верно, вы не оставите меня здесь, в монастыре, верно, возьмете с собою!..
– Куда?
– Разумеется, на войну!
– Ты с ума сошел…
– Боже сохрани, Александр Иваныч!.. Я не хочу отставать от православных христиан. Все идут на врагов, так и я хочу на своем веку хоть одному басурману снять голову… Экие нехристи! Куда забрались! Да как им это в мысль пришло.
– И неужто ты пойдешь охотно на войну! И тебе не страшно?
– Страшно? Да чего же? Мы все ходим под богом. Сегодня жив и здоров, а завтра скрючит, да и полезай в могилу. Так не лучше ли умереть в чистом поле за царя и святую Русь?
Саша молчал. Все было против него. Когда же Егор повторил еще свою просьбу, чтоб его взять с собою, то Саша дал ему слово, что не расстанется с ним.
Через несколько дней Саша явился к Леоновым в общем армейском мундире, с золотыми эполетами, аксельбантом и шляпою с пером. Он был прелестен в этом наряде. Все его поздравляли, им любовались, и Саша уже был вне себя от радости. О тайном отвращении его никто не знал, и он сам, казалось, забыл о нем, надев военный мундир. Леонов и товарищи его завидовали Саше, они уже получили свое определение и шили себе юнкерские мундиры. Они были тоже довольны своею участью и подсмеивались над Сашею, говоря, что он с своим красным мундиром останется в Москве, не видав неприятеля, а они через неделю будут уже окурены порохом.
Так протекло несколько дней в приготовлениях к отъезду. Вскоре Леонов и товарищи его уехали в полк, а Саша остался в Москве. Он был теперь довольный и счастливый человек! Вдруг получено было приказание, чтобы московское ополчение выступило. Эта весть тотчас разочаровала его. Он бросился к дяде, плакал, умолял его, но получил в ответ одно благословение.
– Послушай, Саша, – сказал ему пустынник при прощании, – жребий твой брошен. Не старайся бороться с судьбою. Это будет бесполезно. Помни, что каждый твой шаг будет мне известен и что если ты постыдишь свое имя и мундир, то будешь моим убийцею. Теперь прощай… И прежде чем уедешь, исполни еще один священный долг. У тебя есть мать, которая тебя любит. До этой минуты я запрещал тебе искать средство с нею видеться, потому что на то была воля отца твоего… Но теперь?.. Кто знает, что случится?.. Благословение матери всего важнее в жизни. Съезди к ней и скажи, что, идя на защиту отечества, ты хотел еще раз с нею видеться, чтобы принять ее благословение. Ступай! Господь да хранит тебя. Я всякий день буду здесь молиться за тебя.
Саша зарыдал, бросился в объятия дяди и долго не мог оторваться от благодетельной груди старца, хранившего дотоле жизнь его на всяком шагу. Сам пустынник прослезился – и это были первые слезы его со времени удаления от мира. Он уже давно не испытывал этого сладкого ощущения. Тяжкие многолетние страдания забыты в эту минуту. Одна слеза надолго облегчила грудь страдальца, и он с теплою молитвою спешил благодарить за нее творца.
Глава X
Печально и однообразно текла жизнь Зембиной со дня рокового свидания. Муж уехал, но при прощаньи не забыл, однако же, повторить ей, что малейшая попытка к сближению с Сашею будет знаком к вечной разлуке их. Она безропотно повиновалась и молилась. Живя совершенно уединенно, она никого не принимала и никуда не выезжала. Переписываясь только с мужем, который был в то время в Туле, она просила у него позволения съездить на время жатвы в деревню, чтоб недели две заняться хозяйством, и Зембин согласился. Деревня их была в Смоленской губернии, на самом почти рубеже с Московскою, и хотя в начале августа разнеслась по Москве ужасная весть о взятии Смоленска, но воззвания графа Растопчина тотчас же успокоили народ, а известие о прибытии к русской армии нового главнокомандующего (Кутузова) решительно обнадежило Москву, что с этой минуты начнутся победы русских. Никто и не думал, чтобы взятие Смоленска могло угрожать опасностию Москве. С нетерпением ждали всякий день известия о сражении, которое должно было кончить отступление русских, и имя Кутузова было верною порукою, что русские победят.
Конечно, в это время боязливая часть народонаселения Москвы начала мало-помалу выезжать, но масса москвичей смеялась над этими эмигрантами. Народ ходил гурьбою и твердил, что шапками закидает басурманов.
Очень мало зная о ходе политических и военных дел, Зембина в эту самую минуту сбиралась выезжать из Москвы. Вдруг ей докладывают, что какой-то офицер, адъютант, хочет ее видеть. Она несколько удивилась, но, полагая, что какой-нибудь приезжий от мужа с поручением, поспешила выйти к нему.
Один взгляд, и бедная страдалица едва не лишилась чувств.
– Что вам угодно? – прошептала она и, закрыв рукою глаза, бросилась на диван.
– Неужели вы меня не узнали? – спросил Саша дрожащим голосом.
– Можно ли сделать этот вопрос матери, – отвечала она, робко озираясь, как будто боясь, чтоб и стены не подслушали слов ее.
Молча бросился Саша к ногам ее, схватил ее руку и осыпал жаркими поцелуями и слезами. Молча обвила Зембина руки свои около его шеи и целовала его голову, глаза, лоб, щеки… Какие слова выразят подобную сцену!
Зембина, бедная, тотчас же опомнилась… Любопытство слуг могло изменить ей… Она встала и повела Сашу в образную, куда никто не смел к ней ходить; тут первым ее движением было броситься перед иконой Спасителя, чтоб воздать богу благодарение за одну минуту счастия в жизни. Когда первые порывы чувств несколько успокоились, начались вопросы Зембиной, и рассказ Саши снова заставил ее плакать. Отверженный сын пришел просить ее благословения, отправляясь на поле битвы, на смерть! Сердце матери разрывалось на части, но она была русская и с твердостью благословила сына своего. Каково же было ее удивление, когда он, приняв с набожною покорностью благословение матери, рассказал ей, что чувствует непреодолимое отвращение от военной службы, особливо в эту минуту, когда им предписано выступать в поход. Это признание был еще новый удар для сердца матери, но она забыла свое огорчение и кроткими убеждениями старалась доказать Саше все неприличие его чувств. Саша согласился со всем, но повторял ей опять то же. Узнав же в конце разговора, что Зембина едет в тот же день в смоленскую деревню, он стал просить ее, чтобы она взяла его с собою.
Несчастная мать имела довольно твердости, чтоб отказать ему, представляя, с одной стороны, бешенство отца, который узнает о нарушении его приказаний, а с другой – долг службы, призывающий Сашу на поле битвы. Все представления ее были, однако же, напрасны. Саша убедил ее позволить ему проводить ее до первой станции. Она согласилась с тем, чтоб он съездил сейчас к своему генералу и выпросил у него позволение на это.
После тысячи объятий и целований они расстались. Саша сказал, что догонит мать за заставою, и Зембина, которая уже совсем была готова к отъезду, тотчас же собралась в дорогу.
Половина Москвы выезжала тогда по всевозможным направлениям, кроме Смоленской дороги. Одна Зембина, не думая ни о каких опасностях, отправилась через Дорогомиловскую заставу. Толпы черни, сопровождавшей обыкновенно криками и насмешками всех выезжающих, молчали при виде кареты и двух кибиток Зембиной, которые тянулись навстречу приближающемуся неприятелю. Это было для них необыкновенное явление, которое внушало уважение и удивление. Зембина, конечно, ничего не замечала. Какое ей было дело до неприятелей и опасностей! Она видела своего сына – и снова ожидала его. Любимая горничная и ключница, которые всегда в подобных вояжах ездили с барынею в карете, пересажены были в кибитку до первой станции, для того, чтоб матери два часа провести наедине с Сашею. Зембина никак не ожидала, что Саша готовит ей нечаянность столь же странную, сколько и печальную. Не более версты проехала она, миновав Дорогомиловскую заставу, как вдруг услышала голос Саши, спрашивавший у задней кибитки: не это ли карета Веры Николаевны Зембиной? С восторгом и нетерпением бросилась она к окну и закричала кучеру, чтоб он остановился, чтоб отпер дверцы… Каково же было ее изумление, когда к дверцам подошла молодая, прелестная девушка, одетая в щегольское дорожное платье, и просила у ней позволение ехать с нею вместе. Эта девушка был Саша, переодетый в женское платье.
Изумление лишило Зембину на время способности говорить. Она знаком пригласила к себе в карету мнимую путешественницу и махнула кучеру рукой, чтоб он ехал, а Саша приказал своему кучеру ехать вслед за кибитками Зембиной.
Долго смотрела мать на несчастного своего сына, который с нежностью целовал ее руки и с беззаботною легкомысленностью радовался, что едет с своею матерью. Наконец тяжелый вздох и ручьи слез облегчили грудь бедной страдалицы, и она спросила сына строгим голосом:
– Что значит твое переодеванье?
– Идея чудесная, гениальная, – весело отвечал он… – Я не хочу идти в поход и придумал этот наряд, который меня надолго скроет от всяких неприятностей… Я уж не раз наряжался девушкою, я знаю все женские приемы, в меня даже влюблялись… Вы едете в деревню… Теперь, в военное время, совсем не до расспросов: кто я и зачем? Я проживу у вас до зимы – война кончится, и, придумав какой-нибудь роман, плен, похищение, я явлюсь опять в Москву…
Может быть, болтовня Саши продолжалась бы еще более, но он взглянул на мать, и отчаяние, выражавшееся на лице ее, остановило его. Он замолчал и с недоумением смотрел на нее, не смея спросить о причине…
– Несчастный! что ты сделал? – вскричала она, ломая себе руки. – Боже! Боже мой! За что ты так жестоко меня наказываешь?
Она не могла продолжать и громко зарыдала.
Часть II
Глава I
Уже два дня тащилась карета и кибитки Зембиной по песчаной Смоленской дороге (тогда еще и не думали о шоссе!); они приближались уже к Вязьме, которая была целью путешествия, потому что, не доезжая до этого города, деревня Зембиной лежала в сторону на проселочной дороге, ведущей из Калужской губернии прямо к Вязьме. В карете Зембина все еще сидела с переодетым Сашею, – и мало-помалу мать привыкала к этому странному зрелищу. Неизвестно, каким образом мог Саша уговорить свою мать, но, после продолжительного объяснения и обоюдных слез, Зембина позволила ему продолжать с нею путь, стараясь материнскою нежностию заглушить всякое другое чувство. Что же касается Саши, то какое-то непостижимое легкомыслие позволяло ему забывать и настоящее, и будущее, а если по временам Зембина напоминала ему об ужасных последствиях, которые должны были произойти от самовольной его отлучки, и в такое время, то он с веселою изобретательностию исчислял все возможные случаи, которые непременно освободят его от всяких неприятностей, и нежными своими ласками заставлял бедную свою мать забывать справедливые ее опасения.
Уже было около полудня – и солнце кончающегося московского лета сильно пекло путешественников. Более всех чувствовали это тощие лошадки, которых неумолимый кучер изредка награждал за усилия их добрыми ударами кнута. Повесив свои головы от этой людской несправедливости, они с стоическим равнодушием переносили и слова, и поступки полусонного возницы и не думали прибавлять шагу. Если б наши путешественники не были так сильно заняты сами собою, то беспрестанные встречи, еще более замедлявшие их езду, привлекли бы все их внимание. Это было самое любопытное зрелище. Сотни телег, повозок и фур тащились мимо них с ранеными и больными, беспрестанно ехавшими из русской армии. Между ними часто встречались и пленные французы. Раненых везли так же бережно и человеколюбиво, как и русских, но с партиями здоровых пленных поступали не очень учтиво. Иррегулярная конница, провожавшая их, совершенно с ними не церемонилась. Не зная по-французски, чтоб заставить их понимать свои приказания, эти всадники нашли другой способ объясняться, который пленные очень хорошо стали понимать.
Еще с четверть часа проехали наши путешественники; но судьбе не угодно было допустить их далее. Встретился обоз отступающей русской армии и надолго остановил карету и кибитки Зембиной. В это время кучера ее успели выведать у кучеров армейского обоза всю подноготную о состоянии военных и политических дел. Результатом этих сведений было то, что кучер Зембиной подошел к дверцам, снял шапку и, по заведенному обычаю почесав за ухом, сказал Зембиной:
– А что, матушка-боярыня, не лучше ли нам вернуться? Я, вишь ты, переспросил у господ кавалеров, и они мне, спасибо, все пересказали…
– Что ж они рассказали? – с живостию спросил Саша.
– А вот что, сударынька, что за обозом идет все несметное русское войско, а вслед за ним валом валит басурманская сила… Вишь, не устоять нашим… али заманивают – кто их знает…
– Ну, так что ж? – спросила Зембина.