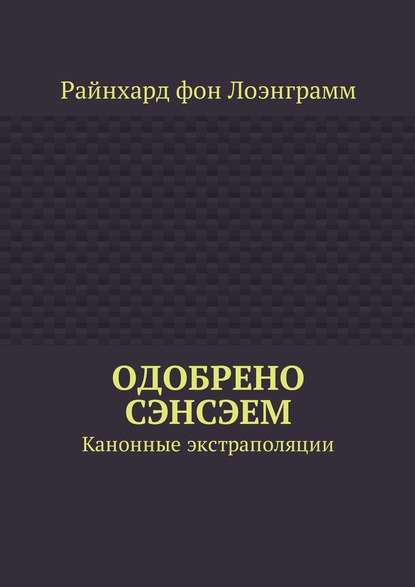По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Одобрено сэнсэем. Канонные экстраполяции
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Древняя забава с солью, – холодно произнесла дама, поникнув головой, по всей видимости, занятая усилиями по сохранению самообладания. – Надо будет после выяснить, кто именно владеет информацией об этом ещё, ну, и определить отдавшего разрешение на неё.
Ужасная мысль блеснула кратчайшим всплеском – Кирхайс во время визита не тронул нигде измученное пытками тело… он даже руки держал у себя на груди, как будто что-то приходилось сдерживать ему самому… Не думать об этом сейчас! – с жарким апломбом прирождённого командира приказал себе молодой маркиз. Нужно было побыстрее и очень нежно обнять девушку, прижать к себе как можно крепче. Вот так, теперь немного успокоить, как перепуганного ребёнка…
– Не надо плакать, – со всей нежностью старшего проворковал Райнхард, – я ведь цел и с Вами, моя дорогая. Можете напоить меня ещё сидром или кофе, я не обижусь, – ласково прошептал он, продолжая гладить её волосы и упорно стараясь не стонать. – У нас ведь почти два часа, нет?
Похоже, усилия были вполне оправданны – рыдания ей сдержать удалось… Ах, какой крепкий поцелуй в щёку, отлично, но мне этого уже мало… Вот так, наконец-то, по-настоящему… Ох, запьянел, лоботряс, сейчас меня опять унесёт, как только что… Ах, так даже круче, чем ночью от откровенного сна, прекрасно. Нет, я хочу ещё, хоть раз, ну же, поцелуй меня ещё раз, да, и просто не выпускай из рук, просто придержи… Да!!! Да, всё, дай мне немного отдышаться. Драгоценная ты моя, как хорошо, что ты не понимаешь толком, от чего я отдыхаю. Ты у меня лучше всех, правда, не сомневайся. Молчишь? Какая умница, тут ничего не надо говорить, да…
Сколько минут прошло в этом тихом молчании, Лоэнграмм не интересовался, замерев от счастья. Когда Хильдегарде прошлась платком по его вспотевшему лбу, он только слабо улыбнулся. Он не хотел сам прекратить этот момент, который сейчас был для него самым счастливым эпизодом его жизни, потому что знал, что ему и так помешают, и скоро. Так и произошло.
Дверь камеры распахнулась, чтоб пропустить рослую фигуру посетителя. Райнхард предпочёл глянуть на него сквозь ресницы, и эгоистично не захотел открывать глаза. Бурную радость демонстрировать сил не было, хотя вскочить очень хотелось, а значит, разумней всего сдержаться.
Серьёзный офицер смотрел именно на него с напряжённым вниманием, почтительно не приближаясь дальше пары-тройки шагов.
– Как он? – тихо спросил вошедший у девушки.
– Идти не сможет, хотя в сознании, – почти прошептала в ответ та.
Райнхард наконец смог успокоиться и открыл глаза.
– Пауль, мне колени и спину трогать нельзя, иначе я заору, – будничным тоном объяснил он. – Так что носилки тоже не помогут.
– Ерунда, донесу и без них, – хозяйским тоном проворчал Оберштайн. – Готов или ещё не торопишься?
– Можно, – Райнхард пожалел, что плечами двигать ещё не получается… – Спасибо, что пришёл, кстати.
– Чепуха, от тебя я благодарности слышать не желаю, – фыркнул в ответ гость тоном старого друга. – Держись, это ненадолго, – его движения были столь аккуратными, что ни разу вскрикнуть от новой боли так и не пришлось. Повиснув вниз головой на плече своего советника, Райнхард нашёл забавным появившееся откуда-то желание заснуть и замер в спокойствии.
Пирог Аннерозе, принесённый Кирхайсом накануне да так и оставшийся не открытым, был найден в пустой камере через полтора часа палачом, который прибыл по душу её пленника, о чём и предупреждал тюремный врач перед своим уходом. Однако, прежде чем поднять тревогу, этот гость решил сперва побаловать себя сладеньким… Тревогу поднять он так и не смог, рухнув вскоре на пол камеры мёртвым.
Явление 3
Мелочи, мелочи, когда их много, они способны добивать вернее и страшнее, чем любая глобальная проблема. Райнхард лежал себе в уютной светлой комнате какого-то особняка, с нарочито диким садом за окном, и пытался успокоить себя осознанием жёсткого контраста с недавним тюремным кошмаром. Раны, полыхавшие там адовым огнём, здесь ныли нудно и муторно – и даже понимание того, что они заживают, облегчения не приносило. Там обступавший из темноты липкий ужас, чётко обозначавший степень унижения до полного бессилия к сопротивлению, заслонил собой всякую реальность. Здесь простой факт того, что вставать получалось не больше четырёх раз в сутки, на несколько минут, повергал в мутное уныние, которое не в силах был пробить солнечный свет и нежный запах цветов из окна. Куда-то растворилась не только радость от избавления от медленной и мучительной смерти, но и счастье – узнав наконец, что любим и желанен, молодой человек вскоре почувствовал глухое опустошение, как загнанный дистанцией бегун. Где-то на задворках сознания упорно стояла себе стеной мысль, что это только от того, что тело не восстановилось после пыток, и нет ещё сил даже на прогулки, за неё измученная душа маркиза Лоэнграмма и пыталась уцепиться мёртвой хваткой. Всё только поэтому, уверял он сам себя, я просто не умею ждать, а разговор в камере с Кирхайсом тут совсем ни при чём, о нём думать не надо и нельзя. Ведь прошло всего несколько суток, а лежать ещё долго, хорошо, если неделю, а не целый месяц, как сообщил приходящий врач – кажется, кардиолог к тому же. Если уж Хильда слегла после их приключений в тюрьме – просто от сильного стресса, ещё двух дней восстановиться вполне хватит, уверял доктор – то что маркиз желает от собственного сердца, очень странно, что после всех перегрузок оно у него выглядит здоровым…
Но все эти резоны так и оставались теорией, которой не суждено быть убедительной. Ощущение, что его успели растоптать, как сорванный цветок, то и дело всплывало в истерзанной после Вестерленда душе бывшего главнокомандующего рейха. За что меня так, я ведь просто пытаюсь выжить – против воли эта мысль всё-таки всплыла, и Райнхард снова уронил голову на подушку, силясь не захлебнуться горькими слезами. У меня больше нет родных, я не нужен сестре, совсем, и глупо уверять себя снова, что произошло какое-то недоразумение. Кирхайс сказал, что Аннерозе всё устраивало – не мог он сам такое придумать… Отчего ж тогда нужно было говорить мне это вот так, перед тем, когда меня и так планировалось прикончить? Трудно было оставить умирать меня в неведении, что ли? Или… или Оберштайн опять прав, это был способ заставить меня подписать приговор себе, сознаться в том, чего не было никогда? Какая разница – в этом случае просто смерть на эшафоте… Нет, разница есть. Да, я беглец теперь, но обвинений мне так и не выдвинули, просто выбивали признание не помню даже, в чём, ибо не объясняли, просто требовали подписать. Конечно, Лихтенладе сделает всё, чтоб меня осудили за не пойми что заочно – но ведь ничто не кончено для того, кто жив. Неужели я устраиваю графиню Грюнвальд только мёртвым? Сестра, за что? Да, я хотел сбросить Фридриха с трона, но не я же ему помог умереть, это ты была с ним рядом постоянно! Кирхайс, если тебе не нравилась моя идея завоевать Вселенную, зачем же было меня поддерживать столько? Опять прав этот циник Пауль с его цитаткой «и враги человеку домашние его»? То-то ты на него сразу и выкрысился, не успели вы познакомиться. Интересно будет после посмотреть, как поладите, вам двоим только и было небезразлично, что Ансбах пришёл меня грохнуть.
Стоп, есть горечь, есть и злость. Отлично, значит, силы появляются, и справиться я смогу – нужно лишь время, да. Но до чего же тошно… опять мне кажется, и очень убедительно, что я всего этого не вынесу. Какой же я слабенький, когда один. Я всю жизнь бегу от этого одиночества – и боюсь споткнуться и упасть. Мне даже подумать страшно, что будет, когда это случится. А оно меня эффективно преследует – я не успеваю оторваться… Да ещё и то и дело превращается в настоящий ужас – тот, который я ощутил, когда узнал про намерение Брауншвейга… которому я не смог помешать, иначе бы погибла не одна планета, а вся Галактика… Кирхайс, ну неужели тебе наплевать на галактику, на самом деле? А как же моя сестра, или ты и её не любишь тоже? Что ж, если тебе понравилось быть вместо меня, я не против. Только всё это иначе делается, в таком случае. Хотя бы так, чтоб я мог честно пожелать удачи. А сделано так, что не только не могу, но и не хочу даже. В чём я виноват – что жив? Да, это слишком многих уже не устраивает. К счастью, выбора уже нет – я намерен жить и дальше.
Наверное, на солнце наплыла туча – а может, погода давно желала испортиться, оттого и самочувствие не улучшалось последние часы. Духота придавила вдруг и без того ослабевшее дыхание, и показалось, будто некий сгусток серой тьмы проник в горло. Как тогда, когда стало ясно, что от прямого попадания не уйти… Райнхард приподнялся на руках, чтоб отжать прочь странное неприятное ощущение – лежать приходилось спиной вверх, и, вероятно, дело было в этом. Но горло вдруг перехватило сильным спазмом удушья, а руки затрясло мелкой дрожью, словно то, что попало внутрь тела, вдруг расплылось каким-то смертоносным излучением, либо нематериальной жидкостью, пропитывающей сразу все ткани внутри. Мозг отказывался интендифицировать правильно странную опасность, и что делать, было совершенно неясно. Вдохнуть глубже не получалось, вдохнуть вообще не получалось и вдруг стало невозможно… животный ужас захлестнул всё существо молодого человека, столь сильно ощущавшего сейчас свою внезапную погибель. Нужно было крикнуть, позвать на помощь – но как раз эта способность и оказалась утрачена. Райнхард попытался рвануться, чтоб хотя бы упасть на пол и создать этим хоть какой-то шум, но тело отказалось уже слушаться, скованное странным спазмом сразу всех мышц, что могли бы осуществить такой манёвр. Такого кошмара предвидеть он не мог, а секунды таяли, вместе с надеждой что-то исправить, потому что вдохнуть не получалось. Поэтому и вопль отчаяния получился только в мыслях, и, когда перед глазами стало темнеть, а может, это само сознание начала топить тьма, Райнхард уже не мог ей сопротивляться.
Сколько времени мрак царил, уничтожив всякое движение, осознанию не поддавалось. Но что-то наконец происходило, где-то совсем рядом, хоть и не было возможно обозначить, где и что именно. Помогите же мне! – взмолилось всё существо молодого человека, который не хотел умирать…
– Ты меня уже слышишь? – знакомый голос был по-прежнему ровным, хоть и не без тревожных обертонов… – Если слышишь, дай знать, ты в безопасности, понял? – теперь уже вернулось ощущение каких-то реалий, оказывается, дышать уже получается… – Всё закончилось, больше так не будет, понимаешь меня? – ну, наконец-то, даже головой кивнуть получилось, я здесь и в себе… – Молодец, у тебя получилось, можешь глаза открывать, бояться уже нечего… – знакомый голос заметно потеплел, и ощущения вернулись полностью, жаль только, что вместе с болью от ран…
Наверное, так мог со мной разговаривать отец, кабы он был бы у меня на самом деле эти чёртовы двенадцать лет вместо того, что этим отчего-то называлось, мелькнула посторонняя мысль… Райнхард не спеша открыл глаза, позволив себе с заметной грустью вздохнуть, и совсем не удивился, обнаружив себя в крепких руках Оберштайна. Желание интересоваться, что с ним только что произошло, отчего-то пропало. Довольно и того, в самом деле, что неведомый толком ужас отступил. Раз советник молчит, значит, и сообщать дополнительно нечего, а стало быть, и опасности больше нет.
– Пауль, у меня чердак покосился, видимо, – с грустью произнёс маркиз, дабы сказать хоть что-нибудь. – Мне ненадолго показалось, что тогда в зале всё было не так. Как будто не ты прыгнул на Ансбаха, а Кирхайс, и тот успел Зигфида грохнуть какой-то потайной стрелялкой. А потом Кирхайс умер у меня на руках и попросил завоевать Вселенную. И будто я там три дня потом сидел пнём и не шевелился.
По волосам и вправду потрепали совершенно по-отечески, и вдруг появилось ощущение, что теперь уже точно всё плохое уже позади…
– Ну, тогда бы всё точно обошлось без вашей встречи в камере, – ровным тёплым тоном отозвался собеседник. – И тебя бы не пришлось оттуда вытаскивать, потому что приказ об аресте отдать бы не успели.
– Ещё скажи, что сделал бы меня регентом, – грустно усмехнулся Райнхард. – Я не шучу, с тебя бы сталось, пока я ворон считал.
– Будешь скоро, – невозмутимо отозвался Оберштайн. – Как только выздоровеешь, так и подсуетимся. Пока тебе надо отдохнуть после всего, и хорошо, потому что потом отдыхать будет некогда.
– Ну о чём ты, – с горечью произнёс уставшим голосом маркиз, силясь не закашляться – видимо, сердечный приступ был сильным. – Я ж беглый арестант нынче, а Кирхайс – главнокомандующий, но даже ему Лихтенладе вряд ли позволит сделать для меня что-то, даже если б тот и хотел, – и он попытался приподняться так, чтоб хотя бы полулежать на боку.
Его начальник штаба осторожно помог, а затем уселся на постели так, чтоб его лицо было хорошо видно раненому. Затем заговорил прежним спокойным тоном, как и всегда делал, докладывая новости, только в этот раз от его слов веяло каким-то неощутимым, но вполне реальным теплом.
– Лихтенладе отравлен несколько суток назад, прямо на балу в ту достопамятную ночь, когда тебя собирались прикончить. Приказ о назначении Кирхайса главнокомандующим не был оформлен и озвучен официально, а потому недействителен и утверждать его некому, потому что мать императора от этого устранилась категорически. Приказ о твоём аресте тоже недействителен – там нет ни одной подписи, кроме руки покойника. Его величество передаёт тебе указание сначала выздороветь полностью, а после явиться пред его очи. Желательно, с чем-нибудь интересным – по его словам, скука во дворце страшная, и поиграть даже не с кем.
– Так, я, пожалуй, вздремну тогда, – почти простонал Райнхард, не зная, что ему делать с заметным головокружением от услышанного. – В этаком случае придётся поторопиться выполнить это указание, верно?
– Тут ты прав. Потому что к вечеру тебя навестит фройляйн Мариендорф, и, полагаю, силы тебе ой как понадобятся. Может, поешь ещё? – на этот раз тон советника был совсем домашним.
– Да, – ослепительно улыбнулся молодой маркиз, чуть прикрыв глаза от неги, затопившей его всего от такого известия. – Однажды я подарю ей Вселенную – как только завоюю…
Интерлюдия 2
– Ну, вот и прибыли, теперь пора, – обычный невозмутимый тон Оберштайна нарушил тишину салона, а это означало, что следует открыть глаза и снова идти…
Опять идти по этому коридору из недругов, чья зависть к тебе из-за того, что по красной полосе идёшь ты, а не они, сгустилась до ярости, поистине разлитой в воздухе дворца, везде. И сгустилась так хорошо, что можно подвернуть ногу на ровном месте, к примеру – или задохнуться в любую секунду, а тогда, пошатнувшись, ничего уже не исправить… Что ж, разве привыкать? Но куда ж делся-то прежний азарт и отчего уже не хочется воевать вообще? Как сломалось что-то внутри уже, и не налаживается само ну никак.
Райнхард открыл глаза, осторожно вздохнул – хотя израненная в застенке спина уже зажила и почти не беспокоила, привычка осталась. Медленно встал с дивана, не заметив, что голова остаётся при этом поникшей – глаза ничего особо сейчас видеть и не хотели, но когда их кто спрашивал, что они хотят видеть? Когда вообще их владельца кто-то спрашивал, чего он хочет? Эта гонка к трону – всего лишь способ выжить, и на свои желания уже и не остаётся времени и сил… И нигде нет права оступиться – разорвут, на куски, сразу же, ещё живого… Ну же, хватит уже руки на груди скрещивать, надо ровно выпрямиться и отпустить их вдоль тела, ничего, справлюсь и в этот раз как-нибудь.
На плечи вдруг аккуратно и чётко опустились крепкие руки, резкий мощный рывок – и дышать стало значительно легче, хотя до того ощущения, что тяжело, вовсе не присутствовало. Даже лёгкий хруст суставов был приятен, и Райнхард молча вздохнул почти с наслаждением, чувствуя, что уже и свободен.
– Голову повыше и запомни – никто ничего не знает вообще о том, что с тобой случилось недавно, понял? – Оберштайн говорил уже знакомым отеческим тоном, который, однако, был абсолютно нераспознаваем для постороннего. – Для всех пожалование – абсолютно нормальная и обычная процедура, им уже нет до тебя никакого дела, всё. Ты просто в отпуск сходил на острова отдохнуть, и только, ясно?
Молодой главнокомандующий рейха попытался улыбнуться, но получился только слегка лукавый взгляд на советника:
– Вовремя, как всегда. Как думаешь, я смогу завоевать Вселенную? – и он уже вполне непринуждённым жестом подбоченился, тряхнув головой.
– Можно подумать, у тебя есть выбор, – с едва заметной, но различимой уху собеседника теплотой фыркнул Оберштайн. – Когда тебя хочет такая дама, ей не стоит отказывать.
Райнхард всего на пару секунд, но заметно зарделся, но произнёс уже обычным холодным тоном:
– Верно, а на меньшее я и сам не согласен уже, – и повернулся, чтобы шагнуть в выходу из парадного фургона.
Всё именно так и получилось – и даже в этот раз, против обычного, не было этого тяжёлого чувства, словно идёшь сквозь незримую тяжёлую жидкость. На талии как будто приладился невидимый никому плотный пояс, что экранировал все флюиды недоброжелателей – нож в масло, да и только, усмехнулся про себя герцог Лоэнграмм. Таким спокойным – а не изображающим ледяное спокойствие – он себя ещё не помнил. И, когда на него снова обрушился поток внимания всей этой массы людей, что раньше норовил его раздавить своим прессом – всей его прежней тяжести почувствовать просто не пришлось. Зато появилось прежнее приятное ощущение, будто погладили по волосам – именно так, как делала Хильда все эти дни, когда приходилось выздоравливать после пыток в тюрьме. Да, она должна была быть где-то там, среди всех остальных, что пялились сейчас в спину – как же приятно чувствовать только её одну…
Сообщение о званом обеде, на котором предстоит быть с императором и его матерью, застало Райнхарда врасплох – но спокойствия, так и разлитого по всему его существу, не нарушило. И даже нарочито семейный характер этого мероприятия, прежде вызвавший бы сильное внутреннее напряжение, нисколько отчего-то не смутил Райнхарда. Он поймал себя на том, что чувствует себя свободно и даже комфортно, и даже аппетит, напрочь исчезнувший бы раньше, вдруг откуда-то появился совершенно естественным образом. Шаловливые взгляды ребёнка-венценосца совсем не раздражали, и поддерживать светскую беседу трудов не составляло вообще – молодой герцог даже не думал предварительно ни разу, что именно он будет отвечать на новую реплику за столом. Ничего общего с прошлым нынче – ни холодной тоски, как у замёршего пса, которого ненадолго запустили в тёплое помещение, чтоб угостить объедками, а затем снова выгнать на мороз, ни злобного азарта игрока ва-банк, который, скорее всего, живёт свои последние часы жизни – не наблюдалось сейчас и близко. Казалось, окружающие все настроены на редкость положительно к своему гостю – и в какой-то момент Райнхард обнаружил, что это ему уже давно не кажется. Он ловил на себе вполне доброжелательные взгляды и внимание, и отвечал тем же, в нужной мере. А думать над произошедшей метаморфозой просто не хотелось. Куда исчезло то, что раньше, оказывается, так мешало жить, и что это такое было, узнавать не было ни сил, ни желания.
Когда император буквально утащил за рукав своего гостя в свою детскую, Райнхард уже не заметил, что непроизвольно улыбается. Хотя в свои двадцать он ощущал себя жутко взрослым перед семилеткой, резвиться и дурачиться после традиционной демонстрации ребёнком своих игрушечных сокровищ им это нисколько не помешало. Но в какой-то момент передышки юный Гольденбаум вдруг стал столь серьёзным, что проступили очень заметно основные фамильные черты:
– Садись поудобней, чтоб тебе было меня чётко видно, – произнёс мальчишка тихим голосом, метнулся к проигрывателю и запустил что-то дежурное о каких-то покорителях дальних космических пространств, затем вернулся и устроился напротив с самым решительным видом. – Скажи, когда ты стал взрослым, ну, когда твоя сестра уехала от тебя во дворец, тебе ведь было восемь, да?
Райнхард вежливо кивнул, воззрившись на него со снисходительным интересом.