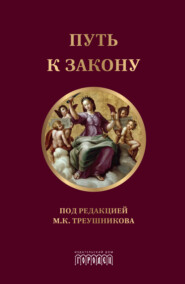По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мобилизованное Средневековье. Том 1. Медиевализм и национальная идеология в Центрально-Восточной Европе и на Балканах
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мобилизованное Средневековье. Том 1. Медиевализм и национальная идеология в Центрально-Восточной Европе и на Балканах
Коллектив авторов
Книга посвящена исследованию феномена медиевализма в Центрально-Восточной Европе (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Прибалтийские страны) и на Балканах. Понимаемый как использование средневековых символов и образов для придания смысла современным процессам в Новое и Новейшее время, он проявлялся в высокой и массовой культуре, литературном и художественном творчестве, политическом и национальном дискурсах, а также во всех сферах жизни, использующих символику, – от декоративно-прикладного искусства до коммерческой рекламы и компьютерных игр. В фокусе внимания авторов – использование медиевальных концептов для формирования национальной идентичности, в национальных культурах и идеологии национализма.
Издание адресовано специалистам, но будет полезно как студентам, так и всем интересующимся историей.
Иллюстрации доступны только в бумажном варианте книги.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Мобилизованное Средневековье. Том 1. Медиевализм и национальная идеология в Центрально-Восточной Европе и на Балканах
© Санкт-Петербургский государственный университет, 2021
© Коллектив авторов, 2021
Введение, или Для чего понадобилась мобилизация Средневековья?
Вызвать прошлое – значит сделать его нашим собственным.
Д. Лоуэнталь
«Темные века закончились», «Стыдящиеся монахи», «Овсянка для священника – столь хороша, что невозможно оторваться!», «Давайте назовем их русскими – князь Владимир основал новую нацию», «Специально от крестоносцев», «Франция играет грязно (1204 г.)», «Это война! Три года спустя (1340 г.)», «Новости испанской инквизиции». Таковы заголовки газеты «The Medieval Messenger», на которой стоит дата 13 октября 1349 г.[1 - The Medieval Messenger. Friday, October, 13, 1349. No. 4627. London, 1996.] На самом деле она издана в Лондоне в 1996-м. Ее создатели хотели показать, как могла бы быть преподнесена древняя история современными газетчиками, как «новости Средневековья» звучали бы под пером журналистов ХХ в.
Феномен обращения к Средневековью для описания и истолкования современности получил название «медиевализм». Он проявляется в высокой и массовой культурах, литературном и художественном творчестве, политическом и национальном дискурсах, а также во всех сферах жизни, использующих символику, вплоть до коммерческой рекламы и компьютерных игр[2 - Chaganti S. Under the Angle: Memory, History, and Dance in Nineteenth-Century Medievalism // Australian Literary Studies. 2011. Vol. 26, iss. 3/4. P. 147–162; The Medieval Hero on Screen: Representations from Beowulf to Buffy / ed. by M. Driver, S. Ray. Jefferson; London, 2004.]. Данное явление интеллектуальной деятельности, творчества, культуры хорошо изучено прежде всего на примере Великобритании[3 - MacDougall H. Racial Myth in English History: Trojans, Teutons and Anglo-Saxons. Montreal, 1982; Simmons C. Reversing the Conquest: History and Myth in Nineteenth-Century British Literature. New Brunswick, 1990; The Recovery of Old English: Anglo-Saxon Studies in the Sixteenth and Seventeenth Centuries / ed. by T. Graham. Kalamazoo, 2000; Literary Appropriations of the Anglo-Saxons from the Thirteenth to the Twentieth Century / ed. by D. Scragg, C. Weinberg. Cambridge, 2000; Wawn A. The Vikings and the Victorians: Inventing the Old North in Nineteenth-Century Britain. Cambridge, 2000; Kevin J. Cinema Arthuriana: Twenty Essays. Jefferson; London, 2002; Кратасюк Е. Г. Присвоение Средневековья: легенды артуровского цикла в рекламе и кинематографе конца ХХ века // Средние века. 2002. Вып. 63. С. 145–153; Alexander M. Medievalism: The Middle Ages in Modern England. New Haven; London, 2007; Cruise C. “Sick-sad dreams”: Burne-Jones and Pre-Raphaelite Medievalism // The Yearbook of English Studies. 2010. Vol. 40, no. 1/2. P. 121–140; Kathleen C. Eco-Tourist, English Heritage, and Arthurian Legend: Walking with Thoreau // Arthuriana, 2013. Vol. 23, no. 1. P. 20–39; Brownlie S. Memory and Myths of the Norman Conquest. Cambridge, 2013; Elliott A. Medievalism, Politics and Mass Media Appropriating the Middle Ages in the Twenty-First Century. Suffolk, 2017.], в несколько меньшей степени – Франции[4 - Glencross M. Relic and Romance: Antiquarianism and Medievalism in French Literary Culture, 1780–1830 // The Modern Language Review. 2000. Vol. 95, no. 2. P. 337–349; Morowitz L. Medievalism, Classicism, and Nationalism: The Appropriation of the French Primitifs in Turn-of-the-Century France // Studies in the History of Art. 2005. Vol. 68: Symposium Papers XLV: Nationalism and French Visual Culture, 1870–1914. P. 224–241; Bloch R. Restoration from Notre-Dame de Paris to Gaston Paris // Manufacturing Middle Ages. Entangled History of Medievalism in Nineteenth-Century Europe / eds P. Geary, G. Klaniczay. Leiden; Boston, 2013. P. 279–298; Montoya A., Ferrе V. Medievalism and Theory: Toward a Rhizomatic Medievalism // RELIEF. 2014. Vol. 8, no. 1. P. 1–19.], Германии[5 - Classen A. The Never-Ending Story of the (German) Middle Ages: Philology, Hermeneutics, Medievalism, and Mysticism // Rocky Mountain Review of Language and Literature. 2001. Vol. 55, no. 2. P. 67–79; Fuhrmann H. ?berall ist Mittelalter: Von der Gegenwart einer Vergangenen Zeit. M?nchen, 2010; Werner M. Medievalism and Modernity: Architectural Appropriations of the Middle Ages in Germany (1890–1920) // Manufacturing Middle Ages. Entangled History of Medievalism in Nineteenth-Century Europe / eds P. Geary, G. Klaniczay. Leiden; Boston, 2013. P. 239–258; Eichenberger N., Kirakosian R., Wareham E. The German Middle Ages in the Sixteenth to Eighteenth Centuries: Reception and Transformation // Oxford German Studies. 2014. Vol. 43, no. 4. P. 335–344.], Скандинавских стран[6 - Wilson D. The Roots of Medievalism in North-West Europe: National Romanticism, Architecture, Literature // Manufacturing Middle Ages. Entangled History of Medievalism in Nineteenth-Century Europe / eds P. Geary, G. Klaniczay. Leiden; Boston, 2013. P. 111–138; Andrеn A. Medieval and Neo-Medieval Buildings in Scandinavia // Ibid. P. 139–158.], Италии[7 - Falconieri T. “Medieval” Identities in Italy: National, Regional, Local // Manufacturing Middle Ages. Entangled History of Medievalism in Nineteenth-Century Europe / eds P. Geary, G. Klaniczay. Leiden; Boston, 2013. P. 319–346.], США (страны, не имеющей своего Средневековья, но обретающей его именно через медиевализм)[8 - Kegel P. Henry Adams and Mark Twain: Two Views of Medievalism // Mark Twain Journal. 1970–1971. Vol. 15, no. 3. P. 11–21; Galloway A. William Cullen Bryant’s American Antiquities: Medievalism, Miscegenation, and Race in “The Prairies” // American Literary History. 2010. Vol. 22, no. 4. P. 724–751; Scanlon L. Modernism’s Medieval Imperative: The Hard Lessons of Ezra Pound’s “Hugh Selwyn Mauberley” // Ibid. P. 838–862.] и других регионов[9 - Goyal S. Rise of Medievalism in Indian History // Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute. 1997. Vol. 78, no. 1/4. P. 13–40; Marosi E. Restoration as an Expression of Art History in Nineteenth-Century Hungary // Manufacturing Middle Ages. Entangled History of Medievalism in Nineteenth-Century Europe / eds P. Geary, G. Klaniczay. Leiden; Boston, 2013. P. 159–188; Ersoy A. Ottoman Gothic: Evocations of the Medieval Past in Late Ottoman Architecture // Ibid. P. 217–238; Ryan E. A Medieval New World: Nation-Making in Early Canadian Literature, 1789–1870. Toronto, 2015.].
История термина «медиевализм» восходит к середине XIX в. (ученые называют 1844, 1847 и 1853 гг. как даты его появления)[10 - Matthews D. From Medieval to medievalism: A new semantic history // The Review of English Studies. New Series. 2011. Vol. 62, no. 257. P. 704–705.]. Он развивался не менее двух столетий, XIX–XXI вв., что породило деление на «старый» и «новый» медиевализм[11 - The New Medievalism / eds M. Brownlee et al. Baltimore; London, 1991; Medievalism and the Modernist Temper / eds R. H. Bloch, S. G. Nichols. Baltimore, 1996; Freedman P., Spiegel G. Medievalisms Old and New: The Rediscovery of Alterity in North American Medieval Studies // The American Historical Review. 1998. Vol. 103, no. 3. P. 677–704; Фридман П., Спигел Г. Иное Средневековье в новейшей американской медиевистике // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 2000. М., 2000. С. 125–164; The New Medievalism / eds M. S. Brownlee, K. Brownlee, S. Nichols. Baltimore; London, 1991; Weisl A. The Persistence of Medievalism: Narrative Adventures in Contemporary Culture. New York, 2003; Савицкий Е. Е. Критерии новизны в историографии 1990-х годов: На примере «нового медиевализма»: автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2006; Haydock N. Movie Medievalism: The Imaginary Middle Ages. Jefferson; London, 2008; Studies in Medievalism XVI: Medievalism in Technology Old and New / ed. by K. Fugelso. New York, 2008; Rethinking the New Medievalism / eds R. Howard Bloch et al. Baltimore, 2014; Matthews D. Medievalism: A Critical History. New York, 2015.]. Некоторые ученые, в соответствии с современными гендерными теориями, выделяют даже «женский» и «мужской» медиевализм[12 - Bennett J. Medievalism and Feminism // Speculum. 1993. Vol. 68, no. 2. P. 309–331; Tolmie J. Medievalism and the Fantasy Heroine // Journal of Gender Studies. 2006. Vol. 15, iss. 2. P. 145–158; Saunders C. Women Writers and Nineteenth-Century Medievalism. New York, 2009. – О связи медиевализма с сексуальностью и эротикой см.: Regiewicz A. Mediewalizm wobec zjawisk audio-wizualnych I nowych mediоw. Warszawa, 2014. S. 42–45, 111–155.], существует и «гомосексуальный» медиевализм[13 - Kruger S. Gay Internet Medievalism: Erotic Story Archives, the Middle Ages, and Contemporary Gay Identity // American Literary History. 2010. Vol. 22, no. 4: Medieval America. P. 913–944.].
Увлечение этим направлением исследований нарастает. Как отметил Р. Утц, «если сравнить периоды 1950–1991 и 1991–2016 годов, то выяснится, что во второй из них вышло в семь раз больше книг и статей, использующих понятие “медиевализм”, то есть трактующих проблемы продолжающегося переосмысления средневековой культуры художниками, писателями и учеными в постсредневековые эпохи»[14 - Утц Р. Дивные новые медиевализмы? // Неприкосновенный запас. 2018. № 1. С. 164–165. – На английском языке статья была издана под другим заголовком: Utz R. (Neo) Medievalism is a Global Phenomenon: Including Russia // The Year’s Work of Medievalism. 2017. Vol. 32.]. Р. Утц утверждает, что сегодня «академические исследования Средневековья – только часть более широкого культурного феномена “медиевализма”, продолжающегося изучения, переписывания, переопределения средневековой культуры в постсредневековые времена… в эпистемологическом отношении продукты и практики академических трудов по медиевистике ни в коем случае не стоят выше других переосмыслений прошлого»[15 - Утц Р. Дивные новые медиевализмы? С. 165–166. – Целиком данную концепцию см.: Utz R. Medievalism: A Manifesto. Bradford, 2017. Также см.: Utz R. Coming to Terms with Medievalism: Toward a Conceptual History // European Journal of English Studies. 2011. Vol. 15, no. 2. P. 101–113.].
Почему возник медиевализм? Причин оказывается достаточно много. Прежде всего, этот феномен появился как реакция общества и человека на потребность в красивом мифе о своем прошлом. По словам З. Баумана, «пришел черед выдать кредит прошлому – кредит доверия (заслуженно ли?) как месту все еще свободного выбора, на которое возлагаются еще не поруганные надежды»[16 - Бауман З. Ретротопия. М., 2019. С. 16.]. Как говорил Шатобриан, «чем отдаленнее времена, тем более волшебными они представляются»[17 - Цит. по: Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна. СПб., 2004. С. 108.]. Первоначально обращение к Средневековью было неотъемлемой частью романтического мироощущения[18 - Kenney A., Workman L. Ruins, Romance, and Reality: Medievalism in Anglo-American Imagination and Taste // Winterthur Portfolio. 1975. Vol. 10. P. 131–163.], победой дионисийства над аполлоническим принципом в культуре и искусстве. Средневековье воспринималось как романтическая антитеза классике. Медиевализм не реконструировал реальную историю Средних веков, но использовал научное знание как источник информации, образов и идей, осмыслял их в художественных категориях[19 - Stock B. The Middle Ages as Subject and Object: Romantic Attitudes and Academic Medievalism // New Literary History. 1974. Vol. 5, no. 3. P. 527–547.]. Это не память о прошлом, а конструирование этой памяти. В большинстве случаев речь идет о вымышленном, придуманном, воображенном прошлом, которое ученые мужи раскритиковали бы за несоответствие исторической действительности; но в данном феномене релевантность исторической правде второстепенна, хотя истина нередко и декларируется как идеал, что не мешает сочинять абсолютно фантастические истории под маркой открытия истинной картины Средневековья[20 - Matthews D. Medievalism: A Critical History. Cambridge, 2015.].
Почему люди не столько реконструируют, сколько придумывают картины давно минувших эпох? Почему, как выразился Д. Лоуэнталь, «многих более привлекает поклонение прошлому, чем попытка отыскать подлинное прошлое»?[21 - Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна. С. 39.] В ХХ в. происходят серьезные изменения носителей памяти. Сегодня социальная память уступила место коллективной (термин М. Хальбвакса). Под коллективной памятью понимаются коллективно разделяемые репрезентации прошлого[22 - Мы не касаемся незавершенной в науке дискуссии о соотношении социальной, национальной, политической, коллективной и культурной памяти, так как один только обзор историографии вопроса может составить отдельную книгу (см.: Gedi N., Elam Y. Collective Memory: What is it? // History and Memory. 1996. Vol. 8, no. 2. P. 30–50; Kansteiner W. Finding Meaning in Memory: A Methodogical Critique of Collective Memory Studies // History and Theory. 2002. Vol. 41, no. 2. P. 179–197; Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004; Джадт Т. «Места памяти Пьера Нора»: Чьи места? Чья память? // Ab Imperio. 2004. № 1. С. 44–71; Рикер П. Память, история, забвение. М., 2004; Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook / eds А. Erll, A. N?nning. Berlin, 2010; Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. М., 2014; Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение. СПб., 2019; и т. д.).] (отсюда, собственно, и возникают универсальные для всей нации места памяти). П. Нора назвал этот процесс деколонизацией «всех малых народов, групп, семей, всех тех, кто обладал сильным капиталом памяти и слабым капиталом истории, конец обществ-памятей, как и всех тех, кто осуществлял и гарантировал сохранение и передачу ценностей, конец церкви или школы, семьи или государства, конец идеологий-памятей, как и всего того, что осуществляло и гарантировало беспрепятственный переход от прошлого к будущему или отмечало в прошлом все то, что было необходимо взять из него для изготовления будущего, будь то реакция, прогресс или даже революция»[23 - Нора П. Между памятью и историей. Проблематика мест памяти // Франция – память / П. Нора и др. СПб., 1999. С. 17–18.].
В наши дни в социально-культурном плане утрачено то, что Хальбвакс называл рамкой (cadre) представлений о прошлом, образованной базовыми, социальными воспоминаниями (ориентирами). Раньше эту рамку из поколения в поколение транслировали семья и социальный слой, к которому принадлежал индивид. Благодаря изменениям в устройстве общества, росту социальной мобильности, упрощению сословных перегородок, маргинализации, миграции утрачивается память социальных групп. Именно они, как показал М. Хальбвакс, долгое время были носителями коллективной памяти[24 - Halbwachs M. On collective memory. Chicago; London, 1992; Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М., 2007.]. В наши дни, как считают ученые, почти невозможно говорить о таких феноменах, как «память крестьянства», «память рабочих» или «память горожан-ремесленников». В наши дни коллективная память, как справедливо отметил П. Нора, сохраняется только в виде памяти нации, хотя он же далее утверждал, что «нация не является больше той объединяющей рамкой, которая ограничивает сознание определенной общности людей»[25 - Нора П. Нация – память // Франция – память. С. 51–65.].
На рубеже ХХ и XXI вв. процессы еще более усложнились, поскольку расширяющаяся глобализация с ее мультикультурализмом подрывает основы коллективной памяти как памяти национальной. Само понятие «нация» сегодня значительно отличается от того, что под ней понималось в 1882 г. в знаменитой сорбоннской речи Э. Ренана[26 - Ренан Э. Что такое нация? // Ренан Э. Собрание сочинений: в 12 т. Т. 6. Киев, 1902. С. 87–103.], и даже «воображаемые сообщества» Б. Андерсона в наши дни далеко не полностью отражают взаимовлияние национализма и глобалистического космополитизма[27 - Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001.]. Д. Хапаева высказала радикальную «антинациональную» идею, что «…одна из причин распада идеи нации коренится в потере современными нациями права на национальную историю. Способна ли сегодня национальная история Германии, Италии, Франции, России быть источником позитивной идентичности? В XX веке история этих наций… бросила вызов тем ценностям, которые провозглашались и продолжают провозглашаться основами общества и принципами политики. Без отказа от идеи национальной исключительности, без отказа от претензий на право сохранить историю нации невозможно сосуществование как Европы, так и России со своим “непреодолимым прошлым”. Осознание этого – не призыв к забвению страшных событий прошлого, а неизбежная плата за них, необходимая составляющая тех глобальных изменений, которые обозначили конец эпохи Просвещения. Отказ от того, что являлось основой национального сознания, национальной гордости, национального чувства, национальной истории может привести к возникновению новых форм самосознания. Наше время – время космополитизма. Это и расплата, и начало нового пути»[28 - Хапаева Д. Время космополитизма. Очерки интеллектуальной истории. СПб., 2002. С. 6.].
Однако этот глобалистский «новый путь» многих пугает, потому что означает отречение от существующей идентичности во имя «проекта будущего», который сформулирован довольно абстрактно и неотчетливо, как некий комплекс ценностей с неоднозначным механизмом и непредсказуемым результатом их практического воплощения. Оставляя в стороне оценку этого выбора идентичности, выбора между мультикультурным и национальным, констатируем только, что реакция общества на саму постановку вопроса о таком выборе очень разная, вплоть до полярного радикализма, который может проявляться как в полном отказе от национальной идентичности, так и в национализме.
Для немалой части общества в этом культурном контексте прошлое выступает скрепой, позволяющей обрести почву под ногами, особенно в полинациональных социумах. Если современные малые мононациональные государства еще могут опереться на глобализм как идеологию, которую можно сформулировать следующим образом: «Мы обретаем будущее своей нации в ее слиянии с Европой», то для полинациональных неизбежен вопрос: что, собственно, объединяет наши народы и регионы в единое государство, и зачем мы объединились? После краха империй, после отказа от коммунистического проекта (его можно расценить как квазиглобалистский) единственной скрепой, претендующей на конвенциональность в постсоциалистическом мире, куда входит вся Центрально-Восточная Европа и Балканы, выступает общая история и общая (коллективная) историческая память. Чем глубже эти центростремительные исторические корни, тем они значимее, тем легче их конструировать и воображать (более близкие к нашим дням эпохи подвержены верификации, а древнее прошлое можно представить каким угодно). Таким образом, идеальным инструментом для современной коллективной памяти и исторической политики является медиевализм, мобилизация Средневековья для запросов современной коллективной памяти.
Медиевализм является сложным явлением. С одной стороны, это феномен элитарный, порожденный во многом именно культурой, эстетизмом истеблишмента и интеллектуалов. С другой – он не получил бы столь широкого распространения, если бы не оказался созвучен настроениям масс. Медиевализм в силу специфики предмета (трудность постижения Средневековья) невозможен без квалифицированных, профессиональных исторических реконструкций, иначе он будет неубедителен. В то же время в силу образной, дискурсивной природы он живет именно в памяти и находит воплощение в символике мест памяти. Медиевализм оказывается на стыке памяти и истории, служит инструментом исторической политики, потому что он выступает одним из ресурсов, к которому обращаются при формулировании национальной, политической, культурной идентичности. Он поставляет материал для формирования первооснов – идеи происхождения и первенства, идеи славного величественного прошлого, образов исторических героев и т. д.
Как блестяще выразился Август Хекшер, «Родину необходимо сформулировать… а затем сохранить»[29 - Цит. по: Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна. С. 90.]. Для этого нужны маркеры, опорные точки, символическое воплощение образов прошлого в останках. М. Хальбвакс именовал все это «ориентирами» (в русском переводе возник термин «реперные точки»[30 - Зенкин С. Морис Хальбвакс и современные гуманитарные науки // Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М., 2007. С. 11.]), а Э. Смит эффектно определил их как «бейджи нации»[31 - Smith A. Nations and Nationalism in a Global Era. Cambridge, 2007. P. 150.]. П. Нора очень точно назвал их «местами памяти». Под ними понимаются символы культурной идентичности, воплощенные в «останках» (некоторых физически существующих объектах), в которых «память кристаллизуется и находит свое убежище». Это «крайняя форма, в которой существует коммеморативное сознание в истории, игнорирующей его, но нуждающейся в нем… Это то, что скрывает, облачает, устанавливает, создает, декретирует, поддерживает с помощью искусства и воли сообщество… Места памяти рождаются и живут благодаря чувству, что спонтанной памяти нет, а значит, нужно создавать архивы, нужно отмечать годовщины, организовывать празднования…». Их суть – в возвратном движении от свершившегося к истории и обратно в память. Некий объект или образ как бы вынимается из общей ткани прошлого, наделяется особым смыслом и помещается обратно в историческое пространство уже в качестве реперной точки памяти. Он одновременно материален, символичен и функционален[32 - Нора П. Между памятью и историей. С. 17, 26–27, 40.].
И хотя, безусловно, места памяти бывают не только медиевальные, в общей системе мест памяти, формулирующих понятие Родины для нации, средневековые ориентиры абсолютно необходимы – они доказывают древность происхождения, длительность традиций, превосходство над другими нациями. Настоящее, в принципе, всегда строится на фундаменте прошедших веков. Д.Лоуэнталь выделял следующие эвристичные категории, которые выступают в качестве средства отбора информации из прошлого: 1) прошлое узнаваемо и понятно (в отличие он настоящего); 2) прошлое несет в себе подтверждение правильности происходящего; 3) прошлое служит фундаментом нашей индивидуальной и групповой идентичности; 4) в прошлом можно найти руководство к действию, вдохновляющие примеры; прошлое делает настоящее более понятным и узнаваемым; 5) знание прошлого обогащает нас культурно и интеллектуально; 6) в прошлое можно ментально бежать из настоящего[33 - Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна. С. 86.] (о такой потребности свидетельствует популярность движения реконструкторов). Люди нуждаются в прошлом, которое они, будучи не в силах до конца познать, пытаются вообразить.
И здесь встает вопрос: что именно воображать, какую эпоху реконструировать как свой символический мир? Выбор объекта вытекает из потребностей. Для идентичности человеку и социуму надо иметь систему объяснительных образов, отвечающих на вопрос: «Кто мы?».
Эта система организована исторически, как отметил Ф. Ницше: «Чем глубже у данного человека заложены корни его внутренней природы, тем большую часть прошлого способен он переработать по-своему»[34 - Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Ницше Ф. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 163.]. Она включает в себя:
1. Рассказ о происхождении народа «origo gentis»; желательно красивый, релевантный этногенетическим легендам соседей и даже превосходящий их; при этом, чем древнее корни и чем они больше возводятся к «почетным» предкам (арийцы, римляне и т. д.), тем лучше.
2. Рассказ о событиях, являющихся ключевыми моментами в истории («события, создавшие народ»). Это миграционные мифы (откуда пришли и куда ходили), рассказы о войнах, восстаниях, завоевании территорий иноземца ми и борьбе за свободу, об обретении веры, строительстве городов и храмов, о знаменитых исторических персонажах и т. д.
1. Объяснение происхождения особенностей культуры (в широком смысле), народного характера, обычаев и ритуалов повседневной жизни и т. д.
2. Рассказ о народных героях и их подвигах.
3. Рассказ о святых, связанных с ними чудесах, реликвиях и святых местах.
4. Рассказ о культурных героях (изобретателях, наставниках, творцах и т. д.).
5. Легенды о происхождении вещей – национальных символов (инсигний власти, чудотворных икон и реликвий, элементов национальной одежды, блюд национальной кухни, элементов строений, предметов быта, домашнего обихода и т. д.). По определению Д. Лоуэнталя, «тот факт, что этими вещами обладали предки, делает их также и нашими вещами»[35 - Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна. С. 107.].
Каков источник этих мифов и легенд? Он должен отвечать трем характеристикам. Во-первых, авторитет его должен быть непоколебим, а исторические сведения – значимы. Следовательно, крайне желательна как можно большая древность, которая сама по себе придает весомость повествованию. Это должна быть славная эпоха, насыщенная событиями, которыми можно гордиться, благодаря механизму забвения освобожденная от негативных моментов, о которых нация не хочет вспоминать. Как выразился М. Каммен, история должна быть очищена от вины; по его мнению, наследие должно наполнять нас гордостью, а не стыдом[36 - Kammen M. Mystic Chords of Memory. New York, 1991. P. 688.]. Во-вторых, те или иные истории должны преподноситься как реально бывшие события, историческая истина, зафиксированная на страницах школьных учебников, в национальных ценностях, установленных памятниках и т. д. В-третьих, история, к которой обращаются, должна быть трудно проверяема на соответствие научным критериям, иметь широкое поле для интерпретаций и трактовок, которые и позволяют вносить в историческое знание идеологически востребованные конструктивистские коррективы. По блестящему выражению Д. Лоуэнталя, «невежество наравне с удаленностью защищают прошлое от тщательного разбора… прошлое восхищает больше, являясь царством веры, а не фактов»[37 - Цит. по: Бауман З. Ретротопия. С. 65.].
Под все эти требования идеально подходит эпоха Средневековья. Она достаточно древняя, имеет свою серьезную научную историографию и в то же время по множеству сюжетов Средневековье любого народа дает пространные возможности для разнообразных толкований. По словам З. Баумана, «податливость и управляемость прошлого, его подверженность формовке и преображению стали одновременно sine qua non (непременным; букв. – тем, без чего невозможно. – Авт.) условием политики памяти, ее почти аксиоматической презумпцией легитимности и ее принятым по умолчанию согласием на постоянную реконструкцию событий»[38 - Цит. по: Бауман З. Ретротопия. С. 67.]. В истории Средневековья тесно переплетены с мифами и легендами релевантные прошлому исторические реконструкции. Под эти характеристики подошла бы и Античность, но она была далеко не у всех европейских народов. Для тех, кто не вошел в орбиту исторического и культурного контекста Древней Греции и Великого Рима, такой Античностью в семантическом и символическом плане явилось именно Средневековье.
Средневековье обладает еще рядом важных характеристик, сущность которых была раскрыта как раз в рамках медиевализма. Они относятся прежде всего к сфере исторической имагологии, изучающей существовавшие в прошлом образы и стереотипы восприятия окружающего мира. Для постижения «своего», своей идентичности необходимо наличие «чужого», которое выступает в роли «анти-Я», своего рода кривого зеркала, в котором видятся искаженные черты. Можно сравнить себя с этим отражением и через выявленные отличия постичь себя. Этот культурный механизм был великолепно показан в знаменитой книге Э. Саида об ориентализме как инструменте самопознания Европы[39 - Said E. Orientalism. New York, 1978.]. Медиевализм многими учеными сближается с ориентализмом в контексте имагологии как метода[40 - The Postcolonial Middle Ages / ed. by J. J. Cohen. New York, 2000; Holsinger B. Medieval Studies, Postcolonial Studies, and the Genealogies of Critique // Speculum. 2002. Vol. 77, no. 4. P. 1195–1227; Ganim G. M. Medievalism and Orientalism. New York, 2008; Medievalisms in the Postcolonial World: The Idea of «The Middle Ages» Outside Europe / eds K. Davis, N. Altschul. Baltimore, 2009.]. Прошлое здесь выступает, по очень точному выражению Д. Лоуэнталя, в роли «чужой страны», с которой можно сравнить себя, свой народ, свою страну и тем самым постичь их. При этом в эту «чужую страну» нельзя съездить в познавательный туристический тур, но зато ее можно придумать, сконструировать по своим запросам – таким образом легитимизировать настоящее ссылкой на авторитет прошлого.
Эти примеры показывают еще одну сторону медиевализма: данный феномен отражает колонизацию Средневековья настоящим. Медиевальные исторические образы были втиснуты в понятийный аппарат и систему символических воплощений Нового и Новейшего времени, переформатированы и затем использованы для объяснения или даже легитимизации настоящего (будь то научные аргументы или символические образы). Это использование по своему потребительскому отношению очень походит на эксплуатацию колоний империями-метрополиями (тот же «вывоз материала», исторического «сырья», и использование его иначе, чем изначально в колониальных землях).
С. Бойм привела очень точную характеристику психологического состояния людей, погруженных в тоску по прошлому: «Ностальгия эпохи модерна – это оплакивание невозможности мифического возвращения, утраты зачарованного мира с четкими границами и ценностями; быть может, это светское выражение духовной тоски, ностальгии по абсолютному, дому, который является как физическим, так и духовным, – райским единством времени и пространства перед вратами истории. Ностальгирующий человек ищет духовного адресата. Сталкиваясь с молчанием, он пытается отыскать знаки памяти, делая отчаянные попытки их прочесть»[41 - Бойм С. Будущее ностальгии. С. 40.].
Конечно, людей в прошлых эпохах интересует не только Средневековье. Но оно обладает важным преимуществом – у него точно есть будущее в виде Нового времени. Как отметил Д. Лоуэнталь, завершенность делает прошлое понятным, поскольку нам видны последствия событий[42 - Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна. С. 120.]. Можно реконструировать цепочку: что было причиной произошедшего (прошлое) – как оно происходило (настоящее) – что было последствием (будущее). Линеарная схема позволяет разбалансированной ментальности обрести темпоральное равновесие. Как показал З. Бауман, «отказавшись ожидать улучшений от неопределенного и не внушающего доверия будущего, мы снова стали уповать на прошлое, приписав ему ценности стабильности и надежды»[43 - Бауман З. Ретротопия. С. 19.].
В выборе среди прочих эпох именно Средневековья есть и некий психологизм: мы испытываем недоверие к недавнему прошлому из-за подсознательного подросткового комплекса человека, который не хочет жить так же, как его родители. Поэтому, по утверждению Д.Лоуэнталя, требуется удаление прошлого вглубь веков до пределов, когда всем становится в нем комфортно, исчезает психологический конфликт отцов и детей. Он заключается в том, что, с одной стороны, мы хотим быть похожими на своих отцов, с другой – каждое новое поколение не желает жить так же, как жили его родители, стремясь их превзойти[44 - Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна. С. 105.]. Поэтому и нужно более-менее удаленное прошлое: в Средневековье мы видим «родительские истоки», и в то же время из-за хронологической дистанции их можно отбирать в соответствии с требованиями современности. Собственно, получается идеальная модель взаимоотношений «отцовского» и «сыновьего» обществ.
Медиевализм достаточно хорошо изучен применительно к Западной Европе. Мы же хотим обратиться к изучению роли медиевализма в истории региона, где он практически не исследовался, – к территории на восток от Одера и бассейна Дуная. Книга посвящена медиевализму у народов Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии, Молдавии. В первом томе также рассматривается медиевализм в Балканских странах: Болгарии, Северной Македонии, Албании, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Словении, Хорватии. Затрагиваются проблемы развития медиевализма в Прибалтике: Литве, Латвии, Эстонии.
Этот регион можно было бы обозначить как славянские и Балканские страны, но тогда выпадают Венгрия и Румыния, а также страны Балтии. Более адекватным представляется термин «Центрально-Восточная Европа и Балканы», с одной оговоркой: в Центрально-Восточную Европу[45 - О термине, его географических и исторических рамках см.: Миллер А. И. Об истории концепции «Центральная Европа» // Центральная Европа как исторический регион. М., 1996. С. 4–25; Сюч Е. Три исторических региона Европы // Там же. С. 147–265; История Центрально-Восточной Европы / Н. Алексюн и др. М., 2009. С. 5–20.] также входят современные независимые государства Украина и Белоруссия, но их медиевализм слишком сильно завязан на дискурс Древней Руси, а рассуждать о нем в отрыве от российского медиевализма вряд ли возможно. Поэтому основной материал об украинском и белорусском медиевализме будет помещен во втором томе, посвященном медиевализму в Российском царстве, Российской империи, СССР, постсоветской Российской Федерации и на пространстве СНГ.
Медиевализм в данном регионе имеет свои особенности. Здесь он востребован преимущественно в сфере национализма. Культурные, психологические, коммерческие, эстетические аспекты выражены слабее, чем в Западной Европе; что связано с геополитической спецификой изучаемой территории. История живущих на ней народов – это история, по образному выражению Петра Вандича, «пути к свободе»[46 - Wandycz P. The Price of Freedom: A History of East Central Europe from the Middle Ages to the Present. London, New York, 1992.]. В Средневековье существовали суверенные независимые государства – Первое и Второе Болгарские царства, Сербская держава Неманичей, Хорватское королевство, Венгерское королевство, Валашское и Молдавское княжества, Королевство Богемии (Чехии), Королевство Польское и Великое княжество Литовское и т. д. Все они либо погибли, либо в той или иной мере потеряли самостоятельность и в Новое время оказались в составе одной из четырех великих европейских континентальных империй – Османской, Австро-Венгерской, Российской или Германской. В XVIII–XX столетиях история населения – потомков жителей свободных средневековых королевств и княжеств – это история борьбы народов за обретение своей судьбы, создание своей нации, строительство своего национального государства. Инструментом этого выступал национализм, и он апеллировал к средневековой истории, ее символам и образам как к эпохе, когда народы были независимы.
Д. Лоуэнталь отметил, что существуют три стратегии отношения к прошлому: 1) продолжить и развить (например, Европа в эпоху Возрождения); 2) стереть из памяти и отречься (например, Франция после Французской революции); 3) переписать прошлое под запросы современности (тоталитарные режимы ХХ в.)[47 - Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна. С. 127.]. Из-за прерывистости исторического развития и долгих периодов вхождения в состав чужих держав в странах Центрально-Восточной Европы первая стратегия обрела медиевальные черты (продолжить и развить некогда утерянную собственную средневековую государственность); вторая активно применяется в «войнах памяти», в основном в сфере борьбы с теми страницами своей истории, которые трактуются как имперские; третья применяется как инструмент для реализации первых двух стратегий. При этом везде в качестве инструмента привлекается медиевализм.
Данная гипертрофированная роль медиевализма в национализме и нациестроительстве характерна именно для Восточной Европы и Балкан. В Западной Европе более значима культурная, эстетическая и т. п. функция медиевализма, а на нациестроительство в большей степени влияли иные факторы. Это связано с иной моделью создания наций: перед англичанами, французами, немцами также стояли проблемы объединения своих стран и своего народа, но при этом они не находились веками под чужой имперской властью. Западная Европа в своей истории никогда не испытывала масштабной вражеской оккупации, а арабская и турецкая волны агрессии были погашены на ее границах. Вот почему там был иной тип нациестроительства.
Центрально-Восточная Европа и Балканы являются зоной, которую называют частью Великого Лимитрофа, «проливом» между «континентами» цивилизациями[48 - Цымбурский В. Л. Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII–XX веков. М., 2016. С. 399–425.]. Самоидентификация проживающего здесь населения веками была затруднена из-за давления империй (Австро-Венгерской, Германской, Османской, Российской). Вот почему для стран, расположенных на этих территориях, и для народов, живущих там, проблема национального суверенитета и построения национальных государств на протяжении большого исторического периода оставалась весьма острой, а суверенитет и нация даже в XXI в. выступают высшими ценностями. Культивируемый в этих странах миф о Средневековье – это миф об утраченном шансе, об упущенных возможностях, об исторических ориентирах.
Историография медиевализма применительно к изучаемому региону относительно небольшая. Наибольшее впечатление своей теоретической и методологической фундированностью производят работы хорватского исследователя З. Блажевич, в частности, ее книга «Иллиризм до иллиризма», которая посвящена конструированию прошлого в XVI–XVIII вв. в рамках того, что она именует протонациональной идеологемой иллиризма[49 - Blazevic Z.: 1) Ilirizem kot heterotopija // Preseganje meje / ed. by M. Hladnik. Ljubljana, 2006. S. 139–150; 2) Ilirizam prije ilirizma. Zagreb, 2008; 3) Indetermi-Nation: Narrative Identity and Symbolic Politics in the Early Modern Illyrism // Whose Love of Which Country? Leiden; Boston, 2010. S. 1–23.]. Соответственно, под понятие протонациональных идеологем подпадают сарматизм, «вандализм», готицизм, славизм, романизм, энетизм и т. д. – этот список можно продолжить. Помимо основополагающих для методологии своего исследования концептов дискурса (М. Фуко) и культурного габитуса (П. Бурдье), Блажевич активно использует такие аналитические концепты, как интертекстуальность (Ю. Кристева) и перформативность (Дж. Л. Остин), с помощью которых она выявляет саму идеологему и изучает ее «работу». Понятие идеологемы она определяет как исторически сложившийся комплекс понятий и значений, обладающий интертекстуальным характером и большим перформативным потенциалом. Если интертекстуальный характер идеологемы подразумевает смещение фокуса внимания исследователя с отношения между текстом и реальностью на отношение между текстом и другими текстами, то перформативность – это свойство текстов создавать реальность.
Идеологема, таким образом, находится на границе конкретного текста и внетекстового социоисторического поля. Она имеет комбинированный философско-нарративный характер. Блажевич исследует два аспекта функционирования идеологемы, которые в целом соответствуют задачам нашего проекта: во-первых, это роль идеологемы в качестве «конституирующего сегмента символического поля политики»[50 - Blazevic Z. Ilirizam prije ilirizma. S. 34.], а во-вторых, ее роль в формировании нарративной идентичности (термин П. Рикера). В первом случае изучается роль идеологемы как формы символического капитала, инвестируемого с целью улучшения позиции того или иного индивидуального/группового актора в рамках поля (используется теория полей П. Бурдье). Во втором случае идеологема рассматривается сквозь призму задач конструирования групповой («протонациональной») идентичности.
Более поздней эпохе, XIX в., посвящен другой труд – коллективная монография под редакцией П. Гири и Г. Кланицаи. Здесь наряду с изучением западноевропейского медиевализма присутствуют разделы по Балканам и западным славянам[51 - Pohl W. National Origin Narratives in the Austro-Hungarian Monarchy // Manufacturing Middle Ages. Entangled History of Medievalism in Nineteenth-Century Europe / eds P. Geary, G. Klaniczay. Leiden; Boston, 2013. P. 13–50; Janowski M. Romantic Historiography as a Sociology of Liberty: Joachim Lelewel and His Contemporaries // Ibid. P. 89–110; Popescu C. Digging Out the Past to Build Up the Future: Romanian Architecture in the Balkan Context 1859–1906 // Ibid. P. 189–216; Rychterovа P. The Czech Linguistic Turn: Origins of Modern Czech Philology 1780–1880 // Ibid. P. 299–310; Detchev S. Between Slavs and Old Bulgars: ‘Ancestors’, ‘Race’ and Identity in Late Nineteenth-Century Bulgaria // Ibid. P. 347–376; Curta F. With Brotherly Love: The Czech Beginnings of Medieval Archaeology in Bulgaria and Ukraine // Ibid. P. 377–396; Langо P. The Study of the Archaeological Finds of the Tenth-Century Carpathian Basin as National Archaeology: Early Nineteenth-Century Views // Ibid. P. 397–418.]. Собственно, именно XIX столетие стало эпохой конструирования Средневековья как «особой страны», поэтому именно с этого времени обычно начинают историю медиевализма как такового. Между тем, обращение к этой теме показывает, что характер связи между конструированием прошлого и процессами формирования идентичности во многом напоминал то, что происходило двумя веками ранее. В частности, авторы монографии подчеркивают, что медиевализм в качестве основы идентичности германских и славянских народов был ответом на эксплуатацию римских имперских образов французским и неаполитанским национализмом эпохи Наполеона. Впоследствии происходит своего рода культурная диффузия медиевализма.
Медиевализму посвящена довольно разнообразная польская историография. Она делает акцент в основном на обращении к Средневековью в литературе, искусстве, кинематографе, современной массовой культуре[52 - Regiewicz A. Medievalism: wobec zjawisk audiowizualnych i nowych mediоw. Warszawa, 2014; Oblicza mediewalizmu II. Od recepcji antyku do recepcji sredniowiecza / pod red. A. Dabrоwki, M. Michalskiego. Rzeszоw, 2018.]. В других славянских историографиях в контексте медиевализма рассматривались различные исторические персонажи[53 - Kalhous D. Svatopluk I.: kn?ze nebo krаl? K otаzce legitimizace velkomoravsk?ch kn?zat ve stredovekе i modern? historiografii // Historia Slavorum Occidentis: Czasopismo historiczne. 2016. Nr. 2. S. 63–88.], рецепции медиевализма в архитектуре[54 - Кадиjевиh А. Византиjско градителство као инспирациjа српских неимара новиjег доба. Београд, 2016.], музейном деле[55 - Building National Museums in Europe 1750–2010: Conference proceedings from EuNaMus, European National Museums: Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen / eds P. Aronsson, G. Elgenius. Link?ping, 2011; Heritage, Ideology and Identity in Central and Eastern Europe / ed. by M. Rampley. Boydell, 2012.], государственной символике[56 - Dzino D. The Perception of Croatian Medieval History by Vladimir Nazor in Hrvatski kraljevi (The Kings of the Croats) // Croatian Studies Review. 2011. Vol. 7, no. 1–2. S. 89–100; Jareb M. “Old-Croatian Crown” or the Construction and Use of a National and Political Symbol from the Late 19
Коллектив авторов
Книга посвящена исследованию феномена медиевализма в Центрально-Восточной Европе (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Прибалтийские страны) и на Балканах. Понимаемый как использование средневековых символов и образов для придания смысла современным процессам в Новое и Новейшее время, он проявлялся в высокой и массовой культуре, литературном и художественном творчестве, политическом и национальном дискурсах, а также во всех сферах жизни, использующих символику, – от декоративно-прикладного искусства до коммерческой рекламы и компьютерных игр. В фокусе внимания авторов – использование медиевальных концептов для формирования национальной идентичности, в национальных культурах и идеологии национализма.
Издание адресовано специалистам, но будет полезно как студентам, так и всем интересующимся историей.
Иллюстрации доступны только в бумажном варианте книги.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Мобилизованное Средневековье. Том 1. Медиевализм и национальная идеология в Центрально-Восточной Европе и на Балканах
© Санкт-Петербургский государственный университет, 2021
© Коллектив авторов, 2021
Введение, или Для чего понадобилась мобилизация Средневековья?
Вызвать прошлое – значит сделать его нашим собственным.
Д. Лоуэнталь
«Темные века закончились», «Стыдящиеся монахи», «Овсянка для священника – столь хороша, что невозможно оторваться!», «Давайте назовем их русскими – князь Владимир основал новую нацию», «Специально от крестоносцев», «Франция играет грязно (1204 г.)», «Это война! Три года спустя (1340 г.)», «Новости испанской инквизиции». Таковы заголовки газеты «The Medieval Messenger», на которой стоит дата 13 октября 1349 г.[1 - The Medieval Messenger. Friday, October, 13, 1349. No. 4627. London, 1996.] На самом деле она издана в Лондоне в 1996-м. Ее создатели хотели показать, как могла бы быть преподнесена древняя история современными газетчиками, как «новости Средневековья» звучали бы под пером журналистов ХХ в.
Феномен обращения к Средневековью для описания и истолкования современности получил название «медиевализм». Он проявляется в высокой и массовой культурах, литературном и художественном творчестве, политическом и национальном дискурсах, а также во всех сферах жизни, использующих символику, вплоть до коммерческой рекламы и компьютерных игр[2 - Chaganti S. Under the Angle: Memory, History, and Dance in Nineteenth-Century Medievalism // Australian Literary Studies. 2011. Vol. 26, iss. 3/4. P. 147–162; The Medieval Hero on Screen: Representations from Beowulf to Buffy / ed. by M. Driver, S. Ray. Jefferson; London, 2004.]. Данное явление интеллектуальной деятельности, творчества, культуры хорошо изучено прежде всего на примере Великобритании[3 - MacDougall H. Racial Myth in English History: Trojans, Teutons and Anglo-Saxons. Montreal, 1982; Simmons C. Reversing the Conquest: History and Myth in Nineteenth-Century British Literature. New Brunswick, 1990; The Recovery of Old English: Anglo-Saxon Studies in the Sixteenth and Seventeenth Centuries / ed. by T. Graham. Kalamazoo, 2000; Literary Appropriations of the Anglo-Saxons from the Thirteenth to the Twentieth Century / ed. by D. Scragg, C. Weinberg. Cambridge, 2000; Wawn A. The Vikings and the Victorians: Inventing the Old North in Nineteenth-Century Britain. Cambridge, 2000; Kevin J. Cinema Arthuriana: Twenty Essays. Jefferson; London, 2002; Кратасюк Е. Г. Присвоение Средневековья: легенды артуровского цикла в рекламе и кинематографе конца ХХ века // Средние века. 2002. Вып. 63. С. 145–153; Alexander M. Medievalism: The Middle Ages in Modern England. New Haven; London, 2007; Cruise C. “Sick-sad dreams”: Burne-Jones and Pre-Raphaelite Medievalism // The Yearbook of English Studies. 2010. Vol. 40, no. 1/2. P. 121–140; Kathleen C. Eco-Tourist, English Heritage, and Arthurian Legend: Walking with Thoreau // Arthuriana, 2013. Vol. 23, no. 1. P. 20–39; Brownlie S. Memory and Myths of the Norman Conquest. Cambridge, 2013; Elliott A. Medievalism, Politics and Mass Media Appropriating the Middle Ages in the Twenty-First Century. Suffolk, 2017.], в несколько меньшей степени – Франции[4 - Glencross M. Relic and Romance: Antiquarianism and Medievalism in French Literary Culture, 1780–1830 // The Modern Language Review. 2000. Vol. 95, no. 2. P. 337–349; Morowitz L. Medievalism, Classicism, and Nationalism: The Appropriation of the French Primitifs in Turn-of-the-Century France // Studies in the History of Art. 2005. Vol. 68: Symposium Papers XLV: Nationalism and French Visual Culture, 1870–1914. P. 224–241; Bloch R. Restoration from Notre-Dame de Paris to Gaston Paris // Manufacturing Middle Ages. Entangled History of Medievalism in Nineteenth-Century Europe / eds P. Geary, G. Klaniczay. Leiden; Boston, 2013. P. 279–298; Montoya A., Ferrе V. Medievalism and Theory: Toward a Rhizomatic Medievalism // RELIEF. 2014. Vol. 8, no. 1. P. 1–19.], Германии[5 - Classen A. The Never-Ending Story of the (German) Middle Ages: Philology, Hermeneutics, Medievalism, and Mysticism // Rocky Mountain Review of Language and Literature. 2001. Vol. 55, no. 2. P. 67–79; Fuhrmann H. ?berall ist Mittelalter: Von der Gegenwart einer Vergangenen Zeit. M?nchen, 2010; Werner M. Medievalism and Modernity: Architectural Appropriations of the Middle Ages in Germany (1890–1920) // Manufacturing Middle Ages. Entangled History of Medievalism in Nineteenth-Century Europe / eds P. Geary, G. Klaniczay. Leiden; Boston, 2013. P. 239–258; Eichenberger N., Kirakosian R., Wareham E. The German Middle Ages in the Sixteenth to Eighteenth Centuries: Reception and Transformation // Oxford German Studies. 2014. Vol. 43, no. 4. P. 335–344.], Скандинавских стран[6 - Wilson D. The Roots of Medievalism in North-West Europe: National Romanticism, Architecture, Literature // Manufacturing Middle Ages. Entangled History of Medievalism in Nineteenth-Century Europe / eds P. Geary, G. Klaniczay. Leiden; Boston, 2013. P. 111–138; Andrеn A. Medieval and Neo-Medieval Buildings in Scandinavia // Ibid. P. 139–158.], Италии[7 - Falconieri T. “Medieval” Identities in Italy: National, Regional, Local // Manufacturing Middle Ages. Entangled History of Medievalism in Nineteenth-Century Europe / eds P. Geary, G. Klaniczay. Leiden; Boston, 2013. P. 319–346.], США (страны, не имеющей своего Средневековья, но обретающей его именно через медиевализм)[8 - Kegel P. Henry Adams and Mark Twain: Two Views of Medievalism // Mark Twain Journal. 1970–1971. Vol. 15, no. 3. P. 11–21; Galloway A. William Cullen Bryant’s American Antiquities: Medievalism, Miscegenation, and Race in “The Prairies” // American Literary History. 2010. Vol. 22, no. 4. P. 724–751; Scanlon L. Modernism’s Medieval Imperative: The Hard Lessons of Ezra Pound’s “Hugh Selwyn Mauberley” // Ibid. P. 838–862.] и других регионов[9 - Goyal S. Rise of Medievalism in Indian History // Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute. 1997. Vol. 78, no. 1/4. P. 13–40; Marosi E. Restoration as an Expression of Art History in Nineteenth-Century Hungary // Manufacturing Middle Ages. Entangled History of Medievalism in Nineteenth-Century Europe / eds P. Geary, G. Klaniczay. Leiden; Boston, 2013. P. 159–188; Ersoy A. Ottoman Gothic: Evocations of the Medieval Past in Late Ottoman Architecture // Ibid. P. 217–238; Ryan E. A Medieval New World: Nation-Making in Early Canadian Literature, 1789–1870. Toronto, 2015.].
История термина «медиевализм» восходит к середине XIX в. (ученые называют 1844, 1847 и 1853 гг. как даты его появления)[10 - Matthews D. From Medieval to medievalism: A new semantic history // The Review of English Studies. New Series. 2011. Vol. 62, no. 257. P. 704–705.]. Он развивался не менее двух столетий, XIX–XXI вв., что породило деление на «старый» и «новый» медиевализм[11 - The New Medievalism / eds M. Brownlee et al. Baltimore; London, 1991; Medievalism and the Modernist Temper / eds R. H. Bloch, S. G. Nichols. Baltimore, 1996; Freedman P., Spiegel G. Medievalisms Old and New: The Rediscovery of Alterity in North American Medieval Studies // The American Historical Review. 1998. Vol. 103, no. 3. P. 677–704; Фридман П., Спигел Г. Иное Средневековье в новейшей американской медиевистике // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории. 2000. М., 2000. С. 125–164; The New Medievalism / eds M. S. Brownlee, K. Brownlee, S. Nichols. Baltimore; London, 1991; Weisl A. The Persistence of Medievalism: Narrative Adventures in Contemporary Culture. New York, 2003; Савицкий Е. Е. Критерии новизны в историографии 1990-х годов: На примере «нового медиевализма»: автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2006; Haydock N. Movie Medievalism: The Imaginary Middle Ages. Jefferson; London, 2008; Studies in Medievalism XVI: Medievalism in Technology Old and New / ed. by K. Fugelso. New York, 2008; Rethinking the New Medievalism / eds R. Howard Bloch et al. Baltimore, 2014; Matthews D. Medievalism: A Critical History. New York, 2015.]. Некоторые ученые, в соответствии с современными гендерными теориями, выделяют даже «женский» и «мужской» медиевализм[12 - Bennett J. Medievalism and Feminism // Speculum. 1993. Vol. 68, no. 2. P. 309–331; Tolmie J. Medievalism and the Fantasy Heroine // Journal of Gender Studies. 2006. Vol. 15, iss. 2. P. 145–158; Saunders C. Women Writers and Nineteenth-Century Medievalism. New York, 2009. – О связи медиевализма с сексуальностью и эротикой см.: Regiewicz A. Mediewalizm wobec zjawisk audio-wizualnych I nowych mediоw. Warszawa, 2014. S. 42–45, 111–155.], существует и «гомосексуальный» медиевализм[13 - Kruger S. Gay Internet Medievalism: Erotic Story Archives, the Middle Ages, and Contemporary Gay Identity // American Literary History. 2010. Vol. 22, no. 4: Medieval America. P. 913–944.].
Увлечение этим направлением исследований нарастает. Как отметил Р. Утц, «если сравнить периоды 1950–1991 и 1991–2016 годов, то выяснится, что во второй из них вышло в семь раз больше книг и статей, использующих понятие “медиевализм”, то есть трактующих проблемы продолжающегося переосмысления средневековой культуры художниками, писателями и учеными в постсредневековые эпохи»[14 - Утц Р. Дивные новые медиевализмы? // Неприкосновенный запас. 2018. № 1. С. 164–165. – На английском языке статья была издана под другим заголовком: Utz R. (Neo) Medievalism is a Global Phenomenon: Including Russia // The Year’s Work of Medievalism. 2017. Vol. 32.]. Р. Утц утверждает, что сегодня «академические исследования Средневековья – только часть более широкого культурного феномена “медиевализма”, продолжающегося изучения, переписывания, переопределения средневековой культуры в постсредневековые времена… в эпистемологическом отношении продукты и практики академических трудов по медиевистике ни в коем случае не стоят выше других переосмыслений прошлого»[15 - Утц Р. Дивные новые медиевализмы? С. 165–166. – Целиком данную концепцию см.: Utz R. Medievalism: A Manifesto. Bradford, 2017. Также см.: Utz R. Coming to Terms with Medievalism: Toward a Conceptual History // European Journal of English Studies. 2011. Vol. 15, no. 2. P. 101–113.].
Почему возник медиевализм? Причин оказывается достаточно много. Прежде всего, этот феномен появился как реакция общества и человека на потребность в красивом мифе о своем прошлом. По словам З. Баумана, «пришел черед выдать кредит прошлому – кредит доверия (заслуженно ли?) как месту все еще свободного выбора, на которое возлагаются еще не поруганные надежды»[16 - Бауман З. Ретротопия. М., 2019. С. 16.]. Как говорил Шатобриан, «чем отдаленнее времена, тем более волшебными они представляются»[17 - Цит. по: Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна. СПб., 2004. С. 108.]. Первоначально обращение к Средневековью было неотъемлемой частью романтического мироощущения[18 - Kenney A., Workman L. Ruins, Romance, and Reality: Medievalism in Anglo-American Imagination and Taste // Winterthur Portfolio. 1975. Vol. 10. P. 131–163.], победой дионисийства над аполлоническим принципом в культуре и искусстве. Средневековье воспринималось как романтическая антитеза классике. Медиевализм не реконструировал реальную историю Средних веков, но использовал научное знание как источник информации, образов и идей, осмыслял их в художественных категориях[19 - Stock B. The Middle Ages as Subject and Object: Romantic Attitudes and Academic Medievalism // New Literary History. 1974. Vol. 5, no. 3. P. 527–547.]. Это не память о прошлом, а конструирование этой памяти. В большинстве случаев речь идет о вымышленном, придуманном, воображенном прошлом, которое ученые мужи раскритиковали бы за несоответствие исторической действительности; но в данном феномене релевантность исторической правде второстепенна, хотя истина нередко и декларируется как идеал, что не мешает сочинять абсолютно фантастические истории под маркой открытия истинной картины Средневековья[20 - Matthews D. Medievalism: A Critical History. Cambridge, 2015.].
Почему люди не столько реконструируют, сколько придумывают картины давно минувших эпох? Почему, как выразился Д. Лоуэнталь, «многих более привлекает поклонение прошлому, чем попытка отыскать подлинное прошлое»?[21 - Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна. С. 39.] В ХХ в. происходят серьезные изменения носителей памяти. Сегодня социальная память уступила место коллективной (термин М. Хальбвакса). Под коллективной памятью понимаются коллективно разделяемые репрезентации прошлого[22 - Мы не касаемся незавершенной в науке дискуссии о соотношении социальной, национальной, политической, коллективной и культурной памяти, так как один только обзор историографии вопроса может составить отдельную книгу (см.: Gedi N., Elam Y. Collective Memory: What is it? // History and Memory. 1996. Vol. 8, no. 2. P. 30–50; Kansteiner W. Finding Meaning in Memory: A Methodogical Critique of Collective Memory Studies // History and Theory. 2002. Vol. 41, no. 2. P. 179–197; Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004; Джадт Т. «Места памяти Пьера Нора»: Чьи места? Чья память? // Ab Imperio. 2004. № 1. С. 44–71; Рикер П. Память, история, забвение. М., 2004; Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook / eds А. Erll, A. N?nning. Berlin, 2010; Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. М., 2014; Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение. СПб., 2019; и т. д.).] (отсюда, собственно, и возникают универсальные для всей нации места памяти). П. Нора назвал этот процесс деколонизацией «всех малых народов, групп, семей, всех тех, кто обладал сильным капиталом памяти и слабым капиталом истории, конец обществ-памятей, как и всех тех, кто осуществлял и гарантировал сохранение и передачу ценностей, конец церкви или школы, семьи или государства, конец идеологий-памятей, как и всего того, что осуществляло и гарантировало беспрепятственный переход от прошлого к будущему или отмечало в прошлом все то, что было необходимо взять из него для изготовления будущего, будь то реакция, прогресс или даже революция»[23 - Нора П. Между памятью и историей. Проблематика мест памяти // Франция – память / П. Нора и др. СПб., 1999. С. 17–18.].
В наши дни в социально-культурном плане утрачено то, что Хальбвакс называл рамкой (cadre) представлений о прошлом, образованной базовыми, социальными воспоминаниями (ориентирами). Раньше эту рамку из поколения в поколение транслировали семья и социальный слой, к которому принадлежал индивид. Благодаря изменениям в устройстве общества, росту социальной мобильности, упрощению сословных перегородок, маргинализации, миграции утрачивается память социальных групп. Именно они, как показал М. Хальбвакс, долгое время были носителями коллективной памяти[24 - Halbwachs M. On collective memory. Chicago; London, 1992; Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М., 2007.]. В наши дни, как считают ученые, почти невозможно говорить о таких феноменах, как «память крестьянства», «память рабочих» или «память горожан-ремесленников». В наши дни коллективная память, как справедливо отметил П. Нора, сохраняется только в виде памяти нации, хотя он же далее утверждал, что «нация не является больше той объединяющей рамкой, которая ограничивает сознание определенной общности людей»[25 - Нора П. Нация – память // Франция – память. С. 51–65.].
На рубеже ХХ и XXI вв. процессы еще более усложнились, поскольку расширяющаяся глобализация с ее мультикультурализмом подрывает основы коллективной памяти как памяти национальной. Само понятие «нация» сегодня значительно отличается от того, что под ней понималось в 1882 г. в знаменитой сорбоннской речи Э. Ренана[26 - Ренан Э. Что такое нация? // Ренан Э. Собрание сочинений: в 12 т. Т. 6. Киев, 1902. С. 87–103.], и даже «воображаемые сообщества» Б. Андерсона в наши дни далеко не полностью отражают взаимовлияние национализма и глобалистического космополитизма[27 - Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001.]. Д. Хапаева высказала радикальную «антинациональную» идею, что «…одна из причин распада идеи нации коренится в потере современными нациями права на национальную историю. Способна ли сегодня национальная история Германии, Италии, Франции, России быть источником позитивной идентичности? В XX веке история этих наций… бросила вызов тем ценностям, которые провозглашались и продолжают провозглашаться основами общества и принципами политики. Без отказа от идеи национальной исключительности, без отказа от претензий на право сохранить историю нации невозможно сосуществование как Европы, так и России со своим “непреодолимым прошлым”. Осознание этого – не призыв к забвению страшных событий прошлого, а неизбежная плата за них, необходимая составляющая тех глобальных изменений, которые обозначили конец эпохи Просвещения. Отказ от того, что являлось основой национального сознания, национальной гордости, национального чувства, национальной истории может привести к возникновению новых форм самосознания. Наше время – время космополитизма. Это и расплата, и начало нового пути»[28 - Хапаева Д. Время космополитизма. Очерки интеллектуальной истории. СПб., 2002. С. 6.].
Однако этот глобалистский «новый путь» многих пугает, потому что означает отречение от существующей идентичности во имя «проекта будущего», который сформулирован довольно абстрактно и неотчетливо, как некий комплекс ценностей с неоднозначным механизмом и непредсказуемым результатом их практического воплощения. Оставляя в стороне оценку этого выбора идентичности, выбора между мультикультурным и национальным, констатируем только, что реакция общества на саму постановку вопроса о таком выборе очень разная, вплоть до полярного радикализма, который может проявляться как в полном отказе от национальной идентичности, так и в национализме.
Для немалой части общества в этом культурном контексте прошлое выступает скрепой, позволяющей обрести почву под ногами, особенно в полинациональных социумах. Если современные малые мононациональные государства еще могут опереться на глобализм как идеологию, которую можно сформулировать следующим образом: «Мы обретаем будущее своей нации в ее слиянии с Европой», то для полинациональных неизбежен вопрос: что, собственно, объединяет наши народы и регионы в единое государство, и зачем мы объединились? После краха империй, после отказа от коммунистического проекта (его можно расценить как квазиглобалистский) единственной скрепой, претендующей на конвенциональность в постсоциалистическом мире, куда входит вся Центрально-Восточная Европа и Балканы, выступает общая история и общая (коллективная) историческая память. Чем глубже эти центростремительные исторические корни, тем они значимее, тем легче их конструировать и воображать (более близкие к нашим дням эпохи подвержены верификации, а древнее прошлое можно представить каким угодно). Таким образом, идеальным инструментом для современной коллективной памяти и исторической политики является медиевализм, мобилизация Средневековья для запросов современной коллективной памяти.
Медиевализм является сложным явлением. С одной стороны, это феномен элитарный, порожденный во многом именно культурой, эстетизмом истеблишмента и интеллектуалов. С другой – он не получил бы столь широкого распространения, если бы не оказался созвучен настроениям масс. Медиевализм в силу специфики предмета (трудность постижения Средневековья) невозможен без квалифицированных, профессиональных исторических реконструкций, иначе он будет неубедителен. В то же время в силу образной, дискурсивной природы он живет именно в памяти и находит воплощение в символике мест памяти. Медиевализм оказывается на стыке памяти и истории, служит инструментом исторической политики, потому что он выступает одним из ресурсов, к которому обращаются при формулировании национальной, политической, культурной идентичности. Он поставляет материал для формирования первооснов – идеи происхождения и первенства, идеи славного величественного прошлого, образов исторических героев и т. д.
Как блестяще выразился Август Хекшер, «Родину необходимо сформулировать… а затем сохранить»[29 - Цит. по: Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна. С. 90.]. Для этого нужны маркеры, опорные точки, символическое воплощение образов прошлого в останках. М. Хальбвакс именовал все это «ориентирами» (в русском переводе возник термин «реперные точки»[30 - Зенкин С. Морис Хальбвакс и современные гуманитарные науки // Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М., 2007. С. 11.]), а Э. Смит эффектно определил их как «бейджи нации»[31 - Smith A. Nations and Nationalism in a Global Era. Cambridge, 2007. P. 150.]. П. Нора очень точно назвал их «местами памяти». Под ними понимаются символы культурной идентичности, воплощенные в «останках» (некоторых физически существующих объектах), в которых «память кристаллизуется и находит свое убежище». Это «крайняя форма, в которой существует коммеморативное сознание в истории, игнорирующей его, но нуждающейся в нем… Это то, что скрывает, облачает, устанавливает, создает, декретирует, поддерживает с помощью искусства и воли сообщество… Места памяти рождаются и живут благодаря чувству, что спонтанной памяти нет, а значит, нужно создавать архивы, нужно отмечать годовщины, организовывать празднования…». Их суть – в возвратном движении от свершившегося к истории и обратно в память. Некий объект или образ как бы вынимается из общей ткани прошлого, наделяется особым смыслом и помещается обратно в историческое пространство уже в качестве реперной точки памяти. Он одновременно материален, символичен и функционален[32 - Нора П. Между памятью и историей. С. 17, 26–27, 40.].
И хотя, безусловно, места памяти бывают не только медиевальные, в общей системе мест памяти, формулирующих понятие Родины для нации, средневековые ориентиры абсолютно необходимы – они доказывают древность происхождения, длительность традиций, превосходство над другими нациями. Настоящее, в принципе, всегда строится на фундаменте прошедших веков. Д.Лоуэнталь выделял следующие эвристичные категории, которые выступают в качестве средства отбора информации из прошлого: 1) прошлое узнаваемо и понятно (в отличие он настоящего); 2) прошлое несет в себе подтверждение правильности происходящего; 3) прошлое служит фундаментом нашей индивидуальной и групповой идентичности; 4) в прошлом можно найти руководство к действию, вдохновляющие примеры; прошлое делает настоящее более понятным и узнаваемым; 5) знание прошлого обогащает нас культурно и интеллектуально; 6) в прошлое можно ментально бежать из настоящего[33 - Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна. С. 86.] (о такой потребности свидетельствует популярность движения реконструкторов). Люди нуждаются в прошлом, которое они, будучи не в силах до конца познать, пытаются вообразить.
И здесь встает вопрос: что именно воображать, какую эпоху реконструировать как свой символический мир? Выбор объекта вытекает из потребностей. Для идентичности человеку и социуму надо иметь систему объяснительных образов, отвечающих на вопрос: «Кто мы?».
Эта система организована исторически, как отметил Ф. Ницше: «Чем глубже у данного человека заложены корни его внутренней природы, тем большую часть прошлого способен он переработать по-своему»[34 - Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Ницше Ф. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 163.]. Она включает в себя:
1. Рассказ о происхождении народа «origo gentis»; желательно красивый, релевантный этногенетическим легендам соседей и даже превосходящий их; при этом, чем древнее корни и чем они больше возводятся к «почетным» предкам (арийцы, римляне и т. д.), тем лучше.
2. Рассказ о событиях, являющихся ключевыми моментами в истории («события, создавшие народ»). Это миграционные мифы (откуда пришли и куда ходили), рассказы о войнах, восстаниях, завоевании территорий иноземца ми и борьбе за свободу, об обретении веры, строительстве городов и храмов, о знаменитых исторических персонажах и т. д.
1. Объяснение происхождения особенностей культуры (в широком смысле), народного характера, обычаев и ритуалов повседневной жизни и т. д.
2. Рассказ о народных героях и их подвигах.
3. Рассказ о святых, связанных с ними чудесах, реликвиях и святых местах.
4. Рассказ о культурных героях (изобретателях, наставниках, творцах и т. д.).
5. Легенды о происхождении вещей – национальных символов (инсигний власти, чудотворных икон и реликвий, элементов национальной одежды, блюд национальной кухни, элементов строений, предметов быта, домашнего обихода и т. д.). По определению Д. Лоуэнталя, «тот факт, что этими вещами обладали предки, делает их также и нашими вещами»[35 - Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна. С. 107.].
Каков источник этих мифов и легенд? Он должен отвечать трем характеристикам. Во-первых, авторитет его должен быть непоколебим, а исторические сведения – значимы. Следовательно, крайне желательна как можно большая древность, которая сама по себе придает весомость повествованию. Это должна быть славная эпоха, насыщенная событиями, которыми можно гордиться, благодаря механизму забвения освобожденная от негативных моментов, о которых нация не хочет вспоминать. Как выразился М. Каммен, история должна быть очищена от вины; по его мнению, наследие должно наполнять нас гордостью, а не стыдом[36 - Kammen M. Mystic Chords of Memory. New York, 1991. P. 688.]. Во-вторых, те или иные истории должны преподноситься как реально бывшие события, историческая истина, зафиксированная на страницах школьных учебников, в национальных ценностях, установленных памятниках и т. д. В-третьих, история, к которой обращаются, должна быть трудно проверяема на соответствие научным критериям, иметь широкое поле для интерпретаций и трактовок, которые и позволяют вносить в историческое знание идеологически востребованные конструктивистские коррективы. По блестящему выражению Д. Лоуэнталя, «невежество наравне с удаленностью защищают прошлое от тщательного разбора… прошлое восхищает больше, являясь царством веры, а не фактов»[37 - Цит. по: Бауман З. Ретротопия. С. 65.].
Под все эти требования идеально подходит эпоха Средневековья. Она достаточно древняя, имеет свою серьезную научную историографию и в то же время по множеству сюжетов Средневековье любого народа дает пространные возможности для разнообразных толкований. По словам З. Баумана, «податливость и управляемость прошлого, его подверженность формовке и преображению стали одновременно sine qua non (непременным; букв. – тем, без чего невозможно. – Авт.) условием политики памяти, ее почти аксиоматической презумпцией легитимности и ее принятым по умолчанию согласием на постоянную реконструкцию событий»[38 - Цит. по: Бауман З. Ретротопия. С. 67.]. В истории Средневековья тесно переплетены с мифами и легендами релевантные прошлому исторические реконструкции. Под эти характеристики подошла бы и Античность, но она была далеко не у всех европейских народов. Для тех, кто не вошел в орбиту исторического и культурного контекста Древней Греции и Великого Рима, такой Античностью в семантическом и символическом плане явилось именно Средневековье.
Средневековье обладает еще рядом важных характеристик, сущность которых была раскрыта как раз в рамках медиевализма. Они относятся прежде всего к сфере исторической имагологии, изучающей существовавшие в прошлом образы и стереотипы восприятия окружающего мира. Для постижения «своего», своей идентичности необходимо наличие «чужого», которое выступает в роли «анти-Я», своего рода кривого зеркала, в котором видятся искаженные черты. Можно сравнить себя с этим отражением и через выявленные отличия постичь себя. Этот культурный механизм был великолепно показан в знаменитой книге Э. Саида об ориентализме как инструменте самопознания Европы[39 - Said E. Orientalism. New York, 1978.]. Медиевализм многими учеными сближается с ориентализмом в контексте имагологии как метода[40 - The Postcolonial Middle Ages / ed. by J. J. Cohen. New York, 2000; Holsinger B. Medieval Studies, Postcolonial Studies, and the Genealogies of Critique // Speculum. 2002. Vol. 77, no. 4. P. 1195–1227; Ganim G. M. Medievalism and Orientalism. New York, 2008; Medievalisms in the Postcolonial World: The Idea of «The Middle Ages» Outside Europe / eds K. Davis, N. Altschul. Baltimore, 2009.]. Прошлое здесь выступает, по очень точному выражению Д. Лоуэнталя, в роли «чужой страны», с которой можно сравнить себя, свой народ, свою страну и тем самым постичь их. При этом в эту «чужую страну» нельзя съездить в познавательный туристический тур, но зато ее можно придумать, сконструировать по своим запросам – таким образом легитимизировать настоящее ссылкой на авторитет прошлого.
Эти примеры показывают еще одну сторону медиевализма: данный феномен отражает колонизацию Средневековья настоящим. Медиевальные исторические образы были втиснуты в понятийный аппарат и систему символических воплощений Нового и Новейшего времени, переформатированы и затем использованы для объяснения или даже легитимизации настоящего (будь то научные аргументы или символические образы). Это использование по своему потребительскому отношению очень походит на эксплуатацию колоний империями-метрополиями (тот же «вывоз материала», исторического «сырья», и использование его иначе, чем изначально в колониальных землях).
С. Бойм привела очень точную характеристику психологического состояния людей, погруженных в тоску по прошлому: «Ностальгия эпохи модерна – это оплакивание невозможности мифического возвращения, утраты зачарованного мира с четкими границами и ценностями; быть может, это светское выражение духовной тоски, ностальгии по абсолютному, дому, который является как физическим, так и духовным, – райским единством времени и пространства перед вратами истории. Ностальгирующий человек ищет духовного адресата. Сталкиваясь с молчанием, он пытается отыскать знаки памяти, делая отчаянные попытки их прочесть»[41 - Бойм С. Будущее ностальгии. С. 40.].
Конечно, людей в прошлых эпохах интересует не только Средневековье. Но оно обладает важным преимуществом – у него точно есть будущее в виде Нового времени. Как отметил Д. Лоуэнталь, завершенность делает прошлое понятным, поскольку нам видны последствия событий[42 - Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна. С. 120.]. Можно реконструировать цепочку: что было причиной произошедшего (прошлое) – как оно происходило (настоящее) – что было последствием (будущее). Линеарная схема позволяет разбалансированной ментальности обрести темпоральное равновесие. Как показал З. Бауман, «отказавшись ожидать улучшений от неопределенного и не внушающего доверия будущего, мы снова стали уповать на прошлое, приписав ему ценности стабильности и надежды»[43 - Бауман З. Ретротопия. С. 19.].
В выборе среди прочих эпох именно Средневековья есть и некий психологизм: мы испытываем недоверие к недавнему прошлому из-за подсознательного подросткового комплекса человека, который не хочет жить так же, как его родители. Поэтому, по утверждению Д.Лоуэнталя, требуется удаление прошлого вглубь веков до пределов, когда всем становится в нем комфортно, исчезает психологический конфликт отцов и детей. Он заключается в том, что, с одной стороны, мы хотим быть похожими на своих отцов, с другой – каждое новое поколение не желает жить так же, как жили его родители, стремясь их превзойти[44 - Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна. С. 105.]. Поэтому и нужно более-менее удаленное прошлое: в Средневековье мы видим «родительские истоки», и в то же время из-за хронологической дистанции их можно отбирать в соответствии с требованиями современности. Собственно, получается идеальная модель взаимоотношений «отцовского» и «сыновьего» обществ.
Медиевализм достаточно хорошо изучен применительно к Западной Европе. Мы же хотим обратиться к изучению роли медиевализма в истории региона, где он практически не исследовался, – к территории на восток от Одера и бассейна Дуная. Книга посвящена медиевализму у народов Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии, Молдавии. В первом томе также рассматривается медиевализм в Балканских странах: Болгарии, Северной Македонии, Албании, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Словении, Хорватии. Затрагиваются проблемы развития медиевализма в Прибалтике: Литве, Латвии, Эстонии.
Этот регион можно было бы обозначить как славянские и Балканские страны, но тогда выпадают Венгрия и Румыния, а также страны Балтии. Более адекватным представляется термин «Центрально-Восточная Европа и Балканы», с одной оговоркой: в Центрально-Восточную Европу[45 - О термине, его географических и исторических рамках см.: Миллер А. И. Об истории концепции «Центральная Европа» // Центральная Европа как исторический регион. М., 1996. С. 4–25; Сюч Е. Три исторических региона Европы // Там же. С. 147–265; История Центрально-Восточной Европы / Н. Алексюн и др. М., 2009. С. 5–20.] также входят современные независимые государства Украина и Белоруссия, но их медиевализм слишком сильно завязан на дискурс Древней Руси, а рассуждать о нем в отрыве от российского медиевализма вряд ли возможно. Поэтому основной материал об украинском и белорусском медиевализме будет помещен во втором томе, посвященном медиевализму в Российском царстве, Российской империи, СССР, постсоветской Российской Федерации и на пространстве СНГ.
Медиевализм в данном регионе имеет свои особенности. Здесь он востребован преимущественно в сфере национализма. Культурные, психологические, коммерческие, эстетические аспекты выражены слабее, чем в Западной Европе; что связано с геополитической спецификой изучаемой территории. История живущих на ней народов – это история, по образному выражению Петра Вандича, «пути к свободе»[46 - Wandycz P. The Price of Freedom: A History of East Central Europe from the Middle Ages to the Present. London, New York, 1992.]. В Средневековье существовали суверенные независимые государства – Первое и Второе Болгарские царства, Сербская держава Неманичей, Хорватское королевство, Венгерское королевство, Валашское и Молдавское княжества, Королевство Богемии (Чехии), Королевство Польское и Великое княжество Литовское и т. д. Все они либо погибли, либо в той или иной мере потеряли самостоятельность и в Новое время оказались в составе одной из четырех великих европейских континентальных империй – Османской, Австро-Венгерской, Российской или Германской. В XVIII–XX столетиях история населения – потомков жителей свободных средневековых королевств и княжеств – это история борьбы народов за обретение своей судьбы, создание своей нации, строительство своего национального государства. Инструментом этого выступал национализм, и он апеллировал к средневековой истории, ее символам и образам как к эпохе, когда народы были независимы.
Д. Лоуэнталь отметил, что существуют три стратегии отношения к прошлому: 1) продолжить и развить (например, Европа в эпоху Возрождения); 2) стереть из памяти и отречься (например, Франция после Французской революции); 3) переписать прошлое под запросы современности (тоталитарные режимы ХХ в.)[47 - Лоуэнталь Д. Прошлое – чужая страна. С. 127.]. Из-за прерывистости исторического развития и долгих периодов вхождения в состав чужих держав в странах Центрально-Восточной Европы первая стратегия обрела медиевальные черты (продолжить и развить некогда утерянную собственную средневековую государственность); вторая активно применяется в «войнах памяти», в основном в сфере борьбы с теми страницами своей истории, которые трактуются как имперские; третья применяется как инструмент для реализации первых двух стратегий. При этом везде в качестве инструмента привлекается медиевализм.
Данная гипертрофированная роль медиевализма в национализме и нациестроительстве характерна именно для Восточной Европы и Балкан. В Западной Европе более значима культурная, эстетическая и т. п. функция медиевализма, а на нациестроительство в большей степени влияли иные факторы. Это связано с иной моделью создания наций: перед англичанами, французами, немцами также стояли проблемы объединения своих стран и своего народа, но при этом они не находились веками под чужой имперской властью. Западная Европа в своей истории никогда не испытывала масштабной вражеской оккупации, а арабская и турецкая волны агрессии были погашены на ее границах. Вот почему там был иной тип нациестроительства.
Центрально-Восточная Европа и Балканы являются зоной, которую называют частью Великого Лимитрофа, «проливом» между «континентами» цивилизациями[48 - Цымбурский В. Л. Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII–XX веков. М., 2016. С. 399–425.]. Самоидентификация проживающего здесь населения веками была затруднена из-за давления империй (Австро-Венгерской, Германской, Османской, Российской). Вот почему для стран, расположенных на этих территориях, и для народов, живущих там, проблема национального суверенитета и построения национальных государств на протяжении большого исторического периода оставалась весьма острой, а суверенитет и нация даже в XXI в. выступают высшими ценностями. Культивируемый в этих странах миф о Средневековье – это миф об утраченном шансе, об упущенных возможностях, об исторических ориентирах.
Историография медиевализма применительно к изучаемому региону относительно небольшая. Наибольшее впечатление своей теоретической и методологической фундированностью производят работы хорватского исследователя З. Блажевич, в частности, ее книга «Иллиризм до иллиризма», которая посвящена конструированию прошлого в XVI–XVIII вв. в рамках того, что она именует протонациональной идеологемой иллиризма[49 - Blazevic Z.: 1) Ilirizem kot heterotopija // Preseganje meje / ed. by M. Hladnik. Ljubljana, 2006. S. 139–150; 2) Ilirizam prije ilirizma. Zagreb, 2008; 3) Indetermi-Nation: Narrative Identity and Symbolic Politics in the Early Modern Illyrism // Whose Love of Which Country? Leiden; Boston, 2010. S. 1–23.]. Соответственно, под понятие протонациональных идеологем подпадают сарматизм, «вандализм», готицизм, славизм, романизм, энетизм и т. д. – этот список можно продолжить. Помимо основополагающих для методологии своего исследования концептов дискурса (М. Фуко) и культурного габитуса (П. Бурдье), Блажевич активно использует такие аналитические концепты, как интертекстуальность (Ю. Кристева) и перформативность (Дж. Л. Остин), с помощью которых она выявляет саму идеологему и изучает ее «работу». Понятие идеологемы она определяет как исторически сложившийся комплекс понятий и значений, обладающий интертекстуальным характером и большим перформативным потенциалом. Если интертекстуальный характер идеологемы подразумевает смещение фокуса внимания исследователя с отношения между текстом и реальностью на отношение между текстом и другими текстами, то перформативность – это свойство текстов создавать реальность.
Идеологема, таким образом, находится на границе конкретного текста и внетекстового социоисторического поля. Она имеет комбинированный философско-нарративный характер. Блажевич исследует два аспекта функционирования идеологемы, которые в целом соответствуют задачам нашего проекта: во-первых, это роль идеологемы в качестве «конституирующего сегмента символического поля политики»[50 - Blazevic Z. Ilirizam prije ilirizma. S. 34.], а во-вторых, ее роль в формировании нарративной идентичности (термин П. Рикера). В первом случае изучается роль идеологемы как формы символического капитала, инвестируемого с целью улучшения позиции того или иного индивидуального/группового актора в рамках поля (используется теория полей П. Бурдье). Во втором случае идеологема рассматривается сквозь призму задач конструирования групповой («протонациональной») идентичности.
Более поздней эпохе, XIX в., посвящен другой труд – коллективная монография под редакцией П. Гири и Г. Кланицаи. Здесь наряду с изучением западноевропейского медиевализма присутствуют разделы по Балканам и западным славянам[51 - Pohl W. National Origin Narratives in the Austro-Hungarian Monarchy // Manufacturing Middle Ages. Entangled History of Medievalism in Nineteenth-Century Europe / eds P. Geary, G. Klaniczay. Leiden; Boston, 2013. P. 13–50; Janowski M. Romantic Historiography as a Sociology of Liberty: Joachim Lelewel and His Contemporaries // Ibid. P. 89–110; Popescu C. Digging Out the Past to Build Up the Future: Romanian Architecture in the Balkan Context 1859–1906 // Ibid. P. 189–216; Rychterovа P. The Czech Linguistic Turn: Origins of Modern Czech Philology 1780–1880 // Ibid. P. 299–310; Detchev S. Between Slavs and Old Bulgars: ‘Ancestors’, ‘Race’ and Identity in Late Nineteenth-Century Bulgaria // Ibid. P. 347–376; Curta F. With Brotherly Love: The Czech Beginnings of Medieval Archaeology in Bulgaria and Ukraine // Ibid. P. 377–396; Langо P. The Study of the Archaeological Finds of the Tenth-Century Carpathian Basin as National Archaeology: Early Nineteenth-Century Views // Ibid. P. 397–418.]. Собственно, именно XIX столетие стало эпохой конструирования Средневековья как «особой страны», поэтому именно с этого времени обычно начинают историю медиевализма как такового. Между тем, обращение к этой теме показывает, что характер связи между конструированием прошлого и процессами формирования идентичности во многом напоминал то, что происходило двумя веками ранее. В частности, авторы монографии подчеркивают, что медиевализм в качестве основы идентичности германских и славянских народов был ответом на эксплуатацию римских имперских образов французским и неаполитанским национализмом эпохи Наполеона. Впоследствии происходит своего рода культурная диффузия медиевализма.
Медиевализму посвящена довольно разнообразная польская историография. Она делает акцент в основном на обращении к Средневековью в литературе, искусстве, кинематографе, современной массовой культуре[52 - Regiewicz A. Medievalism: wobec zjawisk audiowizualnych i nowych mediоw. Warszawa, 2014; Oblicza mediewalizmu II. Od recepcji antyku do recepcji sredniowiecza / pod red. A. Dabrоwki, M. Michalskiego. Rzeszоw, 2018.]. В других славянских историографиях в контексте медиевализма рассматривались различные исторические персонажи[53 - Kalhous D. Svatopluk I.: kn?ze nebo krаl? K otаzce legitimizace velkomoravsk?ch kn?zat ve stredovekе i modern? historiografii // Historia Slavorum Occidentis: Czasopismo historiczne. 2016. Nr. 2. S. 63–88.], рецепции медиевализма в архитектуре[54 - Кадиjевиh А. Византиjско градителство као инспирациjа српских неимара новиjег доба. Београд, 2016.], музейном деле[55 - Building National Museums in Europe 1750–2010: Conference proceedings from EuNaMus, European National Museums: Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen / eds P. Aronsson, G. Elgenius. Link?ping, 2011; Heritage, Ideology and Identity in Central and Eastern Europe / ed. by M. Rampley. Boydell, 2012.], государственной символике[56 - Dzino D. The Perception of Croatian Medieval History by Vladimir Nazor in Hrvatski kraljevi (The Kings of the Croats) // Croatian Studies Review. 2011. Vol. 7, no. 1–2. S. 89–100; Jareb M. “Old-Croatian Crown” or the Construction and Use of a National and Political Symbol from the Late 19