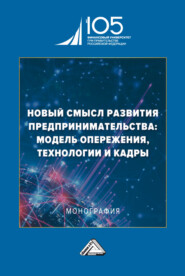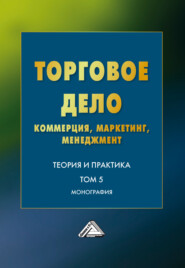По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Труды по россиеведению. Выпуск 4
Автор
Год написания книги
2012
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Труды по россиеведению. Выпуск 4
Коллектив авторов
В связи с тем, что 2012 г. объявлен в Российской Федерации Годом российской истории, в выпуске обсуждаются наиболее острые и спорные вопросы отечественного прошлого. В этом же контексте рассматриваются проблемы исторической памяти и национальной идентичности. Анализируются возможности и перспективы россиеведения как исследовательского направления и учебной дисциплины. В издание также включены материалы семинара Центра россиеведения.
Для специалистов-обществоведов и гуманитариев, аспирантов и студентов.
Труды по россиеведению. Выпуск 4. 2012
Год российской истории и проблемы россиеведения (От редактора)
«Труды по россиеведению»-2012 оказались более «историческими» (даже историкоцентричными), чем выпуски прежних лет. Это не случайно. Объявление 2012 г. Годом российской истории стало и для нас поводом для того, чтобы посмотреть, каково место истории и историка в нашем обществе, чего оно от них ждет (если ждет) и оправдываются ли эти ожидания. Не случайным представляется и то, что любая ретроспекция «Трудов…» так или иначе возвращает к современности – к разговору о природе, состоянии, задачах России-2012. Это еще одна главная тема выпуска, которой посвящен соответствующий блок материалов.
* * *
Сначала – о том, в чем мы видим современность исторических работ, опубликованных в «Трудах…». Актуальное звучание имеют даже, казалось бы, исключительно ретроспективные исследования: И.Н. Данилевского – о происхождении «элит» Древней Руси, А.В. Гордона – о формировании нового образа власти в XVIII в. и способах его репрезентации, О.В. Большаковой – о значении 1812 г. для становления русского национального самосознания, А.С. Сенина – о железнодорожном строительстве в дореволюционной России. Актуальны они не только потому, что адресуют к главному «академическому» вопросу Года истории: что и как изучается, что, как и для чего изучать (кстати, именно с этой точки зрения анализирует события этого знакового для историков года В.П. Булдаков). В работах поднимаются вполне современные проблемы, имеющие общественно-политическое значение.
И.Н. Данилевский, предлагая не абсолютизировать в связи с очередным «юбилеем» отечественной государственности противостояние «норманистов» и «антинорманистов», обращает внимание на действительно серьезный и подлежащий обсуждению вопрос: о качестве древнерусских «элит». Само происхождение делало их космополитами (в данном контексте этот современный термин вполне уместен); космополитичные «верхи» задавали соответствующие параметры государственного, культурного развития. Вопрос о том, почему «элиты» стимулируют русский мир к замкнутости или открытости, об уместности и эффективности таких ориентаций, как никогда актуален сегодня. А.В. Гордон, с символической стороны рассматривая петровское и екатерининское преображение России, по существу, говорит об алгоритме наших преобразований, о том, как ведет себя власть, ощутившая необходимость перемен, как формируется образ «новой России» по воле власти-преобразователя. В центре исследования О.В. Большаковой – еще одна типическая русская проблема, чрезвычайно важная для нашего времени. Специфика национального самоопределения состоит в том, что толчком к рождению национального чувства, «источником» нации является Отечественная (народная, освободительная, победоносная) война. Понять механизмы связи национального и военно-отечественного – задача не узкоисследовательского, а широкого культурно-политического значения. Наконец, работа А.С. Сенина имеет перспективно-практический смысл: в ней выявляются традиционные для России проблемы железнодорожного хозяйства (иначе говоря, инфраструктурного обеспечения единства страны) и пути их решения.
Еще более современно звучат материалы, характеризующие некоторые стороны советской истории. Статьи Е.Ю. Мелешкиной и И.А. Гордеевой посвящены частным, очень конкретным сюжетам и в то же время выводят на большие проблемы: о типе государственного управления, идеологии и технологиях поддержания территориально-государственной общности, способах властной самоорганизации; о становлении общества в России, специфике его отношений с государством/властью, характере общественной активности. Эти проблемы имеют не узкоисторическое, а социально-политическое, культурное значение; они не привязаны к конкретным эпохам, но пронизывают всю русскую историю.
Анализируя особенности административно-территориальной и национальной политики СССР, основные стратегии «присвоения» (поглощения) национальной периферии, Е.Ю. Мелешкина показывает не только очевидное – как союзное институциональное наследие повлияло на политическое развитие постсоветских государств, но и неявное – как формировался потенциал распада. По существу, в «кратких заметках» опровергается устойчивое представление о «развале» СССР как спецоперации «заговорщиков», кознях внешних и внутренних «врагов». Национально-государственное образование, которому в этом году исполнилось бы 80 лет, имело внутренние основания к распаду (главное: местные национализмы как двигатель дезинтеграции, национальные «элиты» как ее субъект). И среди прочего оставило в наследство то, что стало определяющим для постсоветской административной системы: патронажно-клиентельные отношения, которые «модерируются» личными связями и коррупцией. Именно это наследие, модернизированное и адаптированное к настоящему моменту, уничтожает сейчас и систему, и страну.
В частном сюжете – истории появления пацифизма в позднесоветские времена – речь по большому счету идет о становлении в СССР гражданского общества. Общественное самоопределение всегда происходит у нас через отрицание – власти, системы, официоза, так как является им прямым вызовом. Качество советской системы, ее претензия на монополию в любой сфере таковы, что это «правило» действовало абсолютно, тотально. Поэтому любая инициатива приобретала протестный характер. Советские «общественники», решившие вместе (заметьте, не вместо) с государством бороться за мир, шли у него по разряду «антисоветчиков». В ответ на самодеятельность государство объявило им войну – и это была адекватная реакция: пытаясь играть на его поле, самим намерением нарушая госмонополию, они неизбежно становились врагами.
Важно другое: общественные деятели и гражданские инициативы вызывали (и вызывают сейчас) отчужденно-враждебную реакцию сограждан. В лучшем случае «антисоветские вылазки» встречали недоумением: что им надо? Так и сейчас: активничаешь – значит пытаешься заместить государство, ты – его враг; лезешь «против власти» – «чужой», «вредительский» элемент («враг народа»). Нашим гражданам что власть, что активисты-общественники – все едино. Но власть хотя бы управляет и принимает решения – ее терпят; на «несогласных» смотрят презрительно-подозрительно – как на бессильных и бессмысленных смутьянов (Болотная для большинства народонаселения – именно такое собрание, своего рода символ смуты). Народ, скорее, готов идти с властью (какой бы она ни была) против них, чем с ними за свои права. У нас люди исторически не верят ни в «низовую» защиту интересов, ни в заступничество – защитить их может только «хороший царь», да и то если захочет. Все остальное – мошенничество в чьих-то частных, корыстных целях.
Именно по этой линии исторические материалы «Трудов…» связаны с работами, объектом анализа которых является наша современность. Основное внимание уделяется в них внутренним российским делам. Каждый автор выбирает свой угол зрения, необходимый для их понимания.
Ю.С. Пивоваров рассматривает современную Россию сквозь призму прошлого. Главные вопросы для него: как мы «читаем» собственную историю, чем руководствуемся, «организуя» поток событий, с какими историческими тенденциями солидаризируемся? Общество самоопределяется, отвечая на эти вопросы; с историческим наследием и отношением к прошлому во многом связаны его перспективы. В.Б. Пастухов пытается понять логику российского развития через эволюцию режима в «нулевые» – «десятые» годы. Делает это остро, бескомпромиссно, на удивление свободно. Нынешний политический строй, полагает он, адекватен состоянию российского общества, и в этой адекватности – секрет его стабильности, его резерв.
Оба автора уделяют значительное внимание нашим перспективам. Для В.Б. Пастухова они являются следствием поражения «Болотной революции» и «бюрократической оптимизации» режима. При нынешних конфигурации власти/государства/системы и состоянии общества России грозит возвращение в мрачное «средневековье» (не в смысле времени, а по качеству социальной практики). Шансов на «хорошее» будущее практически нет – набирает силу традиционалистско-националистически-погромная реакция. Ю.С. Пивоваров связывает перспективы с экспансией гражданского активизма, самоутверждением гражданского движения, иначе говоря, с судьбами «новой России». Современный русский выбор зашифрован, по его мнению, в двух словах: сталинизм и либерализм. Не случайно именно они раскалывают наше общество. И это – раскол по ценностям, предполагающий нравственный выбор. «Правильный» выбор – продвигающий страну вперед, а не отбрасывающий ее в прошлое, – по силам обществу. Оно не сковано исключительно опытом самодержавного деспотизма, произвола и насилия, социальной бесчувственности, апатии, черносотенной реакции, но обладает мощными эмансипационными традициями (см. об этом и «исторические диалоги», помещенные в выпуске). В обществе жива потребность в «нормализации», берущая истоки в великой самобытной культуре. В этом – наша надежда.
С этих двух «площадок» (прошлого и настоящего), в проекции случившегося и предстоящего наша современность рассматривается и в других материалах «Трудов…». В оценке ситуации и перспектив Ю.Н. Афанасьев, выступавший на одном из семинаров Центра россиеведения 2012 г., скорее, совпадает с В.Б. Пастуховым. Его диагноз критический и даже безнадежный: «закат России». Наш французский коллега Ж. Радвани не столь категоричен, придерживается умеренной позиции; при этом не скрывает своей озабоченности. Ценность его позиции – в том, что она определена европейским опытом, задает сравнительный ракурс, усложняя оптику и корректируя наши «внутренние» оценки.
Значительное место в «Трудах…»-2012 занимает анализ положения России в мире, ее внешнеполитической стратегии. Текст А.Г. Арбатова имеет программный характер; он – о том, как ориентирована сейчас и какой должна быть российская внешняя политика. Для автора она напрямую связана с внутренней (ею направляется и на нее влияет), с состоянием общества, особенностями исторического существования страны. Теми же вопросами – как должна вести себя Россия, чтобы достойно войти в новый мир, где искать партнеров, какими принципами руководствоваться, – задается и О.Н. Новикова, характеризуя российские действия последних лет в Афганистане. По существу наши авторы показывают, что в новом, изменившемся и усложнившемся мире Россия пытается вести себя по-старому; политику определяет инерция прошлого; возможности страны в геополитической ситуации начала XXI в. не выявлены, эффективные стратегии не разработаны. Причину несоответствия вызовов времени и политических ответов называет Ю.С. Пивоваров: не произошло «революции сознания» «класса управляющих». Совершено изменившись, получив новый опыт, они тем не менее играют в старые игры, пытаются победить в «прошлой войне».
На неадекватность возникающих задач и предлагаемых решений указывает и О.Ю. Малинова, анализируя такую специфическую область политики, взаимодействия власти и общества, как работа с исторической памятью. Прошлое широко используется в современной российской политике, принося ощутимые выгоды. Однако применяется этот символический инструментарий бессистемно, фрагментарно, непоследовательно, противоречиво. – Добавлю от себя: так, как будто подчинен ограниченным, краткосрочным задачам. Наша историческая политика не определена «высокой» целью формирования нового идентификационного проекта, выращивания нового человека для новой России. Правящие верхи вполне устраивает старое (проект, человек, «Россия–СССР»); игры с памятью подчинены одному – удержанию власти, стабилизации текущей ситуации. Если и получается что-то еще, то это – побочные, «необязательные» эффекты. Поэтому нет целого (единой исторической картины, объединяющего подхода к прошлому), история раздроблена на куски-образы, обрывки-смыслы. Вроде бы всё в рамках постмодернистской эклектики, но при этом авторитеты и абсолюты почему-то не отрицаются, а утверждаются (точнее, подтверждаются).
Своеобразным продолжением темы «власть и память» является подборка «формула памяти» из нашей постоянной рубрики «публицистическая мозаика». В ней собраны выступления лидеров государства и РПЦ (в нынешней ситуации властноцерковной «симфонии» такое объединение показалось нам целесообразным) по историческим вопросам, имевшие общественный резонанс. Заметим, что публицистический раздел мы рассматриваем не как фон к основным материалам, а важную самостоятельную часть «Трудов…», дополняющую ее в проблемно-тематическом отношении и задающую важные смысловые ракурсы. И наконец, обращаем ваше внимание на подборку «формула истории», где известные историки отвечают на вопросы – о времени, о профессии и ее соответствии времени, о самоощущении и самополагании. Неожиданно для нас из этих ответов сложился единый текст: не зная о том, «опрошенные» говорят и спорят друг с другом. Сам жанр такого профессионального разговора представляется нам интересным и небесполезным.
Материалы о современной России отличают тематическое разнообразие, различие исследовательских языков, широкий спектр воззрений. Смешение жанров, тем, исследовательских подходов, мировоззренческих позиций (исключая крайние, социально опасные) вообще определяет образ издания. При этом наших авторов объединяет обеспокоенность происходящим в стране, стремление представить аутентичную картину происходящего, трезвость в его понимании.
Поэтому необходимо подчеркнуть, что нынешняя ситуация в России оценивается большинством авторов «Трудов…» как кризисная (у некоторых, повторим, ощущение кризиса доведено до последней степени остроты, трагизма). И все они озабочены поиском перспектив – ответов на вопросы: может ли Россия стать современной, т.е. адекватной современному миру, его вызовам, на каких путях – каковы модели развития, на которые следует ориентироваться, «дорожные карты», определяющие движение? Настойчиво предостерегающая интонация публикуемых работ, наличие в них «сценариев будущего», конкретных предложений по выходу из кризиса, т.е. своего рода зацикленность на вопросе «что делать?», сами по себе представляются симптоматичными. Это лишний раз указывает на серьезность нашего положения и в то же время свидетельствует о возвращении чувства перспективы, которое наше общество в последние двадцать лет, казалось, полностью утратило.
* * *
Когда-то советский режим ампутировал у России прошлое: все, что было до 25 октября 1917 г., рассматривалось как предыстория; история начиналась с Октябрьской революции. Взамен, правда, дал будущее; советское общество формировалось вокруг темы будущего. Утопия совершенного мира стала точкой зрения на настоящее; для поддержания футуристического проекта было «изобретено» прошлое. История послужила материалом для легитимации власти, «укоренения» советской социальности – самостоятельного значения она не имела. Концепция национального прошлого, созданная в советское время и ставшая элементом массовой культуры, была позитивно заряжена верой в будущее. Падение СССР уничтожило эту веру, а вместе с ней – оптимистический потенциал советской памяти (тех представлений о прошлом, которые сконструировал режим и усвоили массы).
Самоопределение постсоветизма происходило прямо противоположным образом. Точкой опоры послужило для него прошлое – ближайшее, советское («остальное» нас научили рассматривать как предысторию – все до- и несоветское мало значило в нашей жизни, да и советский масскульт работал монопольно и результативно). Причем в советской же интерпретации: попытки адекватно взглянуть на это прошлое, привести в соответствие историю и наши представления о ней (в 1990-е выяснилось, как радикально они различались; поэтому то было время не отречения от своего прошлого, а его обретения) имели ограниченное социальное значение. В «нулевые» годы болезненные ощущения неподконтрольности настоящего, разочарования были отчасти сняты массовым бегством в символическое убежище – понятный, привычный и потому комфортный и безопасный мир советского прошлого. Это наш «золотой век»: страна сбывшихся надежд, героических свершений и удовлетворенных (пусть и по минимуму) потребностей, завоевавшая мировое лидерство и обеспечившая социальную справедливость. Чем меньше оснований для гордости и уверенности в будущем давало постсоветское настоящее, тем больше общество погружалось в иллюзорный мир советского прошлого.
Каким-то непостижимо естественным образом оно стало не только единственной точкой зрения на день сегодняшний, но и нашим будущим. Социальные перспективы для России-2012 монтируются по лекалам советского времени; оно задает нам эталоны. Однако все эти, казалось бы, безобидные и «полезные» обществу темпоральные манипуляции основаны на подменах и самообмане (горделиво-самоутверждающая память об СССР «абстрагируется» от факта его падения, историй массового террора, хронического дефицита, лишений, бедности, запретов всего и вся, изоляции от мира и т.п.), а потому социально опасны. Общество привыкает питаться утопиями, химерами, смотреть на себя с некритических, нереалистических позиций. Оно живет, ностальгируя, вне истории (факты – то, как было «на самом деле», – не имеют над ним власти), разменяв на утопические грезы реальные перспективы. Такой способ существования лучше всего говорит о его незрелости.
Зрелый социум не застревает в образах прошлого и будущего, дающих счастливое забвение; он обустраивает настоящее, понимая, что завтра будет таким, каким мы его строим сегодня, а сегодня – во многом «результат» дня вчерашнего. Мы же не хотим переходить во «взрослое» состояние, требующее ответственности, постоянного труда (на общее и частное благо), самоограничения, руководства идеалами, а не «придуманными» представлениями о себе. Погружение в иллюзорное дает возможность не касаться пугающих, острейших вопросов, которые ставит перед нами современность, но в то же время готовит почву для «антимодерной», архаизирующей реакции.
О том, что это такое и чем грозит, еще столетие назад писал П.Н. Милюков.: «Начало XVII века… представляет… любопытную параллель с настоящим моментом: параллель, которая повторяется и в начале XVIII, и в начале XIX, и в начале ХХ века. Во все эти моменты нашей истории спокойное национальное развитие прерывается катастрофами, которые затрагивают не одни только социальные верхи, но глубоко, с самого корня захватывают и народные массы. И всякий раз оттуда, с социальных низов или от имени социальных низов – поднимается движение, принимающее параллельные формы народного взрыва и националистической реакции. В первой форме движение направляется против “бюрократии”, во второй – против “интеллигенции” данного момента. Ничего творческого, ничего, кроме элементов “бытовой” и “этнографической” традиции, эти реакции в себе не содержат»[1 - Милюков П.Н. Интеллигенция и историческая традиция // Вехи. Интеллигенция в России: Сборники статей, 1909–1910. – М., 1991. – С. 359–360.].
По мнению П.Н. Милюкова, социальные катастрофы обнажают глубокие пласты прошлого, которое «еще не умерло в настоящем». Из соприкосновения с ним рождается «подлинно московский протест против элементов культуры и сознательной идеологии во имя «бытовой» и «этнографической» традиции. Смысл этого явления один и тот же, хотя бы на заре XVII в. оно называлось борьбой против политического «воровства», «пестроты» и «малодушества», на заре XVIII в. – борьбой против «проклятого немецкого зелья» и «антихристовой печати», на заре XIX в. – против «либералистов» и декабристов, на заре ХХ в. – против «жидомасонов» и «выборжцев». Если угодно, тут есть бессознательная традиция стихийного единства»[2 - Там же. – С. 361.]. Проявившись в полную силу в катастрофе 1917–1930 гг., эта традиция не умерла еще и сегодня. Напротив, укрепилась и во многом определяет нашу жизнь.
Социальное большинство в начале XXI в. объединяет неприятие «бюрократии» («начальства», «зажравшихся верхов») и интеллигенции («ботаников», «бездельников», «болтунов», «либералов»), нежелание критически взглянуть на настоящее и узнать прошлое, стремление дать простейшие ответы на сложнейшие социальные вопросы, во всем «играть на понижение». Комплексы упования на власть и «особого пути», «ископаемый» национализм и антизападничество, ставка на насилие во всех социальных отношениях, психология «срединности» («я – как все», «моя хата с края», «от нас ничего не зависит») – это традиционный протест против современности, «модерных» (достижительных, состязательных и проч.) жизненных стратегий. Это своего рода социобиологические рефлексы защиты от мира – того сложного, непривычного, нестабильного, что в нем есть, всех его вызовов и проблем, порожденные низовым слоем массовой культуры. Препятствуя развитию (что всегда – усложнение, совершенствование, «экспансия»), традиционалистская реакция ограничивает социальную перспективу борьбой за выживание.
Теперешнее состояние российского общества вполне закономерно. Право на будущее надо заслужить. Чтобы остаться во времени, а не натыкаться на «бесконечные тупики» и не зависать в «застойных» паузах, необходимо научиться «жить по истории»: принимать такой, какой она была (но не в смысле «оправдывать»), видеть в ней перспективные и угрожающие национальному существованию явления, тенденции, традиции. И начать следует с советского прошлого – оно действительно является единственной основой нашего самоопределения. Это близкое и родное «вчера», с которым мы связаны и которое связывает нас, опасно – и нем есть то, что нельзя ни принять, ни оправдать. Об этом точно сказал И.А. Бродский: в ХХ в. Россия «обнаружила совершенно феноменальную степень отрицательного потенциала, заложенного в человеке… То есть Россия – это просто урок того, на что способен человек. Там… были истреблены миллионы – но чтобы истребить миллионы, нужны миллионы, которые будут истреблять, да? Поэтому в конечном счете Россия в каком-то смысле состоит из жертв и палачей… Я думаю, суть не в общественном, не в политическом зле, не в системе, а в том, на что способен человек. И Россия показала, что человек способен на зло невероятной интенсивности, невероятных размеров. Для человека, не знакомого с категорией первородного греха, – это шок»[3 - Бродский И. Книга интервью. – 5-е изд. – М., 2011. – С. 329.]. Конечно, дело и в системе тоже, потому что она делала ставку на худшее в человеке, культивировала зло (об этом – новая рубрика «Трудов…»: архивная смесь). Но в любом случае этот «урок» есть предостережение.
Такое прошлое требует объяснения. Его нельзя «слить» с другим, приемлемым, по принципу «и/и», просто сказав: так было. И не потому, что принцип неверен: в отношении к истории (как и в социальных отношениях вообще) перспективна только позиция терпимости и примирения, признания за другим права на собственное мнение, на заблуждение и ошибку. Но у этой позиции есть единственный ограничитель: не может быть моральной конвенции со злом. Не осудить опыт массового насилия, государственного террора, репрессирования культуры и морали, т.е. самоуничтожения, травмировавший несколько поколений (причем, не на страницах книг, телеэкране, политических мероприятиях, а на государственном уровне, законодательно), – значит не просто проявить нечувствительность к истории. Оправдание и даже поэтизация зла, а не цивилизации – это приговор, ликвидация собственных перспектив.
Если террор не ужасает общество, если этот ужас им оправдывается, – значит оно утратило ориентиры, внутренние «скрепы», разложилось и попросту перестало быть. Социальная общность развалилась на человекоатомы, кланы, корпорации и т.п., которые руководствуются только собственными интересами. Эту среду не объединить высокой идеей – ни религиозной, потому что здесь «исповедуется» антирелигиозное отношение к миру, ни правовой: правопорядок вырастает из идеалов, моральных принципов, соответствующей культурной базы.
Прошлое уже не «перепишешь»; настоящее не дает нам времени на разглядывание себя в оправдательном ракурсе. Поэтому у постсоветского «общества» нет альтернативы выработке обязывающего взгляда на историю – взгляда, который не извиняет и утешает, а сдерживает, ограничивает, дисциплинирует, призывает к ответу за случившееся и происходящее. Только с таких позиций должно формировать постсоветскую память, как основу политического сознания гражданина, и постсоветскую идентичность. В этом залог социального «взросления» и спасения (не в высоком, метафизическом, а в примитивно-физиологическом смысле слова). Придать соответствующие смысловые рамки памяти – задача историка, профессиональная и гражданская[4 - Социальная функция истории состоит в выявлении значений прошлого, его критическом осмыслении и понимании, донесении этого знания до общества. Это – не популяризация истории, а критическая «проработка» и гуманизация общественной памяти. Известный французский исследователь П. Нора так формулировал задачу историка: превратить в историю спрос своих современников на память. Тем самым в общество вносится сознание историчности, что дает культуре те внутренние напряжение и определенность, которые необходимы для развития. Французский историк Марру писал: человек освобождается от прошлого, давление которого он смутно ощущает, не через забвение, «но через усилие, направленное на то, чтобы вновь обрести его, совершенно сознательно принять его, сделав своей составной частью» (Marrou H. De la connaissance historique. – Р., 1954. – Р. 274). История, таким образом, оказывается «школой, учебной площадкой и инструментом нашей свободы».]. В противном случае он останется страшно далек от общества, а оно окончательно отдастся стихии воинствующего антиисторизма.
Сейчас у нас отсутствуют и спрос, и предложение на «проработку» памяти, на адекватную современности, внятную, морально ориентированную концепцию истории. Это очевидно. Однако общество и историк все-таки нужны друг другу. Если они не встретятся на «площадке» обязывающего отношения к прошлому, история по-прежнему будет областью известного, но не понятого и потому непонятного, собранием неотрефлексированного травматичного опыта, «свалкой» фактов, мешаниной образов, лишенных внутренней логики и социального смысла. Это тупик. Не имея возможности апеллировать к «корням», вне сознания «происхождения» и «чувства места», не подкрепляя проекты будущего соответствующими традициями, не переживая свои травмы, не осуждая суицидальный исторический выбор и порочные практики, общество существовать не может. В этом случае оно не имеет точек сборки; не зная себя, не видит перспектив.
Тогда «скрепить» и «отформатировать» пластичную человеческую массу, эту «заготовку» для общества, можно только извне. Общественную память сконструирует государство/власть, задавая ей выгодные для себя резоны: государственная польза, революционная или стабилизационная целесообразность и т.п. «Присвоенная» память останется, по советскому образцу, средством социального управления, основой зависимости общества от власти, его несамостоятельности. И оправданием властного произвола. Историк в этом случае будет играть «служебную» роль, обслуживая государство. Пытаясь дистанцироваться от общественных «боев за историю», прикрываясь легендой профессиональной автономии, он неизбежно работает на этот сценарий[5 - Позиция неучастия, ведущая к социальному аутизму, как и положение «над схваткой», поддерживающее в историке сознание высокой профессиональной миссии («избранности»), – это реакция на прошлое, ответ советскому, где назначение истории было сугубо утилитарным: служить. Сегодняшний историк, укрываясь от общества и власти в нише «малых» профессиональных дел, решает вчерашние задачи, оставаясь совершенно нечувствительным к новым вызовам. Им игнорируется потребность в рационализации и гуманизации исторической памяти, которая в той или иной степени ощущается в любом современном обществе, в том числе и в нашем, ищущем свой путь в современность.]. Это в очередной раз продемонстрировал Год истории: власть подтвердила намерение контролировать пространство прошлого, что было встречено историческим сообществом в основном с пониманием.
В конечном счете история – открытое пространство, в котором мы «выбираем» себе прошлое (точнее, позицию, с которой мы на него смотрим, отношение к нему). Выбор всегда связан с определением общественных перспектив. В этом смысле история (ее изучение, «сочинение», обсуждение, продвижение) – не мемориально-музейная, а живая, актуальная, конфликтная деятельность, гораздо более детерминированная социально, чем хотелось бы историку. Во всяком случае, в России и уж точно сейчас, когда страна, кажется, готова окончательно определиться – чем ей быть. Хотя… все у нас так непредсказуемо, спонтанно, предположительно и неточно – возможно, и обойдется? И ждет нас не черносотенно-погромный хаос, но порядок: и не полицейский, а цивилизованный…
И.И. Глебова
Россия в зеркале русской поэзии
О. Александр Шмеман в своих дневниках (1979) пишет о «сотереологической функции» русской поэзии. Его современный комментатор (Ю.С. Пивоваров), развивая эту мысль, утверждает, что именно поэзия спасла русских от окончательной победы коммунизма. Напомним, в программном введении к первому выпуску «Трудов…» (2009) утверждалось: одна из задач россиеведения – преодоление коммунизма-советизма (эта эссенция, к сожалению, не ушла из нашей жизни – лишь модифицировалась). Следовательно, поэзия и есть высший тип россиеведения…
В этом – смысл публикации в нашем издании подборок стихов. Все собранное в поэтической рубрике этого выпуска (прозаический фрагмент И.А. Бунина – тоже русская поэзия)[6 - Печатается по изд.: Ахмадулина Б. Стихи. – М.: Худ. лит-ра, 1975; Бунин И.А. Избранное: Стихотворения. Переводы. – М.: Моск. рабочий, 1977; Он же. Собр. соч.: В 6 т. – Т. 4.: Произведения, 1914–1931. – М.: Худ. лит-ра, 1988; Галич А. Я верил в чудо: Песни и стихи. – М., 1991; Окуджава Б. Стихотворения. – СПб., 2001; Соколов В. Четверть века: Избранные стихи, 1948–1973. – М.: Изд-во «Сов. Россия», 1975; Чухонцев О. Ветром и пеплом: Стихотворения и поэмы. – М.: Современник, 1989.] – не просто о великих проблемах человеческого бытия. Эти стихи «попадают» в самую суть ключевого для России ХХ столетия. Они – о его взлетах, трагедиях, безвременьи и безысходности. В них – его ритм: то неуловимое для человека другой эпохи, что и определяет образ времени; то, что недоступно для науки, но может быть передано художественными средствами.
Только в этом контексте и можно писать историю прошлого столетия, дореволюционного и советского мира. Вне контекста исторические изыскания бессмысленны, не имеют социального значения.
Снимок
Улыбкой юности и славы
чуть припугнув, но не отторгнув,
от лени или для забавы
так села, как велел фотограф.
Лишь в благоденствии и лете,
при вечном детстве небосвода,
клянется ей в Оспедалетти
апрель двенадцатого года.
Сложила на коленях руки,
глядит из кружевного нимба.
И тень ее грядущей муки
защелкнута ловушкой снимка.
Коллектив авторов
В связи с тем, что 2012 г. объявлен в Российской Федерации Годом российской истории, в выпуске обсуждаются наиболее острые и спорные вопросы отечественного прошлого. В этом же контексте рассматриваются проблемы исторической памяти и национальной идентичности. Анализируются возможности и перспективы россиеведения как исследовательского направления и учебной дисциплины. В издание также включены материалы семинара Центра россиеведения.
Для специалистов-обществоведов и гуманитариев, аспирантов и студентов.
Труды по россиеведению. Выпуск 4. 2012
Год российской истории и проблемы россиеведения (От редактора)
«Труды по россиеведению»-2012 оказались более «историческими» (даже историкоцентричными), чем выпуски прежних лет. Это не случайно. Объявление 2012 г. Годом российской истории стало и для нас поводом для того, чтобы посмотреть, каково место истории и историка в нашем обществе, чего оно от них ждет (если ждет) и оправдываются ли эти ожидания. Не случайным представляется и то, что любая ретроспекция «Трудов…» так или иначе возвращает к современности – к разговору о природе, состоянии, задачах России-2012. Это еще одна главная тема выпуска, которой посвящен соответствующий блок материалов.
* * *
Сначала – о том, в чем мы видим современность исторических работ, опубликованных в «Трудах…». Актуальное звучание имеют даже, казалось бы, исключительно ретроспективные исследования: И.Н. Данилевского – о происхождении «элит» Древней Руси, А.В. Гордона – о формировании нового образа власти в XVIII в. и способах его репрезентации, О.В. Большаковой – о значении 1812 г. для становления русского национального самосознания, А.С. Сенина – о железнодорожном строительстве в дореволюционной России. Актуальны они не только потому, что адресуют к главному «академическому» вопросу Года истории: что и как изучается, что, как и для чего изучать (кстати, именно с этой точки зрения анализирует события этого знакового для историков года В.П. Булдаков). В работах поднимаются вполне современные проблемы, имеющие общественно-политическое значение.
И.Н. Данилевский, предлагая не абсолютизировать в связи с очередным «юбилеем» отечественной государственности противостояние «норманистов» и «антинорманистов», обращает внимание на действительно серьезный и подлежащий обсуждению вопрос: о качестве древнерусских «элит». Само происхождение делало их космополитами (в данном контексте этот современный термин вполне уместен); космополитичные «верхи» задавали соответствующие параметры государственного, культурного развития. Вопрос о том, почему «элиты» стимулируют русский мир к замкнутости или открытости, об уместности и эффективности таких ориентаций, как никогда актуален сегодня. А.В. Гордон, с символической стороны рассматривая петровское и екатерининское преображение России, по существу, говорит об алгоритме наших преобразований, о том, как ведет себя власть, ощутившая необходимость перемен, как формируется образ «новой России» по воле власти-преобразователя. В центре исследования О.В. Большаковой – еще одна типическая русская проблема, чрезвычайно важная для нашего времени. Специфика национального самоопределения состоит в том, что толчком к рождению национального чувства, «источником» нации является Отечественная (народная, освободительная, победоносная) война. Понять механизмы связи национального и военно-отечественного – задача не узкоисследовательского, а широкого культурно-политического значения. Наконец, работа А.С. Сенина имеет перспективно-практический смысл: в ней выявляются традиционные для России проблемы железнодорожного хозяйства (иначе говоря, инфраструктурного обеспечения единства страны) и пути их решения.
Еще более современно звучат материалы, характеризующие некоторые стороны советской истории. Статьи Е.Ю. Мелешкиной и И.А. Гордеевой посвящены частным, очень конкретным сюжетам и в то же время выводят на большие проблемы: о типе государственного управления, идеологии и технологиях поддержания территориально-государственной общности, способах властной самоорганизации; о становлении общества в России, специфике его отношений с государством/властью, характере общественной активности. Эти проблемы имеют не узкоисторическое, а социально-политическое, культурное значение; они не привязаны к конкретным эпохам, но пронизывают всю русскую историю.
Анализируя особенности административно-территориальной и национальной политики СССР, основные стратегии «присвоения» (поглощения) национальной периферии, Е.Ю. Мелешкина показывает не только очевидное – как союзное институциональное наследие повлияло на политическое развитие постсоветских государств, но и неявное – как формировался потенциал распада. По существу, в «кратких заметках» опровергается устойчивое представление о «развале» СССР как спецоперации «заговорщиков», кознях внешних и внутренних «врагов». Национально-государственное образование, которому в этом году исполнилось бы 80 лет, имело внутренние основания к распаду (главное: местные национализмы как двигатель дезинтеграции, национальные «элиты» как ее субъект). И среди прочего оставило в наследство то, что стало определяющим для постсоветской административной системы: патронажно-клиентельные отношения, которые «модерируются» личными связями и коррупцией. Именно это наследие, модернизированное и адаптированное к настоящему моменту, уничтожает сейчас и систему, и страну.
В частном сюжете – истории появления пацифизма в позднесоветские времена – речь по большому счету идет о становлении в СССР гражданского общества. Общественное самоопределение всегда происходит у нас через отрицание – власти, системы, официоза, так как является им прямым вызовом. Качество советской системы, ее претензия на монополию в любой сфере таковы, что это «правило» действовало абсолютно, тотально. Поэтому любая инициатива приобретала протестный характер. Советские «общественники», решившие вместе (заметьте, не вместо) с государством бороться за мир, шли у него по разряду «антисоветчиков». В ответ на самодеятельность государство объявило им войну – и это была адекватная реакция: пытаясь играть на его поле, самим намерением нарушая госмонополию, они неизбежно становились врагами.
Важно другое: общественные деятели и гражданские инициативы вызывали (и вызывают сейчас) отчужденно-враждебную реакцию сограждан. В лучшем случае «антисоветские вылазки» встречали недоумением: что им надо? Так и сейчас: активничаешь – значит пытаешься заместить государство, ты – его враг; лезешь «против власти» – «чужой», «вредительский» элемент («враг народа»). Нашим гражданам что власть, что активисты-общественники – все едино. Но власть хотя бы управляет и принимает решения – ее терпят; на «несогласных» смотрят презрительно-подозрительно – как на бессильных и бессмысленных смутьянов (Болотная для большинства народонаселения – именно такое собрание, своего рода символ смуты). Народ, скорее, готов идти с властью (какой бы она ни была) против них, чем с ними за свои права. У нас люди исторически не верят ни в «низовую» защиту интересов, ни в заступничество – защитить их может только «хороший царь», да и то если захочет. Все остальное – мошенничество в чьих-то частных, корыстных целях.
Именно по этой линии исторические материалы «Трудов…» связаны с работами, объектом анализа которых является наша современность. Основное внимание уделяется в них внутренним российским делам. Каждый автор выбирает свой угол зрения, необходимый для их понимания.
Ю.С. Пивоваров рассматривает современную Россию сквозь призму прошлого. Главные вопросы для него: как мы «читаем» собственную историю, чем руководствуемся, «организуя» поток событий, с какими историческими тенденциями солидаризируемся? Общество самоопределяется, отвечая на эти вопросы; с историческим наследием и отношением к прошлому во многом связаны его перспективы. В.Б. Пастухов пытается понять логику российского развития через эволюцию режима в «нулевые» – «десятые» годы. Делает это остро, бескомпромиссно, на удивление свободно. Нынешний политический строй, полагает он, адекватен состоянию российского общества, и в этой адекватности – секрет его стабильности, его резерв.
Оба автора уделяют значительное внимание нашим перспективам. Для В.Б. Пастухова они являются следствием поражения «Болотной революции» и «бюрократической оптимизации» режима. При нынешних конфигурации власти/государства/системы и состоянии общества России грозит возвращение в мрачное «средневековье» (не в смысле времени, а по качеству социальной практики). Шансов на «хорошее» будущее практически нет – набирает силу традиционалистско-националистически-погромная реакция. Ю.С. Пивоваров связывает перспективы с экспансией гражданского активизма, самоутверждением гражданского движения, иначе говоря, с судьбами «новой России». Современный русский выбор зашифрован, по его мнению, в двух словах: сталинизм и либерализм. Не случайно именно они раскалывают наше общество. И это – раскол по ценностям, предполагающий нравственный выбор. «Правильный» выбор – продвигающий страну вперед, а не отбрасывающий ее в прошлое, – по силам обществу. Оно не сковано исключительно опытом самодержавного деспотизма, произвола и насилия, социальной бесчувственности, апатии, черносотенной реакции, но обладает мощными эмансипационными традициями (см. об этом и «исторические диалоги», помещенные в выпуске). В обществе жива потребность в «нормализации», берущая истоки в великой самобытной культуре. В этом – наша надежда.
С этих двух «площадок» (прошлого и настоящего), в проекции случившегося и предстоящего наша современность рассматривается и в других материалах «Трудов…». В оценке ситуации и перспектив Ю.Н. Афанасьев, выступавший на одном из семинаров Центра россиеведения 2012 г., скорее, совпадает с В.Б. Пастуховым. Его диагноз критический и даже безнадежный: «закат России». Наш французский коллега Ж. Радвани не столь категоричен, придерживается умеренной позиции; при этом не скрывает своей озабоченности. Ценность его позиции – в том, что она определена европейским опытом, задает сравнительный ракурс, усложняя оптику и корректируя наши «внутренние» оценки.
Значительное место в «Трудах…»-2012 занимает анализ положения России в мире, ее внешнеполитической стратегии. Текст А.Г. Арбатова имеет программный характер; он – о том, как ориентирована сейчас и какой должна быть российская внешняя политика. Для автора она напрямую связана с внутренней (ею направляется и на нее влияет), с состоянием общества, особенностями исторического существования страны. Теми же вопросами – как должна вести себя Россия, чтобы достойно войти в новый мир, где искать партнеров, какими принципами руководствоваться, – задается и О.Н. Новикова, характеризуя российские действия последних лет в Афганистане. По существу наши авторы показывают, что в новом, изменившемся и усложнившемся мире Россия пытается вести себя по-старому; политику определяет инерция прошлого; возможности страны в геополитической ситуации начала XXI в. не выявлены, эффективные стратегии не разработаны. Причину несоответствия вызовов времени и политических ответов называет Ю.С. Пивоваров: не произошло «революции сознания» «класса управляющих». Совершено изменившись, получив новый опыт, они тем не менее играют в старые игры, пытаются победить в «прошлой войне».
На неадекватность возникающих задач и предлагаемых решений указывает и О.Ю. Малинова, анализируя такую специфическую область политики, взаимодействия власти и общества, как работа с исторической памятью. Прошлое широко используется в современной российской политике, принося ощутимые выгоды. Однако применяется этот символический инструментарий бессистемно, фрагментарно, непоследовательно, противоречиво. – Добавлю от себя: так, как будто подчинен ограниченным, краткосрочным задачам. Наша историческая политика не определена «высокой» целью формирования нового идентификационного проекта, выращивания нового человека для новой России. Правящие верхи вполне устраивает старое (проект, человек, «Россия–СССР»); игры с памятью подчинены одному – удержанию власти, стабилизации текущей ситуации. Если и получается что-то еще, то это – побочные, «необязательные» эффекты. Поэтому нет целого (единой исторической картины, объединяющего подхода к прошлому), история раздроблена на куски-образы, обрывки-смыслы. Вроде бы всё в рамках постмодернистской эклектики, но при этом авторитеты и абсолюты почему-то не отрицаются, а утверждаются (точнее, подтверждаются).
Своеобразным продолжением темы «власть и память» является подборка «формула памяти» из нашей постоянной рубрики «публицистическая мозаика». В ней собраны выступления лидеров государства и РПЦ (в нынешней ситуации властноцерковной «симфонии» такое объединение показалось нам целесообразным) по историческим вопросам, имевшие общественный резонанс. Заметим, что публицистический раздел мы рассматриваем не как фон к основным материалам, а важную самостоятельную часть «Трудов…», дополняющую ее в проблемно-тематическом отношении и задающую важные смысловые ракурсы. И наконец, обращаем ваше внимание на подборку «формула истории», где известные историки отвечают на вопросы – о времени, о профессии и ее соответствии времени, о самоощущении и самополагании. Неожиданно для нас из этих ответов сложился единый текст: не зная о том, «опрошенные» говорят и спорят друг с другом. Сам жанр такого профессионального разговора представляется нам интересным и небесполезным.
Материалы о современной России отличают тематическое разнообразие, различие исследовательских языков, широкий спектр воззрений. Смешение жанров, тем, исследовательских подходов, мировоззренческих позиций (исключая крайние, социально опасные) вообще определяет образ издания. При этом наших авторов объединяет обеспокоенность происходящим в стране, стремление представить аутентичную картину происходящего, трезвость в его понимании.
Поэтому необходимо подчеркнуть, что нынешняя ситуация в России оценивается большинством авторов «Трудов…» как кризисная (у некоторых, повторим, ощущение кризиса доведено до последней степени остроты, трагизма). И все они озабочены поиском перспектив – ответов на вопросы: может ли Россия стать современной, т.е. адекватной современному миру, его вызовам, на каких путях – каковы модели развития, на которые следует ориентироваться, «дорожные карты», определяющие движение? Настойчиво предостерегающая интонация публикуемых работ, наличие в них «сценариев будущего», конкретных предложений по выходу из кризиса, т.е. своего рода зацикленность на вопросе «что делать?», сами по себе представляются симптоматичными. Это лишний раз указывает на серьезность нашего положения и в то же время свидетельствует о возвращении чувства перспективы, которое наше общество в последние двадцать лет, казалось, полностью утратило.
* * *
Когда-то советский режим ампутировал у России прошлое: все, что было до 25 октября 1917 г., рассматривалось как предыстория; история начиналась с Октябрьской революции. Взамен, правда, дал будущее; советское общество формировалось вокруг темы будущего. Утопия совершенного мира стала точкой зрения на настоящее; для поддержания футуристического проекта было «изобретено» прошлое. История послужила материалом для легитимации власти, «укоренения» советской социальности – самостоятельного значения она не имела. Концепция национального прошлого, созданная в советское время и ставшая элементом массовой культуры, была позитивно заряжена верой в будущее. Падение СССР уничтожило эту веру, а вместе с ней – оптимистический потенциал советской памяти (тех представлений о прошлом, которые сконструировал режим и усвоили массы).
Самоопределение постсоветизма происходило прямо противоположным образом. Точкой опоры послужило для него прошлое – ближайшее, советское («остальное» нас научили рассматривать как предысторию – все до- и несоветское мало значило в нашей жизни, да и советский масскульт работал монопольно и результативно). Причем в советской же интерпретации: попытки адекватно взглянуть на это прошлое, привести в соответствие историю и наши представления о ней (в 1990-е выяснилось, как радикально они различались; поэтому то было время не отречения от своего прошлого, а его обретения) имели ограниченное социальное значение. В «нулевые» годы болезненные ощущения неподконтрольности настоящего, разочарования были отчасти сняты массовым бегством в символическое убежище – понятный, привычный и потому комфортный и безопасный мир советского прошлого. Это наш «золотой век»: страна сбывшихся надежд, героических свершений и удовлетворенных (пусть и по минимуму) потребностей, завоевавшая мировое лидерство и обеспечившая социальную справедливость. Чем меньше оснований для гордости и уверенности в будущем давало постсоветское настоящее, тем больше общество погружалось в иллюзорный мир советского прошлого.
Каким-то непостижимо естественным образом оно стало не только единственной точкой зрения на день сегодняшний, но и нашим будущим. Социальные перспективы для России-2012 монтируются по лекалам советского времени; оно задает нам эталоны. Однако все эти, казалось бы, безобидные и «полезные» обществу темпоральные манипуляции основаны на подменах и самообмане (горделиво-самоутверждающая память об СССР «абстрагируется» от факта его падения, историй массового террора, хронического дефицита, лишений, бедности, запретов всего и вся, изоляции от мира и т.п.), а потому социально опасны. Общество привыкает питаться утопиями, химерами, смотреть на себя с некритических, нереалистических позиций. Оно живет, ностальгируя, вне истории (факты – то, как было «на самом деле», – не имеют над ним власти), разменяв на утопические грезы реальные перспективы. Такой способ существования лучше всего говорит о его незрелости.
Зрелый социум не застревает в образах прошлого и будущего, дающих счастливое забвение; он обустраивает настоящее, понимая, что завтра будет таким, каким мы его строим сегодня, а сегодня – во многом «результат» дня вчерашнего. Мы же не хотим переходить во «взрослое» состояние, требующее ответственности, постоянного труда (на общее и частное благо), самоограничения, руководства идеалами, а не «придуманными» представлениями о себе. Погружение в иллюзорное дает возможность не касаться пугающих, острейших вопросов, которые ставит перед нами современность, но в то же время готовит почву для «антимодерной», архаизирующей реакции.
О том, что это такое и чем грозит, еще столетие назад писал П.Н. Милюков.: «Начало XVII века… представляет… любопытную параллель с настоящим моментом: параллель, которая повторяется и в начале XVIII, и в начале XIX, и в начале ХХ века. Во все эти моменты нашей истории спокойное национальное развитие прерывается катастрофами, которые затрагивают не одни только социальные верхи, но глубоко, с самого корня захватывают и народные массы. И всякий раз оттуда, с социальных низов или от имени социальных низов – поднимается движение, принимающее параллельные формы народного взрыва и националистической реакции. В первой форме движение направляется против “бюрократии”, во второй – против “интеллигенции” данного момента. Ничего творческого, ничего, кроме элементов “бытовой” и “этнографической” традиции, эти реакции в себе не содержат»[1 - Милюков П.Н. Интеллигенция и историческая традиция // Вехи. Интеллигенция в России: Сборники статей, 1909–1910. – М., 1991. – С. 359–360.].
По мнению П.Н. Милюкова, социальные катастрофы обнажают глубокие пласты прошлого, которое «еще не умерло в настоящем». Из соприкосновения с ним рождается «подлинно московский протест против элементов культуры и сознательной идеологии во имя «бытовой» и «этнографической» традиции. Смысл этого явления один и тот же, хотя бы на заре XVII в. оно называлось борьбой против политического «воровства», «пестроты» и «малодушества», на заре XVIII в. – борьбой против «проклятого немецкого зелья» и «антихристовой печати», на заре XIX в. – против «либералистов» и декабристов, на заре ХХ в. – против «жидомасонов» и «выборжцев». Если угодно, тут есть бессознательная традиция стихийного единства»[2 - Там же. – С. 361.]. Проявившись в полную силу в катастрофе 1917–1930 гг., эта традиция не умерла еще и сегодня. Напротив, укрепилась и во многом определяет нашу жизнь.
Социальное большинство в начале XXI в. объединяет неприятие «бюрократии» («начальства», «зажравшихся верхов») и интеллигенции («ботаников», «бездельников», «болтунов», «либералов»), нежелание критически взглянуть на настоящее и узнать прошлое, стремление дать простейшие ответы на сложнейшие социальные вопросы, во всем «играть на понижение». Комплексы упования на власть и «особого пути», «ископаемый» национализм и антизападничество, ставка на насилие во всех социальных отношениях, психология «срединности» («я – как все», «моя хата с края», «от нас ничего не зависит») – это традиционный протест против современности, «модерных» (достижительных, состязательных и проч.) жизненных стратегий. Это своего рода социобиологические рефлексы защиты от мира – того сложного, непривычного, нестабильного, что в нем есть, всех его вызовов и проблем, порожденные низовым слоем массовой культуры. Препятствуя развитию (что всегда – усложнение, совершенствование, «экспансия»), традиционалистская реакция ограничивает социальную перспективу борьбой за выживание.
Теперешнее состояние российского общества вполне закономерно. Право на будущее надо заслужить. Чтобы остаться во времени, а не натыкаться на «бесконечные тупики» и не зависать в «застойных» паузах, необходимо научиться «жить по истории»: принимать такой, какой она была (но не в смысле «оправдывать»), видеть в ней перспективные и угрожающие национальному существованию явления, тенденции, традиции. И начать следует с советского прошлого – оно действительно является единственной основой нашего самоопределения. Это близкое и родное «вчера», с которым мы связаны и которое связывает нас, опасно – и нем есть то, что нельзя ни принять, ни оправдать. Об этом точно сказал И.А. Бродский: в ХХ в. Россия «обнаружила совершенно феноменальную степень отрицательного потенциала, заложенного в человеке… То есть Россия – это просто урок того, на что способен человек. Там… были истреблены миллионы – но чтобы истребить миллионы, нужны миллионы, которые будут истреблять, да? Поэтому в конечном счете Россия в каком-то смысле состоит из жертв и палачей… Я думаю, суть не в общественном, не в политическом зле, не в системе, а в том, на что способен человек. И Россия показала, что человек способен на зло невероятной интенсивности, невероятных размеров. Для человека, не знакомого с категорией первородного греха, – это шок»[3 - Бродский И. Книга интервью. – 5-е изд. – М., 2011. – С. 329.]. Конечно, дело и в системе тоже, потому что она делала ставку на худшее в человеке, культивировала зло (об этом – новая рубрика «Трудов…»: архивная смесь). Но в любом случае этот «урок» есть предостережение.
Такое прошлое требует объяснения. Его нельзя «слить» с другим, приемлемым, по принципу «и/и», просто сказав: так было. И не потому, что принцип неверен: в отношении к истории (как и в социальных отношениях вообще) перспективна только позиция терпимости и примирения, признания за другим права на собственное мнение, на заблуждение и ошибку. Но у этой позиции есть единственный ограничитель: не может быть моральной конвенции со злом. Не осудить опыт массового насилия, государственного террора, репрессирования культуры и морали, т.е. самоуничтожения, травмировавший несколько поколений (причем, не на страницах книг, телеэкране, политических мероприятиях, а на государственном уровне, законодательно), – значит не просто проявить нечувствительность к истории. Оправдание и даже поэтизация зла, а не цивилизации – это приговор, ликвидация собственных перспектив.
Если террор не ужасает общество, если этот ужас им оправдывается, – значит оно утратило ориентиры, внутренние «скрепы», разложилось и попросту перестало быть. Социальная общность развалилась на человекоатомы, кланы, корпорации и т.п., которые руководствуются только собственными интересами. Эту среду не объединить высокой идеей – ни религиозной, потому что здесь «исповедуется» антирелигиозное отношение к миру, ни правовой: правопорядок вырастает из идеалов, моральных принципов, соответствующей культурной базы.
Прошлое уже не «перепишешь»; настоящее не дает нам времени на разглядывание себя в оправдательном ракурсе. Поэтому у постсоветского «общества» нет альтернативы выработке обязывающего взгляда на историю – взгляда, который не извиняет и утешает, а сдерживает, ограничивает, дисциплинирует, призывает к ответу за случившееся и происходящее. Только с таких позиций должно формировать постсоветскую память, как основу политического сознания гражданина, и постсоветскую идентичность. В этом залог социального «взросления» и спасения (не в высоком, метафизическом, а в примитивно-физиологическом смысле слова). Придать соответствующие смысловые рамки памяти – задача историка, профессиональная и гражданская[4 - Социальная функция истории состоит в выявлении значений прошлого, его критическом осмыслении и понимании, донесении этого знания до общества. Это – не популяризация истории, а критическая «проработка» и гуманизация общественной памяти. Известный французский исследователь П. Нора так формулировал задачу историка: превратить в историю спрос своих современников на память. Тем самым в общество вносится сознание историчности, что дает культуре те внутренние напряжение и определенность, которые необходимы для развития. Французский историк Марру писал: человек освобождается от прошлого, давление которого он смутно ощущает, не через забвение, «но через усилие, направленное на то, чтобы вновь обрести его, совершенно сознательно принять его, сделав своей составной частью» (Marrou H. De la connaissance historique. – Р., 1954. – Р. 274). История, таким образом, оказывается «школой, учебной площадкой и инструментом нашей свободы».]. В противном случае он останется страшно далек от общества, а оно окончательно отдастся стихии воинствующего антиисторизма.
Сейчас у нас отсутствуют и спрос, и предложение на «проработку» памяти, на адекватную современности, внятную, морально ориентированную концепцию истории. Это очевидно. Однако общество и историк все-таки нужны друг другу. Если они не встретятся на «площадке» обязывающего отношения к прошлому, история по-прежнему будет областью известного, но не понятого и потому непонятного, собранием неотрефлексированного травматичного опыта, «свалкой» фактов, мешаниной образов, лишенных внутренней логики и социального смысла. Это тупик. Не имея возможности апеллировать к «корням», вне сознания «происхождения» и «чувства места», не подкрепляя проекты будущего соответствующими традициями, не переживая свои травмы, не осуждая суицидальный исторический выбор и порочные практики, общество существовать не может. В этом случае оно не имеет точек сборки; не зная себя, не видит перспектив.
Тогда «скрепить» и «отформатировать» пластичную человеческую массу, эту «заготовку» для общества, можно только извне. Общественную память сконструирует государство/власть, задавая ей выгодные для себя резоны: государственная польза, революционная или стабилизационная целесообразность и т.п. «Присвоенная» память останется, по советскому образцу, средством социального управления, основой зависимости общества от власти, его несамостоятельности. И оправданием властного произвола. Историк в этом случае будет играть «служебную» роль, обслуживая государство. Пытаясь дистанцироваться от общественных «боев за историю», прикрываясь легендой профессиональной автономии, он неизбежно работает на этот сценарий[5 - Позиция неучастия, ведущая к социальному аутизму, как и положение «над схваткой», поддерживающее в историке сознание высокой профессиональной миссии («избранности»), – это реакция на прошлое, ответ советскому, где назначение истории было сугубо утилитарным: служить. Сегодняшний историк, укрываясь от общества и власти в нише «малых» профессиональных дел, решает вчерашние задачи, оставаясь совершенно нечувствительным к новым вызовам. Им игнорируется потребность в рационализации и гуманизации исторической памяти, которая в той или иной степени ощущается в любом современном обществе, в том числе и в нашем, ищущем свой путь в современность.]. Это в очередной раз продемонстрировал Год истории: власть подтвердила намерение контролировать пространство прошлого, что было встречено историческим сообществом в основном с пониманием.
В конечном счете история – открытое пространство, в котором мы «выбираем» себе прошлое (точнее, позицию, с которой мы на него смотрим, отношение к нему). Выбор всегда связан с определением общественных перспектив. В этом смысле история (ее изучение, «сочинение», обсуждение, продвижение) – не мемориально-музейная, а живая, актуальная, конфликтная деятельность, гораздо более детерминированная социально, чем хотелось бы историку. Во всяком случае, в России и уж точно сейчас, когда страна, кажется, готова окончательно определиться – чем ей быть. Хотя… все у нас так непредсказуемо, спонтанно, предположительно и неточно – возможно, и обойдется? И ждет нас не черносотенно-погромный хаос, но порядок: и не полицейский, а цивилизованный…
И.И. Глебова
Россия в зеркале русской поэзии
О. Александр Шмеман в своих дневниках (1979) пишет о «сотереологической функции» русской поэзии. Его современный комментатор (Ю.С. Пивоваров), развивая эту мысль, утверждает, что именно поэзия спасла русских от окончательной победы коммунизма. Напомним, в программном введении к первому выпуску «Трудов…» (2009) утверждалось: одна из задач россиеведения – преодоление коммунизма-советизма (эта эссенция, к сожалению, не ушла из нашей жизни – лишь модифицировалась). Следовательно, поэзия и есть высший тип россиеведения…
В этом – смысл публикации в нашем издании подборок стихов. Все собранное в поэтической рубрике этого выпуска (прозаический фрагмент И.А. Бунина – тоже русская поэзия)[6 - Печатается по изд.: Ахмадулина Б. Стихи. – М.: Худ. лит-ра, 1975; Бунин И.А. Избранное: Стихотворения. Переводы. – М.: Моск. рабочий, 1977; Он же. Собр. соч.: В 6 т. – Т. 4.: Произведения, 1914–1931. – М.: Худ. лит-ра, 1988; Галич А. Я верил в чудо: Песни и стихи. – М., 1991; Окуджава Б. Стихотворения. – СПб., 2001; Соколов В. Четверть века: Избранные стихи, 1948–1973. – М.: Изд-во «Сов. Россия», 1975; Чухонцев О. Ветром и пеплом: Стихотворения и поэмы. – М.: Современник, 1989.] – не просто о великих проблемах человеческого бытия. Эти стихи «попадают» в самую суть ключевого для России ХХ столетия. Они – о его взлетах, трагедиях, безвременьи и безысходности. В них – его ритм: то неуловимое для человека другой эпохи, что и определяет образ времени; то, что недоступно для науки, но может быть передано художественными средствами.
Только в этом контексте и можно писать историю прошлого столетия, дореволюционного и советского мира. Вне контекста исторические изыскания бессмысленны, не имеют социального значения.
Снимок
Улыбкой юности и славы
чуть припугнув, но не отторгнув,
от лени или для забавы
так села, как велел фотограф.
Лишь в благоденствии и лете,
при вечном детстве небосвода,
клянется ей в Оспедалетти
апрель двенадцатого года.
Сложила на коленях руки,
глядит из кружевного нимба.
И тень ее грядущей муки
защелкнута ловушкой снимка.