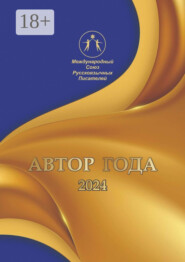По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Киномысль русского зарубежья (1918–1931)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
За осуждение общедоступности и универсальности кинематографа – да не упрекнут меня в отсталости. Общедоступность и сверхнациональность хороши в идее, более того – в этом направлении искусство, можно думать, медленно эволюционирует, но навязывать их насильственно – значит убивать всякое художественное творчество в самом его зародыше. Что сказали бы мы о директоре театра, который предлагал бы драматургу писать пьесу так, чтобы она понята и одобрена была всем населением земного шара? Представьте себе в этом положении Ибсена, Шоу, Чехова – и вы поймете всю чудовищность современной постановки дела в кинематографе.
И, наконец, мы знаем отлично происхождение общедоступности и универсальности, к которым тяготеет кинематограф. Не из презрения к узкому национализму напяливает берлинский режиссер на своих статистов американские мундиры. Тут другой умысел, более близкий к психологии Форда, Зингера и Нестле, чем к мечтаниям о космополитическом искусстве. Очень возможно, что без рыцарей крупной промышленности в кинематографии не обойтись. Но не далеко, может быть, время, когда и сами они убедятся, что индустриальные методы в искусстве неприменимы, что в этой области стремление к обезличению товара только на первых порах увеличивает сбыт, но затем грозит полным его прекращением.
Печатается по: Звено (Париж). 1925. № 106. 9 февр.
Михаил Кантор В ЗАЩИТУ КИНЕМАТОГРАФА
В нашумевшем цикле статей об американском кинематографе, появившихся в прошлом году в «Таймсе», Никольс обронил такое замечание: «Кто ходит в кинематограф, тот не в состоянии отнестись к нему критически, а кто относится к нему критически, тот туда не ходит». Это наблюдение очень близко к истине. За немногими исключениями, серьезной кинематографической критики не существует. Это тем более прискорбно, что нигде публика не нуждается в руководстве и воспитании в такой степени, как именно здесь. Кто поможет ей бороться с натиском глупости и безвкусия, которому она подвергается? Кто будет поощрять подлинно художественные искания, обращать на них внимание рядового зрителя? Развитие кинематографической промышленности шло с такой быстротой, что ни теоретическое осмысливание и обобщение, ни критическая мысль не поспевали за нею, и то, что обычно называют кинематографической критикой, в большинстве случаев сводится к простому регистрированию новых «продукций», если не к биографиям стар’ов[73 - То есть кинозвезд (от англ. star – звезда).] и почтительному оглашению цифр их годового дохода.
Поэтому испытываешь истинное удовлетворение всякий раз, когда о кинематографе заговаривает кто-нибудь из тех, кто относится к нему действительно критически, кто пытается проникнуть в сущность этого нового своеобразного явления и определить его настоящее место в сложном строе современной культуры. К таким попыткам следует отнести чрезвычайно содержательную статью В. Ф. Ходасевича, появившуюся недавно в «Последних новостях»[74 - Статью Ходасевича «О кинематографе» см. на с. 220–224 настоящего издания.]. О ней уже упоминалось кратко в номере 198 «Звена», но мне хотелось бы вернуться к основным ее положениям, заслуживающим самого пристального внимания.
В. Ф. Ходасевич берет быка за рога. Верно ли, спрашивает он, что кинематограф является искусством? И отвечает: нет, «кинематограф не искусство, а развлечение».
Я сознательно оставляю пока в стороне основной аргумент, приводимый В. Ф. Ходасевичем в подтверждение этой мысли. Делаю это не в полемических мыслях, а только «litis ordinandi gratia»[75 - «в интересах самого порядка судебного разбирательства» (лат.).]. Я не премину обратиться к этому аргументу в дальнейшем, но начать мне хочется с одного из выводов, к которым приходит Ходасевич, и по этому выводу проверить правильность его предпосылки. Имею в виду параллель со спортом. «Кинематограф и спорт, – читаем мы в статье В. Ф. Ходасевича, – суть формы примитивного зрелища, потребность в котором широкие массы ощущали всегда. Но в наше время эта потребность особенно возросла, потому что современная жизнь особенно утомительна»…
Сопоставление, действительно, знаменательное и отражающее несомненную связь между обоими явлениями. Еще года два назад я тоже проводил параллель между ними, хотя несколько иначе формулировал объединяющий их признак. Доказывая, что вовлечение широких масс в орбиту спорта следует прежде всего объяснить нашим стремлением «преодолеть затяжную незавершаемость хода вещей», увидеть результат, решение, испытать удовлетворение, даваемое окончательным и непререкаемым исходом события, победой или поражением, – доказывая это (не могу здесь, конечно, воспроизвести весь ход моих тогдашних рассуждений и резюмирую их в очень сжатой формуле), я продолжал: «Здесь сама собой напрашивается параллель между спортом и сценой – экраном… Ведь и драматическое представление, как законченное, себе довлеющее целое, может при известных условиях дать разрешение тем эмоциям, которые лежат в основе массового увлечения спортом… Но нельзя забывать, что спорт – царство реальности (хоть и условной), тогда как театр и кинематограф – царство фикции (хотя бы и убедительной)…»[76 - Статья «Тяга к спорту» – «Звено» № 74. (Примеч. автора.)] Вот это-то противопоставление реальности и фикции, кажется мне, ускользнуло от внимания В. Ф. Ходасевича, когда он признал, что кинематограф и спорт (как зрелище) – явления одного и того же порядка.
Именно в «фиктивности» кинематографа, как и драмы, заключается тот признак, который выделяет его из ряда жизненных явлений и приобщает к царству искусственного – к царству искусства.
Спор о составе понятия «искусство» завел бы нас слишком далеко, и я поэтому хотел бы ограничиться здесь этим единственным признаком, признаком вымышленности, как одним из критериев для распознавания явлений, объединяемых под термином «искусство». И если помнить об этом признаке, то кинематограф нельзя будет уже отождествлять ни с рыбной ловлей, ни с «праздничным сном до десяти часов, вместо того, чтобы вставать в семь».
Да, но не всякий вымысел – искусство. Недостаточно, чтобы явление было не-жизнью (в отличие, например, от спорта, который есть жизнь), нужен еще какой-то положительный признак. Один из этих признаков и указывает В. Ф. Ходасевич, и именно вследствие отсутствия этого признака кинематограф не является, по его мнению, искусством. Всякое искусство, говорит В. Ф. Ходасевич, требует «сознательной воли к слиянию с художником в едином творческом акте, затем – умения в этом акте соучаствовать, т. е. некоторого духовного опыта, приближающегося к религиозному и требующему готовности потрудиться вместе с художником для утоления “духовной жажды”… Вот этого признака кинематограф не имеет».
Такой основной аргумент В. Ф. Ходасевича, если только я правильно понял его статью. Нельзя не видеть всей силы этого соображения и нельзя не признать, что только тонко чувствующий художник мог его привести. Действительно, всякое истинное произведение искусства предполагает сочувствие и со-воображение, словом, известное сотрудничество воспринимающего. Верно, далее, что в подавляющем большинстве случаев кинематограф стремится избавить зрителя от необходимости истратить некоторый эмоциональный заряд на восприятие фильмы. Но для того, чтобы возвести пассивность зрителя в закон экрана, следовало бы доказать, что фильма как таковая лишена способности вызывать со-творчество в зрителе, иначе говоря, что кинематограф ни при каких условиях не может его вызывать в силу каких-то имманентных ему особенностей. Этого доказательства нам пока никто не дал. Я мог бы пойти далее и сказать, что оно и не может быть дано, так как эмпирически доказано обратное: среди всякого хлама, изготовляемого на потребу публики, было несколько картин, волновавших зрителя тем волнением, которое способны вызывать только истинные произведения высокого искусства. Но этот мой довод покоился бы на оценках вкуса, и, как он ни убедителен для многих любителей экрана, я не хочу им здесь пользоваться, а предпочитаю, оставаясь на почве чисто логических умозаключений, только констатировать, что утверждение, будто кинематограф не способен «утолять духовную жажду» зрителя (в том смысле, как понимает В. Ф. Ходасевич), покамест висит в воздухе.
Представим себе человека, который в своей жизни не читал ничего, кроме бульварных романов, а в театрах не видел ничего, кроме фарсов и обозрений. Он тоже мог бы сказать, что литература и театр суть не искусство, так как не требуют никакого активного участия со стороны воспринимающего. Но мы знали бы, что ему на это ответить. Не в положении ли этого человека находится посетитель современного кинематографа, исходящий жаждой в его мрачной пустыне? Но не готовится ли в будущих творениях экрана разительное опровержение его пессимистических выводов? И сколь многим людям опровержение это уже дано в ряде творений, могущих быть поставленными наряду с лучшими созданиями тех искусств, которым признание наше дано от века!
Печатается по: Звено (Париж). 1926. № 198. 14 нояб.
Андрей Левинсон ВОЛШЕБСТВО ЭКРАНА
I. «Призрак Мулен Ружа»
Преувеличивая до пародии средства выразительности, присущие экрану, толкуя светотень как источник жуткой экспрессии, доводя мимику и жестикуляцию действующих лиц до мучительного напряжения, германская «экспрессионистская» кинематография овладевает публикой, как наваждение. Герои «Рук Орлака» или «Музея восковых фигур», судорожно метущиеся или завороженные ужасом, одержимые галлюцинаты вовлекают зрителя в мир кошмара. В «Улице» непреоборимое, захватывающее любопытство делает нас сообщниками свирепой карамазовской похоти, тошнотворной жути, садической жадности к страданию. Гениальная техника таких мастеров, как Вине, имеет над нами власть гипноза. Точно голова Медузы вперяет в нас страшные очи – ночной, искаженный лик сегодняшней Германии, проекция на экран подвала Гаармана[77 - Гаарман – гомосексуалист и сексуальный маньяк, серийный убийца подростков в германском городе Ганновер. Обстоятельства его дела, разбиравшиеся на судебном процессе осенью 1924 г. в Берлине (в общей сложности ему инкриминировалось убийство 27 человек), потрясли Европу и активно обсуждались русской зарубежной печатью.].
Наваждению немцев молодые французские искатели противополагают беспечную и остроумную игру; гипнозу – резвый вымысел. Немец Вине, взятый как тип режиссера, добивается раздвоения личности зрителя. Не только вам мерещится, что на экране дьявольски усмехается настоящий убийца, но порою вам кажется, что убийца – вы сами и что усмешка эта липнет к вашему лицу и кровожадный спазм сводит ваши пальцы. В работе француза все напоминает о том, что перед вами – фикция, что вы вступили в круг оптических и психологических условностей. Окружающий мрак не душит вас в незримых объятьях: он лишь изолирует от действительности озаренный прямоугольник, на котором художник объектива жонглирует приемами.
Таким жонглером, формалистом кинематографии и кажется нам (или, во всяком случае, хочет казаться) Рене Клер, чей «Призрак Мулен Ружа» идет в настоящее время на Бульварах[78 - Фильм «Призрак Мулен Ружа» вышел на парижские экраны в середине марта 1925 г.]. Его задание – применить в технических поисках новизны некоторые варианты ритма, добиться остроумными установками аппарата нечаянных и курьезных ракурсов и углов зрения, а главное – приложить на обширном опыте способ наложения снимка на снимок, движения на движение. Рене Клер подчеркнуто пренебрегает сюжетом, тематическим материалом. Его сценарий – нарочитая пародия на уголовную фильму с участием сверхъестественных сил; его «Призрак» – мелодрама наизнанку.
В числе занятых артистов нет имен с большим престижем, есть и совершенные дилетанты; никакой особой стилизации актерской игры, скорее некоторая разноголосица и вялость исполнения. Но, в сущности, не артисты играют: они лишь – объекты аппарата. Режиссер играет ими.
Схема ленты несложна. Депутат Буассель несчастлив: любимая невеста отвернулась от него; за столиком «Мулен Ружа» он топит горе в вине. Таинственный доктор Виндо обещает ему некую нирвану. Он отделяет от бренной оболочки депутата его душу или, вернее, – его астральное тело, лишь смутно помнящее о своей недавней тюрьме, живущее призрачной жизнью, где все легко и все забвенно. Астральный Буассель незримо присутствует среди врагов и друзей, распутывает нити интриги, доведшей до отчаяния реального Буасселя. Но по таинственному закону его невесомого бытия бывший мыслитель и труженик предается прихотливейшим шалостям и младенческим забавам: ворует верхнее платье с вешалки «Мулен Ружа», зажигает газету в руках зеваки, угоняет автомобиль у шофера, проносится среди сутолоки Пляс де Л’Опера и над платанами Бульваров пляшет среди разгула ночных ресторанов, приводит в бегство Совет министров. Он отказывается, наконец, вернуться в постылое тело. Доктор Виндо попадает в тюрьму как убийца. И лишь известие о вскрытии его тела побуждает призрак отказаться от проказ, вернуться в свою оболочку и воплотиться вновь до «американской развязки»[79 - То есть хеппи-энда.]: он избивает негодяя и женится на нареченной своей «дарлинг»[80 - возлюбленной (англ.).]. Побочные темы – похождения репортера-сыщика, двойника Рультабиля – героя стольких романов-фельетонов[81 - Персонаж чрезвычайно популярного цикла детективных романов французского писателя Гастона Леру, выходивших в 1907–1922 гг. Часть их была тогда же экранизирована.], похищение документов – вплетены в несложную канву. В том, как эта вещь сделана, нет, казалось бы, особой новизны. Техника ленты эклектична: она подытоживает и сочетает подготовленное другими и самим Клером. Места, где мысли и образы вихрем проносятся в лихорадочно возбужденном мозгу Буасселя, переданы посредством ускорения темпа и дробления ритма. Воспоминания героя складываются из коротких отрезков и единичных снимков, заимствованных из уже виденных сцен, от которых остаются лишь эллиптические намеки. Это «стаккато»[82 - Здесь: отрывистый, неровный ритм (ит.).] мгновенно сменяющихся, разрозненных или контрастных образов подчас раздражает зрителя своим отрывистым мельканьем. Нет статики, пауз, на которых отдыхал бы утомленный глаз. Но передана текучесть неосознанных мыслей, зыбких настроений. Еще покойный Луи Деллюк применял этот дробный ритм[83 - Левинсон интересовался творчеством Л. Деллюка и перевел на русский язык его сценарий (РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 1. Ед. хр. 251).], да и сам Клер – в своем скетче «Антракт», сделанном для Шведского балета[84 - Короткометражный фильм «Антракт» (1924) был снят Франсисом Пикабиа и Рене Клером в качестве рекламного аттракциона к открытию гастролей Шведского балета в Париже.].
Точно так же изображение знаменитых «кадрилей» «Мулен Ружа», где среди пены взвихренных юбок совершается цинический обряд традиционного канкана, живо напоминает знаменитую «жигу» в кабаке мозжухинского «Кина». Буйное движение пляса то удаляется, разворачиваясь в глубокой перспективе, то надвигается вплотную.
Еще пример: предметы, переносящиеся или исчезающие по манию невидимой руки; тут думаешь о шапке-невидимке (или, точнее, плаще) Дугласа Фэрбенкса в «Багдадском воре». Казалось бы, перед нами, в общем и главном, весьма виртуозная, хоть и неровная кинематографическая забава, веселый парадокс экрана. А между тем впечатление от этой потешной ленты граничит подчас с волнением. Рене Клер – при брезгливом пренебрежении к тошнотворной лирике «стандартных» сценариев, а главное, при полном отказе от правдоподобия – умеет увлечь нас. Заключительное состязание в скорости, когда душа Буасселя торопит избавителей на выручку своего тела, которого уже коснулся ланцет врача, задумано, видимо, как пародия тех бешеных скачек Гриффита, призом в которых является спасение героя. А между тем отчаяние астрального Буасселя, ломающего руки над недвижным, под ножом, своим телом, ложащегося на это тело, пытаясь вновь слиться с ним, захватывает дух. Это торжество искусства: явная, не скрываемая ложь положения, полная невозможность иллюзии не умаляет силы впечатления.
Я уже указывал на то, что главный прием Клера – накладывание образов друг на друга, запечатление на той же пленке двух движений равного ритма, четкости, направления. Он делает возможными скитания по Парижу призрака Буасселя, превратившегося как бы в едва сгущенную туманность без плотности и веса. Но непроизвольно из этой игры оптическими явлениями и фотохимическими процессами возникает волшебство истинной поэзии. Те движения пловца, которыми бесплотная тень плавно проносится над хаосом улицы, дивно прекрасны. Преодолеть тягу земную, лететь – мечта Икара, вечный символ свободного духа! Астральный Буассель – не неприкаянная тень, не исчадие ночи. Он весел, хмелен, пьян пространством и свободой. Рене Клер, забавляясь с аппаратом, сам внезапно прянул от земли. Когда же очарованный депутат шутливого сценария, наскучив земным, вертикально воспаряет ввысь, с улыбкой блаженства на устах, среди легких, клубящихся облачков, видение на экране достигает величия. Осуществлена мечта Рафаэля, Тициана, Доминиккио, Пуссена, разрешивших в своих «Вознесениях Богоматери» и «Преображениях» проблему вертикального полета фигуры, а вместе – ее отрешения от оков земных и приобщения к бытию духовному. Так механический юмор экрана обращается нечаянно в высокую фантастику. Мы учимся тому, что не из взятого сюжета вытекает магия немого искусства, а из самого естества его, из языка его форм, непереводимого ни на какие иные языки.
Печатается по: Последние новости (Париж). 1925. 19 марта.
II. О некоторых чертах русской кинематографии
Видеть кинематографическую ленту среди деловой суеты просмотров, пышности генеральных репетиций, шумихи «первого экрана» у «Мариво»[85 - «Мариво» – крупнейший кинотеатральный зал Парижа того времени.] или в «Могадоре»[86 - «Магадор» – популярный кинотеатральный зал на Елисейских Полях.] не всегда поучительно. Ее непосредственное соприкосновение с массовым зрителем начинается лишь на периферии, в «квартальных» театрах, внутреннем круге того концентрического движения, которое, ширясь, захватит Чикаго, Бомбей и Токио.
В этих-то условиях, где проверяется жизнеспособность ленты, мне и пришлось увидеть впервые или вновь некоторые работы, осуществленные трудами русских предприятий или с участием русских актеров: «Мишень», «Льва Моголов», «Веселую смерть»[87 - Далее в этой статье, как и в следующей, А. Левинсон переводит с французского название этого фильма как «Счастливая смерть».]. Но за участием русской инициативы в становлении французского кинематографического дела я, разумеется, наблюдаю уже давно, примерно со времени «Тысячи и одной ночи». Значение русского вклада очевидно и уже довольно велико. Но официальный оптимизм, учет действительных или мнимых успехов не исчерпывает оценки сотрудничества России с Западом, амальгамы на экране двух чуждых друг другу стихий. Процесс этого взаимного проникновения сложен. Иногда веришь во взаимное обогащение сторон, иногда опасаешься взаимного истребления: «Делибаш уже на пике, а казак – без головы»[88 - Последние строки пушкинского стихотворения «Делибаш» (1830). Делибаш – отчаянная голова (турецк.) – прозвище охранников турецкого султана.].
За пятилетие, предшествовавшее революции, русский кинематограф создал стиль, совершенно оторванный от европейских и американских исканий, получивший у нашего зрителя восторженное признание. Статика поэтических настроений, меланхолия, экзальтация или эротика цыганского романса – таково было содержание сценариев. Внешнего действия – никакого. Движения – ровно настолько, чтобы связать выдержанные, насыщенные томлением паузы. Драматургия Чехова, отживающая на подмостках, торжествовала на экране. Ни по просторам степей, ни по кручам Кавказа не неслось действие этих интимных элегий; а ведь степи стоят пампасов, Кавказ же – величавее Скалистых гор! Русские персонажи грезили «у камина»[89 - Двухсерийная салонная мелодрама «Позабудь про камин» (1918, реж. Петр Чардынин) с участием И. Мозжухина, О. Рунича, В. Максимова, В. Полонского, И. Худолеева и Веры Холодной воспринималась современниками как «лебединая песня» русской предреволюционной кинематографии.]. Впрочем, это делали тогда и сентиментальные герои американского «Витаграфа»[90 - Фирма «Vitagraph» была основана в 1896 г. англичанами Джеймсом С. Блэктоном и Альбертом Э. Смитом в Нью-Йорке и вскоре стала ведущим производителем фильмов в раннем американском кинематографе. С началом 1920?х гг. она уступила ведущие позиции голливудским предприятиям. В 1925 г. фирма была продана братьям Уорнер.], покинутые невестами и сквозь легкий дымок различавшие образы прошлого. Вера Холодная и Полонский возвращались с бала на автомобиле, каждый из них был погружен в свою боль; они не глядели друг на друга и не двигались. И в этой неподвижности решалась их судьба. Это и была драма. Никто не гнался за автомобилем. Он не развивал скорости. То, что было за окнами его, не существовало. Он не падал под откос, ибо развязка не нуждалась в пособничестве случая. А в те годы Том Микс уже прыгал с моста на крышу вагона курьерского поезда: «авантюрный» сценарий торжествовал. Русское же творчество было поглощено переживанием, вибрацией атмосферы вокруг неподвижных фигур. Отношения черных и белых пятен, приемы светотени служили выразительности больше, чем редкие жесты персонажей. Слов нет, стиль этот перечил самой природе кинематографа. Суть последнего – в передаче движения через преодоленную неподвижность. Из чередования тысяч единичных снимков, сопряженных скоростью, он творит иллюзию непрерывности: живую фотографию, как говорили в давно прошедшие времена[91 - Впервые этот тезис был выдвинут Виктором Шкловским в 1918 г.: «…литература и литературщики, притягиваемые идеей завоевать новый рынок труда, пришли и захватили кинематограф. Они сделали из него зеркало театра и романа, зеркало тусклое и нудное. Куприны, Нагродские, футурист Маяковский, все они повинны в удушении художественных возможностей кинемо, в навязывании ему традиции дурного театра. Экран, рожденный для изображения действия, обратили в пристанище громовой психологии всяких настроений» (Шкловский В. Порча кинематографа // Театральный журнал (Харьков). 1918. № 7. 22 дек.).]. Но грешно и помыкать этой эпохой русского экрана, а если его лиризм или пафос не раз соскальзывали по наклону пошловатости, обывательской пьяной романтики, то ведь удаль, угар, мелодический бред цыганщины были милы и Аполлону Григорьеву, и Толстому, и Блоку. Банальность положений и приемов бывала подчас разительна, но лишь для русского глаза. Для западного зрителя банальность эта была бы непостижимой и иррациональной экзотикой. Поэтому, а не по технической отсталости стиль этот остался явлением местным; да вскоре наступила и война. Таков тот круг, откуда вышли Иван Мозжухин, уже прославленный у нас создатель «Отца Сергия», и некоторые из деятелей, которым было суждено утвердить престиж русского киноискусства за рубежом. Из зыбкой атмосферы, от косных навыков русских мастерских наши актеры и режиссеры перенеслись в ослепительный свет парижских студий. Их вкус и чутье наткнулись на категорический императив американских «стандартов», схем сочинения и исполнения лент, диктуемых хозяевами рынка. Из сочетания русских дарований и изъянов с достижениями и пороками кинотворчества на Западе и возник смешанный стиль, пущенный в оборот фирмой «Альбатрос». Смешанный еще потому, что, насчитывая уже ряд побед (имя Мозжухина стало мировым), работа этой фирмы и непосредственно ей предшествовавшей организации («Ермольев и К°»)[92 - Компания «Societe Ermolieff-Cinema» была создана Иосифом Ермольевым в 1920 г., сразу после эвакуации его предприятия и сотрудников из Крыма во Францию. Эта кинокомпания хронологически предшествовала фирме «Альбатрос», созданной на ее базе после отъезда ее основателя в Германию в 1922 г.] не выходит из состояния художественного кризиса, нащупывания почвы, искания твердых путей[93 - Архаичность творческих приемов русского кино к тому времени была вполне осознана художественной критикой эмиграции: «Пора порвать с традициями “Золотой Серии”, с любовью к психологии и с литературными традициями» (Кино // Последние новости. 1924. 17 янв.).]. Удачи наших соотечественников сами за себя говорят. Дело толкователя в выяснении тех причин, что нарушают органичность «франко-русского» стиля и ущербляют его художественное значение.
* * *
Основной порок зарубежной нашей кинематографии – эпизодичность сценариев и пренебрежение ритмом. Из Аристотелевых единств экран – по природе своей – отвергает единство времени и места. Он – вездесущ, развивая до бесконечности принцип шекспировских перемен. Но он зиждется на единстве действия или на строгом согласовании тем, из которых слагается действие сложное. Каждый перебой в развертывании сценария, каждый отрезок, перемена декорации или установки аппарата – лишь функция этого единства, такты и каденции в фуге. Ибо разработка сценария напоминает голосоведение контрапункта. Каждый снимок, каждый метр пленки есть либо необходимая часть целого, либо мертвый груз. Правильно же найденное взаимоотношение между длиной отрезков, из которых слагается все целое, и есть ритм ленты. Эта гармоническая соразмерность частей требует единства стержня. Такая вещь, как «Мишень», – вызов самому понятию ритмического построения. А «Кин»? И «жига» в кабачке? Разве это не заведомое чудо ритмики? Тут – терминологическое недоразумение. «Жига» эта – чрезвычайно удачно поставленная, где незабываема живописная удаль Мозжухина, изображает некоторое ритмическое действо, плясовую чечетку. Но, увлекшись удачей, режиссер донельзя растягивает этот побочный эпизод вне всякой пропорции с ритмом ленты. Такая невоздержанность не художественна; метраж этой сцены чрезмерен. Так же ошибочно и позирование Мозжухина в профиль и три четверти; задержания, не оправдываемые задачами выразительности, – ферматы[94 - Fermata (ит.) – нотный знак, указывающий на неопределенно долгое время звучания ноты или паузы, над которой он поставлен.] оперного тенора, дробящее ритм щегольство. Но о «Кине» – другой раз; сегодня мы нацелились на «Мишень».
Изложить сюжет – невозможно. Он крошится в руках. Ничто последующее не вытекает из предыдущего. Разрозненные эпизоды и виды (Константинополь, Альпы) нанизаны в беспорядке; дыры залеплены мусором. Колин – южноамериканский революционер и изгнанник (обстоятельства, которыми ничто в дальнейшем не определяется) присутствует в Царьграде при бое петухов. Остроумный снимок боя – в рамке жадно вытянутых голов. Колин спасает петуха. Вот и Константинополь оправдан. Но Колин едет метрдотелем в альпийский курорт. Петух исчезает навсегда. Стало быть, этот пролог мог быть опущен или заменен другим. Действие не завязано. В горах Колин соприкасается с целым набором трафаретных типов, постоянных «масок» экрана: миллиардером, авантюристом (Римский) и девушкой, традиционной «дикаркой», непосредственной натурой. Мы, зрители, боимся, что эти персонажи будут делать друг с другом нечто скучное – потому что предусмотренное и сто раз уже бывшее. Они же делают скучное, потому что нелепое. «Дикарка», несмотря на предостережения Колина, вешается на шею мнимому лорду. Он похищает ее. Колин не оказывается на месте. Все эти лица действуют наперекор своей «маске» и вероятию. Чего ради? Чтобы Колин имел случай бороться с Римским над пропастью. Правдоподобие попирается безоглядно. Значит, на экране требуется правдоподобие? Да, но лишь в смысле сообразности между поступками условных типов и схемой их характеров; предпосылки могут быть вымышлены, но выводы – логически последовательны. Дуглас [Фэрбенкс] в «Багдадском воре», несущийся на коне средь облаков, правдоподобен. Русские же сценарии, заимствуя подчас самые изношенные общие места из западных прописей, портят те пружины, которыми движимы эти манекены. Динамика нарушается, пошлость остается – в угоду мнимым вкусам толпы. Пока что Колин пьет. Пьет он мастерски, эпически. Да и где на свете так гениально икают, как в Первой студии МХАТа? Но выпивка эта – пригодится ли в чем-либо развертыванию действия? Нет. Она самодовлеющий момент, занимательная отсебятина талантливого актера.
Колин, спасший девушку, когда не стоило спасать, увозит ее на свою экзотическую родину. Он выступает с нею в шантанах; одетый ковбоем, он стреляет через плечо в нее – живую мишень. Не тут ли, под конец, завяжется действие? Не обозначится ли патетически тема мишени, давшая название ленты? Ведь Колин – самовольно возвратившийся изгнанник, он – вне закона. Быть может, заметив крадущихся сыщиков, он, дрогнув, расстреляет их через плечо и умчится со своею кралей, вскочив на скакуна самого начальника полиции? Но вот в ложе появляется мнимый лорд-соблазнитель. Что, если, узнав его, мишень дрогнет и Колин, не глядя, уложит любимую пулей? Как мгновенна будет его месть и как трогательно будет суровый стрелок ухаживать за выздоравливающей красавицей! А потом старый революционер покинет тайный приют в сьерре и свергнет узурпатора после великолепной кавалькады; на нем, кстати, и штаны мехом вверх, как подобает всаднику Техаса. И кто раньше доскачет – его отряд или темные силы, мчащиеся наперерез? Гриффит, где ты?
Ничему этому не бывать. Стрельба в мишень – эпизод совершенно внешний, развязка скомкана и нелогична. Вокруг личности интересного актера и его беспредметного виртуозничанья, вокруг отдельных моментов, предполагающихся эффектными, механически сколочен случайный сценарий. Эффекты эти нередко устарелые (ведь и Штрогейм снимал борьбу над снежной пропастью)[95 - Имеется в виду кульминационный эпизод фильма Э. фон Штрогейма «Алчность» (1923–1924).]; напряжения нет ни мгновения. Грубая кройка бульварных романов-фельетонов, позорящих французское производство, лучше этого беспринципного кустарничества.
И едва верится, что теми же руками налажена такая полная движения, динамической фантазии и зрительного юмора вещь, как «Счастливая смерть», где при частичных промахах, заминках и затяжках пульсирует настоящий кинематографический ритм. Но об этом любопытном, а подчас увлекательном произведении не хочется говорить под конец. Оно заслуживает само по себе внимательного разбора.
Печатается по: Последние новости (Париж). 1925. 29 марта.
III. «Счастливая смерть» – путь Мозжухина
Программа «Счастливой смерти» удостоверяет, что сценарий ленты заимствован из литературного произведения: новеллы какой-то графини Байсин[96 - Сценарий фильма был написан Николаем Римским по мотивам рассказа графини Байаш.]. Пусть так; но в работе Николая Римского и режиссера Надеждина не осталось и следа словесности: сюжет изложен ими безостаточно на языке зрительных образов, причем надписи служат лишь лаконическим подстрочником. «Счастливая смерть», это по теме своей – «Живой труп» наизнанку. Увлекательный замысел построен на мотивах, которым драматическая сцена обязана некоторыми новейшими своими успехами. Я разумею то сплетение фикции и действительности, те подмены истинного мнимым и наоборот, те психологические ребусы с нечаянными перестановками данных, среди которых запутываются действующие лица пьесы, вслед за ними – зрители и, наконец, чуть ли не сам автор. Вы узнаете в этой схеме лабиринты Пиранделло, откуда нет исхода и где за каждым поворотом крадется смерть. Наш же сценарист переносит трагическое раздвоение утративших границы своей личности героев в плоскость чистого юмора – с легчайшим сатирическим налетом – бескорыстной игры приемами экрана.
Драматург Имярек знает одни провалы. Во время прогулки на яхте он в припадке морской болезни падает за борт. Его считают погибшим; имя его осеняет посмертная слава; его пьесы рвут из рук; вдова его обогащается; она окружена льстецами. Но драматург спасся; однако ему нет места среди живых; им завладела легенда. Пользуясь сходством, он вернется к жизни под видом собственного брата, станет поставщиком загробного своего успеха, неутомимо сочиняя неизданные рукописи, и даже произнесет речь на открытии собственного памятника. А чтобы урегулировать щекотливое семейное положение, живой труп повенчается с собственной вдовой. Американский кинематограф охотно трактует тему «самозванца». Шофер или лакей выдает себя (а то почему-либо слывет) за собственного барина, авантюрист сходит за принца и т. п. (композиция «Ревизора»). У Римского этот прием обращен и, стало быть, вдвойне комичен: здесь настоящий герой выдает себя за другого. Экспозиция ленты доводит освистанного драматурга до тошнотворной катастрофы; отсюда действие нарастает, движение всеми силами все более разветвляющейся лжи вплоть до апофеоза мистификации: открытия памятника. Такой финал живо напоминает развязку киноромана Жюля Ромэна «Доногоо-Тонка»[97 - «Кинематографический рассказ» Жюля Ромэна «Доногоо-Тонка, или Чудеса науки» пользовался европейской популярностью; эта книга была переведена и в СССР (1922). Левинсон одним из первых русских читателей откликнулся на это сочинение, особо выделив в его композиции и поэтике «магию кинематографа». См.: Левинсон А. Об искусстве наших дней // Руль. 1921. 14 мая.], где мосье Ив Ле Труадек, знаменитый географ, открывает монумент Научной Ошибке, животворящему гению заблуждения. Узел ленты – в двух вариантах катастрофы с драматургом. В первой части мы видим то, что было: муки морской болезни и плачевное падение за борт. Во второй (рассказ мнимой вдовы в заседании Научного общества) мы видим то, чего не было, но что отвечает «творимой легенде»: геройскую борьбу поэта с грозными стихиями. Жестикуляция и мимика Сюзанны Бианкетти (императрицы Евгении в «Императорских фиалках») удачно расчленяют изложение и способствуют нарастанию патетической буффонады. Два параллельных ряда снимков образуют, таким образом, обращенную же пародию. Жалкий трус в героическом виде смешнее, чем герой в ироническом толковании (взять хотя бы Аяксов в «Прекрасной Елене»)[98 - «Прекрасная Елена» (1864) – оперетта Жака Оффенбаха. В 1924 г. на ее сюжет в Германии была снята экранная дилогия «Елена» и «Падение Трои» (реж. Герман Кизер).].
Но убедительность лжи такова, что самые ее участники поддаются ее обаянию: пока Бианкетти рассказывает, на Римском лица нет; он подавлен собственным величием, грандиозностью будто бы пережитых опасностей; обманщик вовлечен в собственный обман; комическая надстройка, отменно «оживляющая действие».
Ритмическая разработка ленты отягощена некоторыми длиннотами. Есть эпизоды вставные: встреча в море с капитаном и беседа, во время которой под приятелями тонет лодка. Это максеннетовский[99 - То есть такой, который встречался в фильмах американского режиссера, автора многочисленных комедий Мак Сеннета.] трюк; его превосходно применял Бастер Китон. Но, в общем, балласта немного, и он искуплен яркими моментами игры. Снимки глаза Римского, выглядывающего в зрительный зал театра, неудачны; чрезмерное увеличение отнюдь не умножает выразительности взгляда; глаз вообще не имеет самостоятельной выразительности: вся орбита, лоб, переносица создают необходимую раму. Зато в иных сценах, несложных по оборудованию, комический темперамент актера и режиссера торжествуют без труда. Римский и его сообщник капитан стоят на первом плане по обе стороны двери, в которую заглядывают, пока в глубине происходит прием муниципалитета неутешной вдовой. Заглянув, они сотрясаются и корчатся от безмолвного смеха. Эти две хохочущие фигуры на просцениуме (говоря здесь языком театра), симметрично расположенные по сторонам портала и обрамляющие трагический маскарад приема, неотразимо забавны. Посредники между действием и зрителями, актеры служат здесь «проповедниками» смеха.
Облюбовав комические темы, Римский, недавно еще – жён-премьер[100 - первый любовник (фр.).], ловко носивший живописные костюмы, избрал благую участь. Но техника его еще осторожна, приемы игры лишены чеканности. Нам кажется, что он должен найти свою постоянную маску, отчетливую кристаллизацию своего юмористического дара, воплотиться в законченный образ, который сделает его имя нарицательным, как имена Макса или Малека[101 - Имеются в виду Макс Линдер и Бастер Китон, получивший во французском прокате экранное имя Малек.].
* * *
«Лев Моголов» представляется нам острым кризисом в творчестве Ивана Мозжухина; отсюда должно начаться выздоровление. Судьба этого завоевателя необычайна. Придя от русского экрана, от статики музыкальных настроений, Мозжухин отважно атакует мирового зрителя средствами самих своих соперников. Наполеон в Египте ходил молиться в мечеть, чтобы покорить себе ислам. Русский актер пытается вырвать оружие из рук американцев. Преодолевая многолетние навыки понимания и исполнения ролей, насилуя свое естество, он ставит своим мышцам и своим нервам труднейшее из заданий: добиться спортивного «стандарта» Фэрбенкса. Пусть Дуглас полярно противоположен русскому началу; Мозжухин ставит руль на Дугласа, непобедимого Зорро[102 - Дуглас Фэрбенкс исполнил главную роль в имевшем большой успех фильме «Знак Зорро» (1920, реж. Ф. Нибло).], рыцаря плаща и шпаги, джигита и атлета, фантаста и юмориста. Чтобы овладеть массами, Мозжухин учится владеть собственным телом. В годы зрелой мужественности, насчитывая множество побед, мастер психологической экспрессии ищет теперь самодовлеющей красоты движения и жеста, упивается чистой динамикой, тем излучением – в прыжке или беге – преизбыточной жизне-радости, которым покоряет сердца Фэрбенкс.
Эту игристую нетерпеливую резвость Мозжухин вносит в первые части «Таинственного дома» – обработки режиссером Волковым французского уголовного романа[103 - Фильм был снят по одноименному роману французского писателя Жюля Мари (1851–1922).]; он бежит вприпрыжку на свидание с любимой, а не влечется к ней мечтательно; кувыркается от избытка чувства, а когда настало время бежать, прыгает на спину лошади из окна второго этажа. Мне укажут, что «кульбиты» Мозжухина не составляют рекорда, а более сложные гимнастические трюки подтасованы. Пусть так! Но впечатление увлекательного, сангвинического размаха, движения достигнуто. Да и нужно ли обращать средство в цель? Скачка на неоседланном коне с госпожой Брабан, одетой, как и он, в купальный костюм, по песчаному пляжу (пролог «Проходящих теней»), – увенчание этой «новой манеры» Мозжухина. Дробный поскок иноходца, отлично взятый темп вращения ручки аппарата сочетаются в бойкий упругий ритм. Эта идиллия на полном скаку, целомудренная и нежная слиянность двух полуобнаженных тел, ветер, играющий волосами влюбленных, песок, море, свет – все это дает такой перевес прологу, что никакие трагические осложнения в дальнейшем не досягнут до этой сцены. Настоящее место ее в конце ленты; пленившись чудесной кавалькадой, простодушный зритель все равно не захочет верить, что герой полюбил другую, раз первая любовь так совершенно воплотилась в движении.
Но если русская кинематография за рубежом соперничает таким образом с динамическим гением американцев, она пытается найти художественную формулу и для статики, оправдать парадокс неподвижности на экране, довести его до искусства. Так, «Песнь торжествующей любви» осуществлена как книжка с картинками, листы которой медленно переворачивает зритель[104 - Экранизация одноименного рассказа И. С. Тургенева (1923, реж. Вячеслав Туржанский). См. рец.: Мор[ской] А. «Песнь торжествующей любви» // Последние новости. 1923. 14 сент. Осенью того же года парижское издательство Якова Поволоцкого предприняло отдельное издание этого литературного произведения с параллельным текстом на французском и русском языках, использовав в качестве иллюстраций кадры из фильма.]. «Кин», о котором мне позволят отложить до другого раза обстоятельное суждение, сочетает оба принципа в их крайнем, заостренном выражении. Дозировка движения так же неумеренна («жига»), как и использование неподвижности (смерть Кина). Мозжухин лежит на постели лицом к зрителю; стало быть, в труднейшем из ракурсов, которого всячески избегает живопись (я знаю одного лишь Христа, снятого с креста у Мантеньи, трактованного в подобном сокращении)[105 - Очевидно, имеется в виду полотно А. Мантеньи «Мертвый Христос». Центральная фигура в картине была дана в неканоническом для того времени ракурсе.]. Но крайняя связанность в телодвижениях должна тут способствовать – и действительно способствует – экспрессии лица. На этом соображении построено в драме начало пятого действия «Дамы с камелиями»[106 - «Дама с камелиями» (1848) – пьеса Александра Дюма-сына.] или хотя бы та европейская лента, где бурное действие сосредоточено вокруг парализованной матери (я забыл имя актрисы), у которой живут и говорят одни глаза. Все это, однако, отдаляет нас от «Льва Моголов», вещи красноречивой в самих своих ошибках. В ней Мозжухин сменил свою ориентацию на «Объединенных артистов»[107 - То есть американскую кинокомпанию «Юнайтед артистс» («United Artists»), созданную в 1919 г. Чарли Чаплином, Мэри Пикфорд, Дугласом Фэрбенксом и Дэвидом Гриффитом и просуществовавшую по 1980 г.] установкой на «Парамаунт». В своем грехопадении он увлек с собой и французского режиссера Жака Эпштейна. Но причины этого поражения слишком интересны, чтобы ограничиться беглыми на них указаниями. Как только удастся вернуться к «Волшебству экрана», я перейду к подробному разбору «Льва».
Печатается по: Последние новости (Париж). 1925. 5 апр.
IV. Превращения Шарло («Пилигрим»)
Мы предполагали посвятить настоящую статью описанию и разбору некоторых русских лент, но тем временем стали показывать на Бульварах «Шарло-пилигрим». Всякая новинка Шарло[108 - Шарло – имя, под которым во Франции и ряде других стран был известен персонаж Чарли Чаплина.] – событие чрезвычайное; мы зачитываемся на экране каждой новой страницей его легенды. Да и можем ли мы мыслить наше время без Шарло!
И, наконец, мы знаем отлично происхождение общедоступности и универсальности, к которым тяготеет кинематограф. Не из презрения к узкому национализму напяливает берлинский режиссер на своих статистов американские мундиры. Тут другой умысел, более близкий к психологии Форда, Зингера и Нестле, чем к мечтаниям о космополитическом искусстве. Очень возможно, что без рыцарей крупной промышленности в кинематографии не обойтись. Но не далеко, может быть, время, когда и сами они убедятся, что индустриальные методы в искусстве неприменимы, что в этой области стремление к обезличению товара только на первых порах увеличивает сбыт, но затем грозит полным его прекращением.
Печатается по: Звено (Париж). 1925. № 106. 9 февр.
Михаил Кантор В ЗАЩИТУ КИНЕМАТОГРАФА
В нашумевшем цикле статей об американском кинематографе, появившихся в прошлом году в «Таймсе», Никольс обронил такое замечание: «Кто ходит в кинематограф, тот не в состоянии отнестись к нему критически, а кто относится к нему критически, тот туда не ходит». Это наблюдение очень близко к истине. За немногими исключениями, серьезной кинематографической критики не существует. Это тем более прискорбно, что нигде публика не нуждается в руководстве и воспитании в такой степени, как именно здесь. Кто поможет ей бороться с натиском глупости и безвкусия, которому она подвергается? Кто будет поощрять подлинно художественные искания, обращать на них внимание рядового зрителя? Развитие кинематографической промышленности шло с такой быстротой, что ни теоретическое осмысливание и обобщение, ни критическая мысль не поспевали за нею, и то, что обычно называют кинематографической критикой, в большинстве случаев сводится к простому регистрированию новых «продукций», если не к биографиям стар’ов[73 - То есть кинозвезд (от англ. star – звезда).] и почтительному оглашению цифр их годового дохода.
Поэтому испытываешь истинное удовлетворение всякий раз, когда о кинематографе заговаривает кто-нибудь из тех, кто относится к нему действительно критически, кто пытается проникнуть в сущность этого нового своеобразного явления и определить его настоящее место в сложном строе современной культуры. К таким попыткам следует отнести чрезвычайно содержательную статью В. Ф. Ходасевича, появившуюся недавно в «Последних новостях»[74 - Статью Ходасевича «О кинематографе» см. на с. 220–224 настоящего издания.]. О ней уже упоминалось кратко в номере 198 «Звена», но мне хотелось бы вернуться к основным ее положениям, заслуживающим самого пристального внимания.
В. Ф. Ходасевич берет быка за рога. Верно ли, спрашивает он, что кинематограф является искусством? И отвечает: нет, «кинематограф не искусство, а развлечение».
Я сознательно оставляю пока в стороне основной аргумент, приводимый В. Ф. Ходасевичем в подтверждение этой мысли. Делаю это не в полемических мыслях, а только «litis ordinandi gratia»[75 - «в интересах самого порядка судебного разбирательства» (лат.).]. Я не премину обратиться к этому аргументу в дальнейшем, но начать мне хочется с одного из выводов, к которым приходит Ходасевич, и по этому выводу проверить правильность его предпосылки. Имею в виду параллель со спортом. «Кинематограф и спорт, – читаем мы в статье В. Ф. Ходасевича, – суть формы примитивного зрелища, потребность в котором широкие массы ощущали всегда. Но в наше время эта потребность особенно возросла, потому что современная жизнь особенно утомительна»…
Сопоставление, действительно, знаменательное и отражающее несомненную связь между обоими явлениями. Еще года два назад я тоже проводил параллель между ними, хотя несколько иначе формулировал объединяющий их признак. Доказывая, что вовлечение широких масс в орбиту спорта следует прежде всего объяснить нашим стремлением «преодолеть затяжную незавершаемость хода вещей», увидеть результат, решение, испытать удовлетворение, даваемое окончательным и непререкаемым исходом события, победой или поражением, – доказывая это (не могу здесь, конечно, воспроизвести весь ход моих тогдашних рассуждений и резюмирую их в очень сжатой формуле), я продолжал: «Здесь сама собой напрашивается параллель между спортом и сценой – экраном… Ведь и драматическое представление, как законченное, себе довлеющее целое, может при известных условиях дать разрешение тем эмоциям, которые лежат в основе массового увлечения спортом… Но нельзя забывать, что спорт – царство реальности (хоть и условной), тогда как театр и кинематограф – царство фикции (хотя бы и убедительной)…»[76 - Статья «Тяга к спорту» – «Звено» № 74. (Примеч. автора.)] Вот это-то противопоставление реальности и фикции, кажется мне, ускользнуло от внимания В. Ф. Ходасевича, когда он признал, что кинематограф и спорт (как зрелище) – явления одного и того же порядка.
Именно в «фиктивности» кинематографа, как и драмы, заключается тот признак, который выделяет его из ряда жизненных явлений и приобщает к царству искусственного – к царству искусства.
Спор о составе понятия «искусство» завел бы нас слишком далеко, и я поэтому хотел бы ограничиться здесь этим единственным признаком, признаком вымышленности, как одним из критериев для распознавания явлений, объединяемых под термином «искусство». И если помнить об этом признаке, то кинематограф нельзя будет уже отождествлять ни с рыбной ловлей, ни с «праздничным сном до десяти часов, вместо того, чтобы вставать в семь».
Да, но не всякий вымысел – искусство. Недостаточно, чтобы явление было не-жизнью (в отличие, например, от спорта, который есть жизнь), нужен еще какой-то положительный признак. Один из этих признаков и указывает В. Ф. Ходасевич, и именно вследствие отсутствия этого признака кинематограф не является, по его мнению, искусством. Всякое искусство, говорит В. Ф. Ходасевич, требует «сознательной воли к слиянию с художником в едином творческом акте, затем – умения в этом акте соучаствовать, т. е. некоторого духовного опыта, приближающегося к религиозному и требующему готовности потрудиться вместе с художником для утоления “духовной жажды”… Вот этого признака кинематограф не имеет».
Такой основной аргумент В. Ф. Ходасевича, если только я правильно понял его статью. Нельзя не видеть всей силы этого соображения и нельзя не признать, что только тонко чувствующий художник мог его привести. Действительно, всякое истинное произведение искусства предполагает сочувствие и со-воображение, словом, известное сотрудничество воспринимающего. Верно, далее, что в подавляющем большинстве случаев кинематограф стремится избавить зрителя от необходимости истратить некоторый эмоциональный заряд на восприятие фильмы. Но для того, чтобы возвести пассивность зрителя в закон экрана, следовало бы доказать, что фильма как таковая лишена способности вызывать со-творчество в зрителе, иначе говоря, что кинематограф ни при каких условиях не может его вызывать в силу каких-то имманентных ему особенностей. Этого доказательства нам пока никто не дал. Я мог бы пойти далее и сказать, что оно и не может быть дано, так как эмпирически доказано обратное: среди всякого хлама, изготовляемого на потребу публики, было несколько картин, волновавших зрителя тем волнением, которое способны вызывать только истинные произведения высокого искусства. Но этот мой довод покоился бы на оценках вкуса, и, как он ни убедителен для многих любителей экрана, я не хочу им здесь пользоваться, а предпочитаю, оставаясь на почве чисто логических умозаключений, только констатировать, что утверждение, будто кинематограф не способен «утолять духовную жажду» зрителя (в том смысле, как понимает В. Ф. Ходасевич), покамест висит в воздухе.
Представим себе человека, который в своей жизни не читал ничего, кроме бульварных романов, а в театрах не видел ничего, кроме фарсов и обозрений. Он тоже мог бы сказать, что литература и театр суть не искусство, так как не требуют никакого активного участия со стороны воспринимающего. Но мы знали бы, что ему на это ответить. Не в положении ли этого человека находится посетитель современного кинематографа, исходящий жаждой в его мрачной пустыне? Но не готовится ли в будущих творениях экрана разительное опровержение его пессимистических выводов? И сколь многим людям опровержение это уже дано в ряде творений, могущих быть поставленными наряду с лучшими созданиями тех искусств, которым признание наше дано от века!
Печатается по: Звено (Париж). 1926. № 198. 14 нояб.
Андрей Левинсон ВОЛШЕБСТВО ЭКРАНА
I. «Призрак Мулен Ружа»
Преувеличивая до пародии средства выразительности, присущие экрану, толкуя светотень как источник жуткой экспрессии, доводя мимику и жестикуляцию действующих лиц до мучительного напряжения, германская «экспрессионистская» кинематография овладевает публикой, как наваждение. Герои «Рук Орлака» или «Музея восковых фигур», судорожно метущиеся или завороженные ужасом, одержимые галлюцинаты вовлекают зрителя в мир кошмара. В «Улице» непреоборимое, захватывающее любопытство делает нас сообщниками свирепой карамазовской похоти, тошнотворной жути, садической жадности к страданию. Гениальная техника таких мастеров, как Вине, имеет над нами власть гипноза. Точно голова Медузы вперяет в нас страшные очи – ночной, искаженный лик сегодняшней Германии, проекция на экран подвала Гаармана[77 - Гаарман – гомосексуалист и сексуальный маньяк, серийный убийца подростков в германском городе Ганновер. Обстоятельства его дела, разбиравшиеся на судебном процессе осенью 1924 г. в Берлине (в общей сложности ему инкриминировалось убийство 27 человек), потрясли Европу и активно обсуждались русской зарубежной печатью.].
Наваждению немцев молодые французские искатели противополагают беспечную и остроумную игру; гипнозу – резвый вымысел. Немец Вине, взятый как тип режиссера, добивается раздвоения личности зрителя. Не только вам мерещится, что на экране дьявольски усмехается настоящий убийца, но порою вам кажется, что убийца – вы сами и что усмешка эта липнет к вашему лицу и кровожадный спазм сводит ваши пальцы. В работе француза все напоминает о том, что перед вами – фикция, что вы вступили в круг оптических и психологических условностей. Окружающий мрак не душит вас в незримых объятьях: он лишь изолирует от действительности озаренный прямоугольник, на котором художник объектива жонглирует приемами.
Таким жонглером, формалистом кинематографии и кажется нам (или, во всяком случае, хочет казаться) Рене Клер, чей «Призрак Мулен Ружа» идет в настоящее время на Бульварах[78 - Фильм «Призрак Мулен Ружа» вышел на парижские экраны в середине марта 1925 г.]. Его задание – применить в технических поисках новизны некоторые варианты ритма, добиться остроумными установками аппарата нечаянных и курьезных ракурсов и углов зрения, а главное – приложить на обширном опыте способ наложения снимка на снимок, движения на движение. Рене Клер подчеркнуто пренебрегает сюжетом, тематическим материалом. Его сценарий – нарочитая пародия на уголовную фильму с участием сверхъестественных сил; его «Призрак» – мелодрама наизнанку.
В числе занятых артистов нет имен с большим престижем, есть и совершенные дилетанты; никакой особой стилизации актерской игры, скорее некоторая разноголосица и вялость исполнения. Но, в сущности, не артисты играют: они лишь – объекты аппарата. Режиссер играет ими.
Схема ленты несложна. Депутат Буассель несчастлив: любимая невеста отвернулась от него; за столиком «Мулен Ружа» он топит горе в вине. Таинственный доктор Виндо обещает ему некую нирвану. Он отделяет от бренной оболочки депутата его душу или, вернее, – его астральное тело, лишь смутно помнящее о своей недавней тюрьме, живущее призрачной жизнью, где все легко и все забвенно. Астральный Буассель незримо присутствует среди врагов и друзей, распутывает нити интриги, доведшей до отчаяния реального Буасселя. Но по таинственному закону его невесомого бытия бывший мыслитель и труженик предается прихотливейшим шалостям и младенческим забавам: ворует верхнее платье с вешалки «Мулен Ружа», зажигает газету в руках зеваки, угоняет автомобиль у шофера, проносится среди сутолоки Пляс де Л’Опера и над платанами Бульваров пляшет среди разгула ночных ресторанов, приводит в бегство Совет министров. Он отказывается, наконец, вернуться в постылое тело. Доктор Виндо попадает в тюрьму как убийца. И лишь известие о вскрытии его тела побуждает призрак отказаться от проказ, вернуться в свою оболочку и воплотиться вновь до «американской развязки»[79 - То есть хеппи-энда.]: он избивает негодяя и женится на нареченной своей «дарлинг»[80 - возлюбленной (англ.).]. Побочные темы – похождения репортера-сыщика, двойника Рультабиля – героя стольких романов-фельетонов[81 - Персонаж чрезвычайно популярного цикла детективных романов французского писателя Гастона Леру, выходивших в 1907–1922 гг. Часть их была тогда же экранизирована.], похищение документов – вплетены в несложную канву. В том, как эта вещь сделана, нет, казалось бы, особой новизны. Техника ленты эклектична: она подытоживает и сочетает подготовленное другими и самим Клером. Места, где мысли и образы вихрем проносятся в лихорадочно возбужденном мозгу Буасселя, переданы посредством ускорения темпа и дробления ритма. Воспоминания героя складываются из коротких отрезков и единичных снимков, заимствованных из уже виденных сцен, от которых остаются лишь эллиптические намеки. Это «стаккато»[82 - Здесь: отрывистый, неровный ритм (ит.).] мгновенно сменяющихся, разрозненных или контрастных образов подчас раздражает зрителя своим отрывистым мельканьем. Нет статики, пауз, на которых отдыхал бы утомленный глаз. Но передана текучесть неосознанных мыслей, зыбких настроений. Еще покойный Луи Деллюк применял этот дробный ритм[83 - Левинсон интересовался творчеством Л. Деллюка и перевел на русский язык его сценарий (РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 1. Ед. хр. 251).], да и сам Клер – в своем скетче «Антракт», сделанном для Шведского балета[84 - Короткометражный фильм «Антракт» (1924) был снят Франсисом Пикабиа и Рене Клером в качестве рекламного аттракциона к открытию гастролей Шведского балета в Париже.].
Точно так же изображение знаменитых «кадрилей» «Мулен Ружа», где среди пены взвихренных юбок совершается цинический обряд традиционного канкана, живо напоминает знаменитую «жигу» в кабаке мозжухинского «Кина». Буйное движение пляса то удаляется, разворачиваясь в глубокой перспективе, то надвигается вплотную.
Еще пример: предметы, переносящиеся или исчезающие по манию невидимой руки; тут думаешь о шапке-невидимке (или, точнее, плаще) Дугласа Фэрбенкса в «Багдадском воре». Казалось бы, перед нами, в общем и главном, весьма виртуозная, хоть и неровная кинематографическая забава, веселый парадокс экрана. А между тем впечатление от этой потешной ленты граничит подчас с волнением. Рене Клер – при брезгливом пренебрежении к тошнотворной лирике «стандартных» сценариев, а главное, при полном отказе от правдоподобия – умеет увлечь нас. Заключительное состязание в скорости, когда душа Буасселя торопит избавителей на выручку своего тела, которого уже коснулся ланцет врача, задумано, видимо, как пародия тех бешеных скачек Гриффита, призом в которых является спасение героя. А между тем отчаяние астрального Буасселя, ломающего руки над недвижным, под ножом, своим телом, ложащегося на это тело, пытаясь вновь слиться с ним, захватывает дух. Это торжество искусства: явная, не скрываемая ложь положения, полная невозможность иллюзии не умаляет силы впечатления.
Я уже указывал на то, что главный прием Клера – накладывание образов друг на друга, запечатление на той же пленке двух движений равного ритма, четкости, направления. Он делает возможными скитания по Парижу призрака Буасселя, превратившегося как бы в едва сгущенную туманность без плотности и веса. Но непроизвольно из этой игры оптическими явлениями и фотохимическими процессами возникает волшебство истинной поэзии. Те движения пловца, которыми бесплотная тень плавно проносится над хаосом улицы, дивно прекрасны. Преодолеть тягу земную, лететь – мечта Икара, вечный символ свободного духа! Астральный Буассель – не неприкаянная тень, не исчадие ночи. Он весел, хмелен, пьян пространством и свободой. Рене Клер, забавляясь с аппаратом, сам внезапно прянул от земли. Когда же очарованный депутат шутливого сценария, наскучив земным, вертикально воспаряет ввысь, с улыбкой блаженства на устах, среди легких, клубящихся облачков, видение на экране достигает величия. Осуществлена мечта Рафаэля, Тициана, Доминиккио, Пуссена, разрешивших в своих «Вознесениях Богоматери» и «Преображениях» проблему вертикального полета фигуры, а вместе – ее отрешения от оков земных и приобщения к бытию духовному. Так механический юмор экрана обращается нечаянно в высокую фантастику. Мы учимся тому, что не из взятого сюжета вытекает магия немого искусства, а из самого естества его, из языка его форм, непереводимого ни на какие иные языки.
Печатается по: Последние новости (Париж). 1925. 19 марта.
II. О некоторых чертах русской кинематографии
Видеть кинематографическую ленту среди деловой суеты просмотров, пышности генеральных репетиций, шумихи «первого экрана» у «Мариво»[85 - «Мариво» – крупнейший кинотеатральный зал Парижа того времени.] или в «Могадоре»[86 - «Магадор» – популярный кинотеатральный зал на Елисейских Полях.] не всегда поучительно. Ее непосредственное соприкосновение с массовым зрителем начинается лишь на периферии, в «квартальных» театрах, внутреннем круге того концентрического движения, которое, ширясь, захватит Чикаго, Бомбей и Токио.
В этих-то условиях, где проверяется жизнеспособность ленты, мне и пришлось увидеть впервые или вновь некоторые работы, осуществленные трудами русских предприятий или с участием русских актеров: «Мишень», «Льва Моголов», «Веселую смерть»[87 - Далее в этой статье, как и в следующей, А. Левинсон переводит с французского название этого фильма как «Счастливая смерть».]. Но за участием русской инициативы в становлении французского кинематографического дела я, разумеется, наблюдаю уже давно, примерно со времени «Тысячи и одной ночи». Значение русского вклада очевидно и уже довольно велико. Но официальный оптимизм, учет действительных или мнимых успехов не исчерпывает оценки сотрудничества России с Западом, амальгамы на экране двух чуждых друг другу стихий. Процесс этого взаимного проникновения сложен. Иногда веришь во взаимное обогащение сторон, иногда опасаешься взаимного истребления: «Делибаш уже на пике, а казак – без головы»[88 - Последние строки пушкинского стихотворения «Делибаш» (1830). Делибаш – отчаянная голова (турецк.) – прозвище охранников турецкого султана.].
За пятилетие, предшествовавшее революции, русский кинематограф создал стиль, совершенно оторванный от европейских и американских исканий, получивший у нашего зрителя восторженное признание. Статика поэтических настроений, меланхолия, экзальтация или эротика цыганского романса – таково было содержание сценариев. Внешнего действия – никакого. Движения – ровно настолько, чтобы связать выдержанные, насыщенные томлением паузы. Драматургия Чехова, отживающая на подмостках, торжествовала на экране. Ни по просторам степей, ни по кручам Кавказа не неслось действие этих интимных элегий; а ведь степи стоят пампасов, Кавказ же – величавее Скалистых гор! Русские персонажи грезили «у камина»[89 - Двухсерийная салонная мелодрама «Позабудь про камин» (1918, реж. Петр Чардынин) с участием И. Мозжухина, О. Рунича, В. Максимова, В. Полонского, И. Худолеева и Веры Холодной воспринималась современниками как «лебединая песня» русской предреволюционной кинематографии.]. Впрочем, это делали тогда и сентиментальные герои американского «Витаграфа»[90 - Фирма «Vitagraph» была основана в 1896 г. англичанами Джеймсом С. Блэктоном и Альбертом Э. Смитом в Нью-Йорке и вскоре стала ведущим производителем фильмов в раннем американском кинематографе. С началом 1920?х гг. она уступила ведущие позиции голливудским предприятиям. В 1925 г. фирма была продана братьям Уорнер.], покинутые невестами и сквозь легкий дымок различавшие образы прошлого. Вера Холодная и Полонский возвращались с бала на автомобиле, каждый из них был погружен в свою боль; они не глядели друг на друга и не двигались. И в этой неподвижности решалась их судьба. Это и была драма. Никто не гнался за автомобилем. Он не развивал скорости. То, что было за окнами его, не существовало. Он не падал под откос, ибо развязка не нуждалась в пособничестве случая. А в те годы Том Микс уже прыгал с моста на крышу вагона курьерского поезда: «авантюрный» сценарий торжествовал. Русское же творчество было поглощено переживанием, вибрацией атмосферы вокруг неподвижных фигур. Отношения черных и белых пятен, приемы светотени служили выразительности больше, чем редкие жесты персонажей. Слов нет, стиль этот перечил самой природе кинематографа. Суть последнего – в передаче движения через преодоленную неподвижность. Из чередования тысяч единичных снимков, сопряженных скоростью, он творит иллюзию непрерывности: живую фотографию, как говорили в давно прошедшие времена[91 - Впервые этот тезис был выдвинут Виктором Шкловским в 1918 г.: «…литература и литературщики, притягиваемые идеей завоевать новый рынок труда, пришли и захватили кинематограф. Они сделали из него зеркало театра и романа, зеркало тусклое и нудное. Куприны, Нагродские, футурист Маяковский, все они повинны в удушении художественных возможностей кинемо, в навязывании ему традиции дурного театра. Экран, рожденный для изображения действия, обратили в пристанище громовой психологии всяких настроений» (Шкловский В. Порча кинематографа // Театральный журнал (Харьков). 1918. № 7. 22 дек.).]. Но грешно и помыкать этой эпохой русского экрана, а если его лиризм или пафос не раз соскальзывали по наклону пошловатости, обывательской пьяной романтики, то ведь удаль, угар, мелодический бред цыганщины были милы и Аполлону Григорьеву, и Толстому, и Блоку. Банальность положений и приемов бывала подчас разительна, но лишь для русского глаза. Для западного зрителя банальность эта была бы непостижимой и иррациональной экзотикой. Поэтому, а не по технической отсталости стиль этот остался явлением местным; да вскоре наступила и война. Таков тот круг, откуда вышли Иван Мозжухин, уже прославленный у нас создатель «Отца Сергия», и некоторые из деятелей, которым было суждено утвердить престиж русского киноискусства за рубежом. Из зыбкой атмосферы, от косных навыков русских мастерских наши актеры и режиссеры перенеслись в ослепительный свет парижских студий. Их вкус и чутье наткнулись на категорический императив американских «стандартов», схем сочинения и исполнения лент, диктуемых хозяевами рынка. Из сочетания русских дарований и изъянов с достижениями и пороками кинотворчества на Западе и возник смешанный стиль, пущенный в оборот фирмой «Альбатрос». Смешанный еще потому, что, насчитывая уже ряд побед (имя Мозжухина стало мировым), работа этой фирмы и непосредственно ей предшествовавшей организации («Ермольев и К°»)[92 - Компания «Societe Ermolieff-Cinema» была создана Иосифом Ермольевым в 1920 г., сразу после эвакуации его предприятия и сотрудников из Крыма во Францию. Эта кинокомпания хронологически предшествовала фирме «Альбатрос», созданной на ее базе после отъезда ее основателя в Германию в 1922 г.] не выходит из состояния художественного кризиса, нащупывания почвы, искания твердых путей[93 - Архаичность творческих приемов русского кино к тому времени была вполне осознана художественной критикой эмиграции: «Пора порвать с традициями “Золотой Серии”, с любовью к психологии и с литературными традициями» (Кино // Последние новости. 1924. 17 янв.).]. Удачи наших соотечественников сами за себя говорят. Дело толкователя в выяснении тех причин, что нарушают органичность «франко-русского» стиля и ущербляют его художественное значение.
* * *
Основной порок зарубежной нашей кинематографии – эпизодичность сценариев и пренебрежение ритмом. Из Аристотелевых единств экран – по природе своей – отвергает единство времени и места. Он – вездесущ, развивая до бесконечности принцип шекспировских перемен. Но он зиждется на единстве действия или на строгом согласовании тем, из которых слагается действие сложное. Каждый перебой в развертывании сценария, каждый отрезок, перемена декорации или установки аппарата – лишь функция этого единства, такты и каденции в фуге. Ибо разработка сценария напоминает голосоведение контрапункта. Каждый снимок, каждый метр пленки есть либо необходимая часть целого, либо мертвый груз. Правильно же найденное взаимоотношение между длиной отрезков, из которых слагается все целое, и есть ритм ленты. Эта гармоническая соразмерность частей требует единства стержня. Такая вещь, как «Мишень», – вызов самому понятию ритмического построения. А «Кин»? И «жига» в кабачке? Разве это не заведомое чудо ритмики? Тут – терминологическое недоразумение. «Жига» эта – чрезвычайно удачно поставленная, где незабываема живописная удаль Мозжухина, изображает некоторое ритмическое действо, плясовую чечетку. Но, увлекшись удачей, режиссер донельзя растягивает этот побочный эпизод вне всякой пропорции с ритмом ленты. Такая невоздержанность не художественна; метраж этой сцены чрезмерен. Так же ошибочно и позирование Мозжухина в профиль и три четверти; задержания, не оправдываемые задачами выразительности, – ферматы[94 - Fermata (ит.) – нотный знак, указывающий на неопределенно долгое время звучания ноты или паузы, над которой он поставлен.] оперного тенора, дробящее ритм щегольство. Но о «Кине» – другой раз; сегодня мы нацелились на «Мишень».
Изложить сюжет – невозможно. Он крошится в руках. Ничто последующее не вытекает из предыдущего. Разрозненные эпизоды и виды (Константинополь, Альпы) нанизаны в беспорядке; дыры залеплены мусором. Колин – южноамериканский революционер и изгнанник (обстоятельства, которыми ничто в дальнейшем не определяется) присутствует в Царьграде при бое петухов. Остроумный снимок боя – в рамке жадно вытянутых голов. Колин спасает петуха. Вот и Константинополь оправдан. Но Колин едет метрдотелем в альпийский курорт. Петух исчезает навсегда. Стало быть, этот пролог мог быть опущен или заменен другим. Действие не завязано. В горах Колин соприкасается с целым набором трафаретных типов, постоянных «масок» экрана: миллиардером, авантюристом (Римский) и девушкой, традиционной «дикаркой», непосредственной натурой. Мы, зрители, боимся, что эти персонажи будут делать друг с другом нечто скучное – потому что предусмотренное и сто раз уже бывшее. Они же делают скучное, потому что нелепое. «Дикарка», несмотря на предостережения Колина, вешается на шею мнимому лорду. Он похищает ее. Колин не оказывается на месте. Все эти лица действуют наперекор своей «маске» и вероятию. Чего ради? Чтобы Колин имел случай бороться с Римским над пропастью. Правдоподобие попирается безоглядно. Значит, на экране требуется правдоподобие? Да, но лишь в смысле сообразности между поступками условных типов и схемой их характеров; предпосылки могут быть вымышлены, но выводы – логически последовательны. Дуглас [Фэрбенкс] в «Багдадском воре», несущийся на коне средь облаков, правдоподобен. Русские же сценарии, заимствуя подчас самые изношенные общие места из западных прописей, портят те пружины, которыми движимы эти манекены. Динамика нарушается, пошлость остается – в угоду мнимым вкусам толпы. Пока что Колин пьет. Пьет он мастерски, эпически. Да и где на свете так гениально икают, как в Первой студии МХАТа? Но выпивка эта – пригодится ли в чем-либо развертыванию действия? Нет. Она самодовлеющий момент, занимательная отсебятина талантливого актера.
Колин, спасший девушку, когда не стоило спасать, увозит ее на свою экзотическую родину. Он выступает с нею в шантанах; одетый ковбоем, он стреляет через плечо в нее – живую мишень. Не тут ли, под конец, завяжется действие? Не обозначится ли патетически тема мишени, давшая название ленты? Ведь Колин – самовольно возвратившийся изгнанник, он – вне закона. Быть может, заметив крадущихся сыщиков, он, дрогнув, расстреляет их через плечо и умчится со своею кралей, вскочив на скакуна самого начальника полиции? Но вот в ложе появляется мнимый лорд-соблазнитель. Что, если, узнав его, мишень дрогнет и Колин, не глядя, уложит любимую пулей? Как мгновенна будет его месть и как трогательно будет суровый стрелок ухаживать за выздоравливающей красавицей! А потом старый революционер покинет тайный приют в сьерре и свергнет узурпатора после великолепной кавалькады; на нем, кстати, и штаны мехом вверх, как подобает всаднику Техаса. И кто раньше доскачет – его отряд или темные силы, мчащиеся наперерез? Гриффит, где ты?
Ничему этому не бывать. Стрельба в мишень – эпизод совершенно внешний, развязка скомкана и нелогична. Вокруг личности интересного актера и его беспредметного виртуозничанья, вокруг отдельных моментов, предполагающихся эффектными, механически сколочен случайный сценарий. Эффекты эти нередко устарелые (ведь и Штрогейм снимал борьбу над снежной пропастью)[95 - Имеется в виду кульминационный эпизод фильма Э. фон Штрогейма «Алчность» (1923–1924).]; напряжения нет ни мгновения. Грубая кройка бульварных романов-фельетонов, позорящих французское производство, лучше этого беспринципного кустарничества.
И едва верится, что теми же руками налажена такая полная движения, динамической фантазии и зрительного юмора вещь, как «Счастливая смерть», где при частичных промахах, заминках и затяжках пульсирует настоящий кинематографический ритм. Но об этом любопытном, а подчас увлекательном произведении не хочется говорить под конец. Оно заслуживает само по себе внимательного разбора.
Печатается по: Последние новости (Париж). 1925. 29 марта.
III. «Счастливая смерть» – путь Мозжухина
Программа «Счастливой смерти» удостоверяет, что сценарий ленты заимствован из литературного произведения: новеллы какой-то графини Байсин[96 - Сценарий фильма был написан Николаем Римским по мотивам рассказа графини Байаш.]. Пусть так; но в работе Николая Римского и режиссера Надеждина не осталось и следа словесности: сюжет изложен ими безостаточно на языке зрительных образов, причем надписи служат лишь лаконическим подстрочником. «Счастливая смерть», это по теме своей – «Живой труп» наизнанку. Увлекательный замысел построен на мотивах, которым драматическая сцена обязана некоторыми новейшими своими успехами. Я разумею то сплетение фикции и действительности, те подмены истинного мнимым и наоборот, те психологические ребусы с нечаянными перестановками данных, среди которых запутываются действующие лица пьесы, вслед за ними – зрители и, наконец, чуть ли не сам автор. Вы узнаете в этой схеме лабиринты Пиранделло, откуда нет исхода и где за каждым поворотом крадется смерть. Наш же сценарист переносит трагическое раздвоение утративших границы своей личности героев в плоскость чистого юмора – с легчайшим сатирическим налетом – бескорыстной игры приемами экрана.
Драматург Имярек знает одни провалы. Во время прогулки на яхте он в припадке морской болезни падает за борт. Его считают погибшим; имя его осеняет посмертная слава; его пьесы рвут из рук; вдова его обогащается; она окружена льстецами. Но драматург спасся; однако ему нет места среди живых; им завладела легенда. Пользуясь сходством, он вернется к жизни под видом собственного брата, станет поставщиком загробного своего успеха, неутомимо сочиняя неизданные рукописи, и даже произнесет речь на открытии собственного памятника. А чтобы урегулировать щекотливое семейное положение, живой труп повенчается с собственной вдовой. Американский кинематограф охотно трактует тему «самозванца». Шофер или лакей выдает себя (а то почему-либо слывет) за собственного барина, авантюрист сходит за принца и т. п. (композиция «Ревизора»). У Римского этот прием обращен и, стало быть, вдвойне комичен: здесь настоящий герой выдает себя за другого. Экспозиция ленты доводит освистанного драматурга до тошнотворной катастрофы; отсюда действие нарастает, движение всеми силами все более разветвляющейся лжи вплоть до апофеоза мистификации: открытия памятника. Такой финал живо напоминает развязку киноромана Жюля Ромэна «Доногоо-Тонка»[97 - «Кинематографический рассказ» Жюля Ромэна «Доногоо-Тонка, или Чудеса науки» пользовался европейской популярностью; эта книга была переведена и в СССР (1922). Левинсон одним из первых русских читателей откликнулся на это сочинение, особо выделив в его композиции и поэтике «магию кинематографа». См.: Левинсон А. Об искусстве наших дней // Руль. 1921. 14 мая.], где мосье Ив Ле Труадек, знаменитый географ, открывает монумент Научной Ошибке, животворящему гению заблуждения. Узел ленты – в двух вариантах катастрофы с драматургом. В первой части мы видим то, что было: муки морской болезни и плачевное падение за борт. Во второй (рассказ мнимой вдовы в заседании Научного общества) мы видим то, чего не было, но что отвечает «творимой легенде»: геройскую борьбу поэта с грозными стихиями. Жестикуляция и мимика Сюзанны Бианкетти (императрицы Евгении в «Императорских фиалках») удачно расчленяют изложение и способствуют нарастанию патетической буффонады. Два параллельных ряда снимков образуют, таким образом, обращенную же пародию. Жалкий трус в героическом виде смешнее, чем герой в ироническом толковании (взять хотя бы Аяксов в «Прекрасной Елене»)[98 - «Прекрасная Елена» (1864) – оперетта Жака Оффенбаха. В 1924 г. на ее сюжет в Германии была снята экранная дилогия «Елена» и «Падение Трои» (реж. Герман Кизер).].
Но убедительность лжи такова, что самые ее участники поддаются ее обаянию: пока Бианкетти рассказывает, на Римском лица нет; он подавлен собственным величием, грандиозностью будто бы пережитых опасностей; обманщик вовлечен в собственный обман; комическая надстройка, отменно «оживляющая действие».
Ритмическая разработка ленты отягощена некоторыми длиннотами. Есть эпизоды вставные: встреча в море с капитаном и беседа, во время которой под приятелями тонет лодка. Это максеннетовский[99 - То есть такой, который встречался в фильмах американского режиссера, автора многочисленных комедий Мак Сеннета.] трюк; его превосходно применял Бастер Китон. Но, в общем, балласта немного, и он искуплен яркими моментами игры. Снимки глаза Римского, выглядывающего в зрительный зал театра, неудачны; чрезмерное увеличение отнюдь не умножает выразительности взгляда; глаз вообще не имеет самостоятельной выразительности: вся орбита, лоб, переносица создают необходимую раму. Зато в иных сценах, несложных по оборудованию, комический темперамент актера и режиссера торжествуют без труда. Римский и его сообщник капитан стоят на первом плане по обе стороны двери, в которую заглядывают, пока в глубине происходит прием муниципалитета неутешной вдовой. Заглянув, они сотрясаются и корчатся от безмолвного смеха. Эти две хохочущие фигуры на просцениуме (говоря здесь языком театра), симметрично расположенные по сторонам портала и обрамляющие трагический маскарад приема, неотразимо забавны. Посредники между действием и зрителями, актеры служат здесь «проповедниками» смеха.
Облюбовав комические темы, Римский, недавно еще – жён-премьер[100 - первый любовник (фр.).], ловко носивший живописные костюмы, избрал благую участь. Но техника его еще осторожна, приемы игры лишены чеканности. Нам кажется, что он должен найти свою постоянную маску, отчетливую кристаллизацию своего юмористического дара, воплотиться в законченный образ, который сделает его имя нарицательным, как имена Макса или Малека[101 - Имеются в виду Макс Линдер и Бастер Китон, получивший во французском прокате экранное имя Малек.].
* * *
«Лев Моголов» представляется нам острым кризисом в творчестве Ивана Мозжухина; отсюда должно начаться выздоровление. Судьба этого завоевателя необычайна. Придя от русского экрана, от статики музыкальных настроений, Мозжухин отважно атакует мирового зрителя средствами самих своих соперников. Наполеон в Египте ходил молиться в мечеть, чтобы покорить себе ислам. Русский актер пытается вырвать оружие из рук американцев. Преодолевая многолетние навыки понимания и исполнения ролей, насилуя свое естество, он ставит своим мышцам и своим нервам труднейшее из заданий: добиться спортивного «стандарта» Фэрбенкса. Пусть Дуглас полярно противоположен русскому началу; Мозжухин ставит руль на Дугласа, непобедимого Зорро[102 - Дуглас Фэрбенкс исполнил главную роль в имевшем большой успех фильме «Знак Зорро» (1920, реж. Ф. Нибло).], рыцаря плаща и шпаги, джигита и атлета, фантаста и юмориста. Чтобы овладеть массами, Мозжухин учится владеть собственным телом. В годы зрелой мужественности, насчитывая множество побед, мастер психологической экспрессии ищет теперь самодовлеющей красоты движения и жеста, упивается чистой динамикой, тем излучением – в прыжке или беге – преизбыточной жизне-радости, которым покоряет сердца Фэрбенкс.
Эту игристую нетерпеливую резвость Мозжухин вносит в первые части «Таинственного дома» – обработки режиссером Волковым французского уголовного романа[103 - Фильм был снят по одноименному роману французского писателя Жюля Мари (1851–1922).]; он бежит вприпрыжку на свидание с любимой, а не влечется к ней мечтательно; кувыркается от избытка чувства, а когда настало время бежать, прыгает на спину лошади из окна второго этажа. Мне укажут, что «кульбиты» Мозжухина не составляют рекорда, а более сложные гимнастические трюки подтасованы. Пусть так! Но впечатление увлекательного, сангвинического размаха, движения достигнуто. Да и нужно ли обращать средство в цель? Скачка на неоседланном коне с госпожой Брабан, одетой, как и он, в купальный костюм, по песчаному пляжу (пролог «Проходящих теней»), – увенчание этой «новой манеры» Мозжухина. Дробный поскок иноходца, отлично взятый темп вращения ручки аппарата сочетаются в бойкий упругий ритм. Эта идиллия на полном скаку, целомудренная и нежная слиянность двух полуобнаженных тел, ветер, играющий волосами влюбленных, песок, море, свет – все это дает такой перевес прологу, что никакие трагические осложнения в дальнейшем не досягнут до этой сцены. Настоящее место ее в конце ленты; пленившись чудесной кавалькадой, простодушный зритель все равно не захочет верить, что герой полюбил другую, раз первая любовь так совершенно воплотилась в движении.
Но если русская кинематография за рубежом соперничает таким образом с динамическим гением американцев, она пытается найти художественную формулу и для статики, оправдать парадокс неподвижности на экране, довести его до искусства. Так, «Песнь торжествующей любви» осуществлена как книжка с картинками, листы которой медленно переворачивает зритель[104 - Экранизация одноименного рассказа И. С. Тургенева (1923, реж. Вячеслав Туржанский). См. рец.: Мор[ской] А. «Песнь торжествующей любви» // Последние новости. 1923. 14 сент. Осенью того же года парижское издательство Якова Поволоцкого предприняло отдельное издание этого литературного произведения с параллельным текстом на французском и русском языках, использовав в качестве иллюстраций кадры из фильма.]. «Кин», о котором мне позволят отложить до другого раза обстоятельное суждение, сочетает оба принципа в их крайнем, заостренном выражении. Дозировка движения так же неумеренна («жига»), как и использование неподвижности (смерть Кина). Мозжухин лежит на постели лицом к зрителю; стало быть, в труднейшем из ракурсов, которого всячески избегает живопись (я знаю одного лишь Христа, снятого с креста у Мантеньи, трактованного в подобном сокращении)[105 - Очевидно, имеется в виду полотно А. Мантеньи «Мертвый Христос». Центральная фигура в картине была дана в неканоническом для того времени ракурсе.]. Но крайняя связанность в телодвижениях должна тут способствовать – и действительно способствует – экспрессии лица. На этом соображении построено в драме начало пятого действия «Дамы с камелиями»[106 - «Дама с камелиями» (1848) – пьеса Александра Дюма-сына.] или хотя бы та европейская лента, где бурное действие сосредоточено вокруг парализованной матери (я забыл имя актрисы), у которой живут и говорят одни глаза. Все это, однако, отдаляет нас от «Льва Моголов», вещи красноречивой в самих своих ошибках. В ней Мозжухин сменил свою ориентацию на «Объединенных артистов»[107 - То есть американскую кинокомпанию «Юнайтед артистс» («United Artists»), созданную в 1919 г. Чарли Чаплином, Мэри Пикфорд, Дугласом Фэрбенксом и Дэвидом Гриффитом и просуществовавшую по 1980 г.] установкой на «Парамаунт». В своем грехопадении он увлек с собой и французского режиссера Жака Эпштейна. Но причины этого поражения слишком интересны, чтобы ограничиться беглыми на них указаниями. Как только удастся вернуться к «Волшебству экрана», я перейду к подробному разбору «Льва».
Печатается по: Последние новости (Париж). 1925. 5 апр.
IV. Превращения Шарло («Пилигрим»)
Мы предполагали посвятить настоящую статью описанию и разбору некоторых русских лент, но тем временем стали показывать на Бульварах «Шарло-пилигрим». Всякая новинка Шарло[108 - Шарло – имя, под которым во Франции и ряде других стран был известен персонаж Чарли Чаплина.] – событие чрезвычайное; мы зачитываемся на экране каждой новой страницей его легенды. Да и можем ли мы мыслить наше время без Шарло!