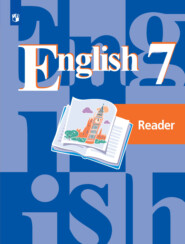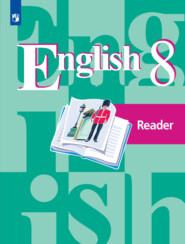По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Последний год Пушкина. Карамзины, дуэль, гибель
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Версия Щёголева
Кто же был автором злосчастного диплома ордена Рогоносцев? Несколько раз доброхоты проводили экспертизу диплома. Называли графиню Нессельроде (дочь министра финансов Гурьева), князя Гагарина… В наше время пушкинист Леонид Аринштейн пришёл к выводу, что следы ведут к Александру Раевскому, сыну прославленного генерала. Пушкин считал его демонической личностью. Оба они в свое время ухаживали за Елизаветой Воронцовой, и поэт, по-видимому, оказался удачливее. Главный аргумент Аринштейна – оттиск сургучной печати, которая, якобы, принадлежала Раевскому. Но убедительных доказательств и в этой версии нет: оттиск внимательно рассматривали и Виельгорский, и следователи, современники Раевского. Уж они бы разгадали тайну печати точнее нашего современника, но никто не указал на Раевского…
Павел Щёголев (а вслед за ним и Вересаев) не сомневался, что автором «диплома рогоносцев» был колченогий молодой князь Пётр Долгоруков, близкий к кругу Геккерена. На эту проделку он решился, по мнению пушкиниста, из подлого озорства. Долгорукова подозревали и современники. На склоне лет он даже опубликовал своеобразную отповедь в герценовском «Колоколе».
Щёголев в предреволюционные годы собрал едва ли не все имевшиеся к тому времени документы, связанные с дуэлью Пушкина и ввел в оборот немало новых данных – например, о последней встрече Пушкина с Николаем I. Но бросалось в глаза предубеждение исследователя по отношению к жене поэта. Он нашел виновника гибели Пушкина. А точнее – виновницу. К Натали Щёголев относился как неумолимый прокурор. «Наталья Николаевна была увлечена серьёзнее, чем Дантес… доминировал в любовном поединке Дантес: его искали больше, чем искал он сам», – эта трактовка в 1916-м воспринималась как нечто сенсационное. Принято считать, что преданная супруга, «чистейшей прелести чистейший образец», отвергла ухаживания назойливого француза, позволив себе лишь мимолётное светское кокетство. Многие жрецы пушкинского святилища и сегодня считают кощунственными любые подозрения в адрес Натали. Так строптивый пушкинист заслужил репутацию женоненавистника. У него нашлись последователи, в том числе знаменитые. «До крайних пределов осуждения и обвинения жены Пушкина дошла Анна Ахматова», – писал академик Дмитрий Благой.
Когда в 1987 году в издательстве «Книга» затевалось переиздание книги Щёголева массовым тиражом, в прессе появилось открытое письмо, подписанное знаменитыми писателями и пушкинистами. Леонид Леонов, Юрий Бондарев, Семён Гейченко, Николай Скатов – все они выступили против щёголевской книги: «Ещё в двадцатых годах чрезвычайно субъективный взгляд Щеголева на семейные отношения Пушкиных был ошибочно принят некоторыми талантливыми литераторами за абсолютную истину и внёс такое смятение в умы, что многим и многим писателям, ученым, исследователям биографии поэта стоило большого труда в течение десятилетий отстоять доброе имя самого близкого Пушкину человека, его дорогого друга, любимой женщины, матери его детей – Наталии Николаевны». Остановить переиздание не удалось. Но тираж, под давлением общественности, сократили. Вычеркнуть Щёголева из контекста не удалось. Парвеню? Возможно. Зато – труженик пушкинистики.
Викентий Вересаев первым попытался воспроизвести жизнь Пушкина день за днём – и получилось не только капитальное исследование, но и увлекательное чтение. Его «Пушкин в жизни» и «Спутники Пушкина» – из тех книг, о которых поначалу спорят не без высокомерия, но через десятилетие – другое мало кто сомневается, что это – классика. Вслед за Щёголевым, Вересаев неприязненно относился к Наталье Николаевне и намекал на её «особые отношения» с императором – в том числе и после гибели Пушкина. Ведь её новый муж Ланской вполне годился в Нарышкины, хотя и не удостоился диплома…
Академик Юрий Лотман первым в печати объяснил скандальные приставания Дантеса к жене Пушкина желанием устранить порочащие его слухи о гомосексуальной связи со своим приёмным отцом – бароном Геккерном. Речь пошла даже о некоем «заговоре мужеложцев» против Пушкина, который к тому времени успел испортить отношения и с Михаилом Дондуковым-Корсаковым, и с министром Сергеем Уваровым, былым приятелем по литературным собраниям… Лотман считал вероятным сговор между Уваровым и Геккереном. Уваров когда-то основал литературное общество «Арзамас», построенное на розыгрышах и мистификациях. Ему бы хватило фантазии на «диплом ордена рогоносцев». Недурная месть за оскорбительные эпиграммы. «Пушкин защищал свой Дом, свою святыню, на которой основано „самостоянье человека“, от низости, коварства и разврата», – писал Лотман.
Возмутителем спокойствия служил в пушкинистике Александр Лацис, разработавший гипотезу о неизлечимой болезни, которая сжигала поэта несколько лет. По этой версии, именно из-за тяжкого недуга Пушкин выбрал дуэль как завуалированную форму самоубийства. Система доказательств построена на одном допущении: Пушкин с юности был склонен к мистификациям, слова в простоте не сказал. И всё-таки не только у Лациса, но и у менее эксцентричных исследователей сквозит: Пушкин как будто стремился к поединку, чтобы разом разделаться со всеми напастями. Против этой версии – жизнелюбие поэта. Его литературные планы. Он ещё не утвердил себя в полной мере как историограф и прозаик. В его кабинете осталась вереница незавершённых «пиес» – да каких.
Историк московской Руси Руслан Скрынников, как и подобает петербуржцу, много лет исследовал историю дуэли Пушкина, искал документы, анализировал версии, в том числе переписку Дантеса с приемным отцом, которая оставалась неизвестной во времена Щёголева. В итоге получилась книга не только насыщенная фактами и версиями, но и литературно отточенная. Скрынников не верил в суицидальные настроения Пушкина – любящего многодетного отца. Историк полагал, что пресловутый «диплом» Пушкину без дальнего прицела послали молодые озорники – князь Пётр Урусов, корнет Константин Опочинин. Они развлекались таким образом и с другими мужьями, о которых судачили в свете. Скрынников назвал и главную причину дуэли – слух о сожительстве Пушкина с Александриной. Распускал слухи кавалергард Александр Трубецкой – фаворит императрицы, входивший в круг Геккерена. Щёголев считал этот мотив третьестепенным.
Пушкинист Андрей Лисунов высказал предположение, что автором рокового ордена рогоносцев был… сам Александр Сергеевич, великий мистификатор. Таким образом он стремился сделать необратимым cмертельный поединок с обидчиком. Еще дальше пошёл академик Николай Петраков – известный экономист, директор института Проблем рынка, всю жизнь мечтавший стать пушкиноведом. Он не сомневался, что император Николай I влюбился в Наталью Николаевну не менее серьезно, чем его старший брат – в Нарышкину. Ведь до последнего часа император носил портрет Натали в медальоне… Где тут кончается легенда и начинается документ? И не разберешь.
Зёрна всех версий – даже самых невероятных – можно найти в пересудах современников Пушкина – Вяземского, Хомякова, Тургенева, Жуковского… А непреложной правды не ждите – будущие исследователи продолжат череду тайн и предположений.
Эта книга – достойное приношение памяти великого поэта и собрание документов почти детективной истории, о которой каждый из участников имеет собственное мнение, каждый создает собственный сценарий. Последний год жизни Пушкина – вечная загадка. На кого мог опереться поэт, попавший в омут чудовищной интриги? В советское время в научный оборот вошла переписка Карамзиных – семейства, близкого к Пушкину и искушенного в придворной и литературной жизни. Она проливает свет на контекст гибели поэта. Не менее интересна позиция Петра Вяземского, который считал себя одним из виновников гибели Пушкина и в первые дни после дуэли, с помощью супруги, написал послание императору, в котором описал события в благоприятном для себя ключе. Вы увидите и другие свидетельства, исследования, версии, которые достойны внимания, а в сумме дают объективное представление об одном из самых трагических событий в истории России.
Только один участник давней интриги ничего не написал о ней – Александр Пушкин. Поэтому так трудно приоткрыть правду тех событий. Книга, которую вы держите в руках, поможет в этом.
Арсений Замостьянов,
заместитель главного редактора журнала «Историк»
Екатерина Андреевна, Софья Николаевна, Александр Николаевич и Андрей Николаевич Карамзины
Из переписки 1836–1837 годов
Из писем к Андрею Карамзину
Николай Карамзин
С.Н. КАРАМЗИНА
8/20 июля 1836 г. Царское Село.
В самом деле, господин Андрей, вы скверный, вы негодный мальчишка ‹…› Вот уже две недели мы не имеем никаких известий о вашей чрезмерно нами любимой особе. Вы совсем не заслуживаете, чтобы вам писали; поэтому я сделаю это как можно более кратко и лишь для того, чтобы сообщить тебе о петергофском празднике. Иначе, если я стану ждать твоего письма, чтобы прийти снова в хорошее настроение, он станет древней историей.
Я отправилась на этот праздник с госпожей Шевич. Погода была божественная, что явилось неожиданностью в конце самого холодного, самого сырого и унылого дня, какой только можно себе представить, словно для того, чтобы показать, что необыкновенному счастью государя ничто не противодействует и даже стихии никогда его не расстраивают. Утро, начавшееся в восемь часов, прошло для меня весьма тоскливо, среди довольно скучного общества, которое прогуливалось черепашьим шагом по аллеям, еще пустынным, вероятно, по причине вчерашней ужасной погоды. Единственный приятный момент был, когда всё общество спустилось в сад, чтобы затем, после представления государю, вереницами проследовать назад. Там я встретила почти всех наших друзей и знакомых, в том числе Вяземского (довольно веселого в своем придворном мундире, который он, наконец, решился надеть), Одоевских (он, сделанный камергером, она вся в розовом, с палевыми цветами на шляпе, сильно похудевшая и почти красивая), Надину Соллогуб (она уезжает одиннадцатого числа за границу со своей теткой, проведет там более года, зимой, возможно, отправится в Италию, а сейчас прямо в Баден-Баден, где надеется увидеть тебя и где также находится госпожа Смирнова; бедный Андрей, береги свое сердце), Опочининых и Люцероде (которые просили передать тебе множество приветов), Бутурлиных (которые уезжают 25-го; Лиза была очаровательна в венке из палевых роз) и Дантеса, увидеть которого, признаюсь, мне было очень приятно. По-видимому, сердце всегда немножко привыкает к тем, кого видишь ежедневно. Он неторопливо спускался по лестнице, но, заметив меня, перепрыгнул через последние ступеньки и подбежал ко мне, краснея от удовольствия, на что он не преминул обратить мое внимание и за что я ему отплатила с лихвой; ведь ты знаешь, что я всегда готова краснеть по любому поводу. Он спросил меня, с кем я приехала и что предполагаю делать. Он презрительно бросил: «Как! Вот с этими вы собираетесь провести день?» Но тем не менее был весьма любезен с госпожой Шевич, пожелал быть представленным ей и просил позволения сопровождать нас на вечернюю прогулку, милость, которую она ему оказала тем более охотно, что до этого не переставала твердить всем встречным (к моей великой досаде): «Боюсь, что без кавалеров мы не сможем сегодня отправиться смотреть иллюминацию. Наши кавалеры нас обманули. Не видели ли вы наших кавалеров?» – и когда у нее спрашивали: «Кого именно?» вообрази, как стыдно мне было слышать: «Пишчевича и Золотницкого». Даже и такая надежда была обманута!
После обеда из холодных блюд, который кончился в четыре часа, я содрогалась от перспективы провести часа два по меньшей мере (до начала гулянья) в душной комнатке в обществе пяти изрядно скучных женщин, но господин Бутурлин был столь сообразителен и любезен, что пришел за мной и отвел меня к своей жене; мы нежно распростились, я провела у них критическое время, а затем таскала добрейшую госпожу Шевич по всем садам. Монплезир был восхитителен, море освещено заходящим солнцем, апельсиновые деревья благоухали, оркестр играл арии из опер, а Ковалинский объяснялся в любви. Оттуда мы отправились к дворцу, чтобы послушать вечернюю зорю. Там я снова увидела кучу людей (которые теперь собирались на костюмированный бал) и опять встретила Дантеса, который уже нас больше не оставлял. Мы прихватили также вашего товарища, бедного Александра Голицына (очень грустного и подавленного неприятностями по службе), Шарля Россета, Поликарпова и пресловутого Золотницкого, который, наконец, объявился для того, чтобы предложить руку своей тетке на весь остаток вечера. Потом мы все отправились к нам пить чай (чашек и стульев хватило кое-как лишь на половину собравшихся) и в одиннадцать часов вечера двинулись в путь. Я шла под руку с Дантесом, он забавлял меня своими шутками, своей веселостью и даже смешными припадками своих чувств (как всегда, к прекрасной Натали). Но этот петергофский праздник – настоящий северный праздник, торжественный и унылый, со всеми этими людьми, которые шествуют с вытянутыми лицами, один за другим, скользят, словно тени, в гробовом молчании, без единого взрыва смеха, без единого громкого возгласа, – всё это печально. ‹…›
С.Н. и А.Н. КАРАМЗИНЫ
24-25 июля (5–6 августа) 1836 г. Царское село
С.Н. КАРАМЗИНА
24 июля/5 августа
‹…› Вышел второй номер «Современника». Говорят, что он бледен и в нем нет ни одной строчки Пушкина (которого разбранил ужасно и справедливо Булгарин, как светило, в полдень угасшее. Тяжко сознавать, что какой-то Булгарин, стремясь излить свой яд на Пушкина, не может ничем более уязвить его, как говоря правду!). Там есть несколько очень остроумных статей Вяземского, между прочим, одна по поводу «Ревизора». Но надо же быть таким беззаботным и ленивым, как Пушкин, чтобы поместить здесь же сцены из провалившейся «Тивериады» Андрея Муравьева! Тебе известно, что последний теперь камергер и совершенно счастлив этим. ‹…›
Софья Николаевна Карамзина
А.Н. КАРАМЗИН
25 июля (6 августа)
‹…› Не верь Софи в том, что она тебе говорит о «Современнике», он превосходно составлен; правда, Пушкин ничего не написал, но там есть очень хорошие статьи дядюшки и Одоевского. Пушкин собирается выпустить новый роман. ‹…›
А.Н. КАРАМЗИН
31 августа-3 сентября (12–15 сентября) 1836 г. Петербург
‹…› Вчерашний день я, как gesagt, праздновал свои именины в Царском. Обедали у нас Мещерский и Аркадий. После обеда явились Мухановы, друзья сестер; старший довольно толст и похож на умершего своего брата, он не хорош, но, видно, что эта вещь известная, очень разговорчив, весел и communicatif, младший, напротив, совершенно черт знает что такое! Худенький, гаденький, тихонький, похож страшно на приятеля нашего Толмачева, но гораздо его хуже. Они оба ехали в Москву. Старший накануне видел Пушкина, которого он нашел ужасно упадшим духом, раскаивавшимся, что написал свой мстительный пасквиль, вздыхающим по потерянной фавории публики.
Пушкин показал ему только что написанное им стихотворение, в котором он жалуется на неблагодарную и ветреную публику и напоминает свои заслуги перед ней. Муханов говорит, что эта пьеса прекрасна. Кстати, о Пушкине. Я с Вошкой и Аркадием после долгих собираний отправились вечером Натальина дня en partie de plaisir к Пушкиным на дачу Проезжая мимо иллюминированной дачи Загрядской, мы вспомнили, что у нее фурц и что Пушкины, верно, будут там. Несмотря на то, мы продолжали далекий путь и приехали pour voir la toilette de ces dames et les mettre en voiture. Apr?s avoir remis la partie deplaisir au surlendemain, nous revenons tout confus. В назначенный день мы опять отправляемся в далекий путь, опять едем в глухую, холодную ночь и почти час слушаем, как ходят ветры севера и смотрим, как там и сям мелькают в лесу далекие огни любителей дач; приехали: «Наталья Николаевна приказали извиниться, они очень нездоровы и не могут принять».
Тогда проклятия и заглушенные вопли вырвались из наших мужских грудей. Мы послали к черту всех женщин, живущих на Островах и подверженных несуразным расстройствам, и вернулись домой еще более смущенные, чем в первый раз. Этим и ограничились пока наши посещения. Не будь этого услужливого недомогания, Пушкины приехали бы в Царское провести вчерашний и позавчерашний дни. Эта помеха сделала совершенно счастливой мою нежную голубку, хотевшую в столь торжественный день моих именин царствовать без соперниц ‹…›
3 сентября.
Вчера вечером я с Володькой опять ездили к Пушкиным и было с нами оригинальнее, чем когда-нибудь. Нам сказали, что дескать дома нет, уехали в театр. Но на этот раз мы не отстали так легко от своего предприятия, взошли в комнаты, велели зажечь лампы, открыли клавикорды, пели, открыли книги, читали и таким образом провели час с четвертью. Наконец, они приехали. Поелику они в карете спали, то и пришли совершенно заспанные, Alexandrine не вышла к нам и прямо пошла лечь; Пушкин сказал два слова и пошел лечь. Две другие вышли к нам зевая и стали просить, чтобы мы уехали, потому что им хочется спать; но мы объявили, что заставим их с нами просидеть столько же, сколько мы сидели без них. В самом деле мы просидели более часа. Пушкина не могла вынести так долго, и после отвергнутых просьб о нашем отъезде она ушла первая. Но Гончарова высидела все 1
/
часов, но чуть не заснула на диване. Таким образом мы расстались, объявляя, что если впредь хотят нас видеть, то пусть присылают карету за нами. Пушкина велела тебе сказать, что она тебя целует. (Ее слова)
Александр Николаевич Карамзин
С.Н. КАРАМЗИНА
19 сентября (1 октября) 1836 г. Царское Село.
‹…› Что касается нас, дорогой Андрей, то мы живем теперь не в маленьком провинциальном городке, но в блистательной императорской резиденции. Двор здесь уже десять дней, а государь два дня назад прибыл из Москвы за тридцать шесть часов (вот как он исправляется от любви к быстрой езде после того несчастного случая). Говорят, он похудел, рука у него на перевязи, но чувствует он себя хорошо. В остальном ничто в Царском не изменилось: парк такой же пустынный, как и прежде, и прогулки столь же свободны. В минувшее воскресенье, впрочем, наше мещанское существование было совершенно нарушено: нас разбудили приглашением на вечерний бал, после чего мы отправились к обедне, где дамы в роскошных уборах, а мужчины в парадной форме (все, даже Жуковский) ожидали появления земных владык. Мы же, пришедшие туда, только чтобы поклониться владыке небесному, мы скромно спрятались в глубине церкви, в толпе царскосельских обывателей ‹…›
В понедельник у нас были Александр и Аркадий, и мы вместе смаковали твое письмо из Бадена. Вечером мы были на именинах у Шевичей, и за всё время, что мы там находились, оба молодых человека раскрыли рот лишь для того, чтобы напомнить мне, что пора отправляться восвояси; зато дома, за чаем, они болтали и смеялись, и Александр рассмешил до слез всех, даже маменьку. Во вторник мы присутствовали на очаровательном детском спектакле у Никиты Трубецкого, где меня совершенно растрогала картина любви и семейного счастья. В среду мы отдыхали и приводили в порядок дом, чтобы на другой день, день моего ангела, принять множество гостей из города; в ожидании их маменька сильно волновалась, но всё сошло очень хорошо. Обед был превосходный; среди гостей были Пушкин с женой и Гончаровыми (все три – ослепительные изяществом, красотой и невообразимыми талиями), мои братья, Дантес, А.Голицын, Аркадий и Шарль Россет (Клементия они позабыли в городе, собираясь впопыхах), Скалон, Сергей Мещерский, Поль и Надина Вяземские (тетушка осталась в Петербурге ожидать дядюшку, который еще не возвратился из Москвы) и Жуковский. Тебе нетрудно представить, что, когда дело дошло до тостов, мы не забыли выпить за твое здоровье. Послеобеденное время, проведенное в таком приятном обществе, показалось очень коротким; в девять часов пришли соседи: Лили Захаржевская, Шевичи, Ласси, Лидия Блудова, Трубецкие, графиня Строганова, княгиня Долгорукова (дочь князя Дмитрия), Клюпфели, Баратынские, Абамелек, Герсдорф, Золотницкий, Левицкий, один из князей Барятинских и граф Михаил Виельгорский, – так что получился настоящий бал, и очень веселый, если судить по лицам гостей, всех, за исключением Александра Пушкина, который всё время грустен, задумчив и чем-то озабочен. «Он своей тоской и на меня тоску наводит». Его блуждающий, дикий, рассеянный взгляд с вызывающим тревогу вниманием останавливается лишь на его жене и Дантесе, который продолжает всё те же штуки, что и прежде, – не отходя ни на шаг от Екатерины Гончаровой, он издали бросает нежные взгляды на Натали, с которой, в конце концов, всё же танцевал мазурку. Жалко было смотреть на фигуру Пушкина, который стоял напротив них, в дверях, молчаливый, бледный и угрожающий. Боже мой, как всё это глупо! Когда приехала графиня Строганова, я попросила Пушкина пойти поговорить с ней. Он было согласился, краснея (ты знаешь, что она – одно из его «отношений», и притом рабское), как вдруг вижу – он внезапно останавливается и с раздражением отворачивается. «Ну, что же?» – «Нет, не пойду, там уж сидит этот граф». – «Какой граф?» – «Д'Антес, Гекрен что ли!» Кстати, о графине Строгановой: вообрази, Скалон внушил себе, что он безумно в нее влюблен! Когда она вошла, я с ним танцевала кадриль, но вдруг чувствую, что его рука в моей руке сделалась мертвенно-холодной, я взглянула на него с удивлением, он был белее платка и от волнения не мог говорить. Потом он признался мне, что ему едва не стало дурно. Полюбуйся, вот какое действие оказывает на слабый ум тщеславие, которому потворствуют! А еще говорят, что это свойственно лишь женщинам! Она же, между тем, весьма серьезно кокетничала с Александром, но тут нашла коса на камень. В остальном же он был очень мил и много танцевал, как мне кажется, следуя твоим советам, и разговаривал надлежащим образом. Вольдемар – красивый, гордый и высокомерный – соблаговолил протанцевать несколько кадрилей и позволил себя выбрать на мазурку. Мишель Вильегорский танцевал, как сумасшедший, и был любезен до крайности. ‹…›
Андрей Николаевич Карамзин
А.Н. КАРАМЗИН
1(13) октября 1836 г. Петербург
Кто же был автором злосчастного диплома ордена Рогоносцев? Несколько раз доброхоты проводили экспертизу диплома. Называли графиню Нессельроде (дочь министра финансов Гурьева), князя Гагарина… В наше время пушкинист Леонид Аринштейн пришёл к выводу, что следы ведут к Александру Раевскому, сыну прославленного генерала. Пушкин считал его демонической личностью. Оба они в свое время ухаживали за Елизаветой Воронцовой, и поэт, по-видимому, оказался удачливее. Главный аргумент Аринштейна – оттиск сургучной печати, которая, якобы, принадлежала Раевскому. Но убедительных доказательств и в этой версии нет: оттиск внимательно рассматривали и Виельгорский, и следователи, современники Раевского. Уж они бы разгадали тайну печати точнее нашего современника, но никто не указал на Раевского…
Павел Щёголев (а вслед за ним и Вересаев) не сомневался, что автором «диплома рогоносцев» был колченогий молодой князь Пётр Долгоруков, близкий к кругу Геккерена. На эту проделку он решился, по мнению пушкиниста, из подлого озорства. Долгорукова подозревали и современники. На склоне лет он даже опубликовал своеобразную отповедь в герценовском «Колоколе».
Щёголев в предреволюционные годы собрал едва ли не все имевшиеся к тому времени документы, связанные с дуэлью Пушкина и ввел в оборот немало новых данных – например, о последней встрече Пушкина с Николаем I. Но бросалось в глаза предубеждение исследователя по отношению к жене поэта. Он нашел виновника гибели Пушкина. А точнее – виновницу. К Натали Щёголев относился как неумолимый прокурор. «Наталья Николаевна была увлечена серьёзнее, чем Дантес… доминировал в любовном поединке Дантес: его искали больше, чем искал он сам», – эта трактовка в 1916-м воспринималась как нечто сенсационное. Принято считать, что преданная супруга, «чистейшей прелести чистейший образец», отвергла ухаживания назойливого француза, позволив себе лишь мимолётное светское кокетство. Многие жрецы пушкинского святилища и сегодня считают кощунственными любые подозрения в адрес Натали. Так строптивый пушкинист заслужил репутацию женоненавистника. У него нашлись последователи, в том числе знаменитые. «До крайних пределов осуждения и обвинения жены Пушкина дошла Анна Ахматова», – писал академик Дмитрий Благой.
Когда в 1987 году в издательстве «Книга» затевалось переиздание книги Щёголева массовым тиражом, в прессе появилось открытое письмо, подписанное знаменитыми писателями и пушкинистами. Леонид Леонов, Юрий Бондарев, Семён Гейченко, Николай Скатов – все они выступили против щёголевской книги: «Ещё в двадцатых годах чрезвычайно субъективный взгляд Щеголева на семейные отношения Пушкиных был ошибочно принят некоторыми талантливыми литераторами за абсолютную истину и внёс такое смятение в умы, что многим и многим писателям, ученым, исследователям биографии поэта стоило большого труда в течение десятилетий отстоять доброе имя самого близкого Пушкину человека, его дорогого друга, любимой женщины, матери его детей – Наталии Николаевны». Остановить переиздание не удалось. Но тираж, под давлением общественности, сократили. Вычеркнуть Щёголева из контекста не удалось. Парвеню? Возможно. Зато – труженик пушкинистики.
Викентий Вересаев первым попытался воспроизвести жизнь Пушкина день за днём – и получилось не только капитальное исследование, но и увлекательное чтение. Его «Пушкин в жизни» и «Спутники Пушкина» – из тех книг, о которых поначалу спорят не без высокомерия, но через десятилетие – другое мало кто сомневается, что это – классика. Вслед за Щёголевым, Вересаев неприязненно относился к Наталье Николаевне и намекал на её «особые отношения» с императором – в том числе и после гибели Пушкина. Ведь её новый муж Ланской вполне годился в Нарышкины, хотя и не удостоился диплома…
Академик Юрий Лотман первым в печати объяснил скандальные приставания Дантеса к жене Пушкина желанием устранить порочащие его слухи о гомосексуальной связи со своим приёмным отцом – бароном Геккерном. Речь пошла даже о некоем «заговоре мужеложцев» против Пушкина, который к тому времени успел испортить отношения и с Михаилом Дондуковым-Корсаковым, и с министром Сергеем Уваровым, былым приятелем по литературным собраниям… Лотман считал вероятным сговор между Уваровым и Геккереном. Уваров когда-то основал литературное общество «Арзамас», построенное на розыгрышах и мистификациях. Ему бы хватило фантазии на «диплом ордена рогоносцев». Недурная месть за оскорбительные эпиграммы. «Пушкин защищал свой Дом, свою святыню, на которой основано „самостоянье человека“, от низости, коварства и разврата», – писал Лотман.
Возмутителем спокойствия служил в пушкинистике Александр Лацис, разработавший гипотезу о неизлечимой болезни, которая сжигала поэта несколько лет. По этой версии, именно из-за тяжкого недуга Пушкин выбрал дуэль как завуалированную форму самоубийства. Система доказательств построена на одном допущении: Пушкин с юности был склонен к мистификациям, слова в простоте не сказал. И всё-таки не только у Лациса, но и у менее эксцентричных исследователей сквозит: Пушкин как будто стремился к поединку, чтобы разом разделаться со всеми напастями. Против этой версии – жизнелюбие поэта. Его литературные планы. Он ещё не утвердил себя в полной мере как историограф и прозаик. В его кабинете осталась вереница незавершённых «пиес» – да каких.
Историк московской Руси Руслан Скрынников, как и подобает петербуржцу, много лет исследовал историю дуэли Пушкина, искал документы, анализировал версии, в том числе переписку Дантеса с приемным отцом, которая оставалась неизвестной во времена Щёголева. В итоге получилась книга не только насыщенная фактами и версиями, но и литературно отточенная. Скрынников не верил в суицидальные настроения Пушкина – любящего многодетного отца. Историк полагал, что пресловутый «диплом» Пушкину без дальнего прицела послали молодые озорники – князь Пётр Урусов, корнет Константин Опочинин. Они развлекались таким образом и с другими мужьями, о которых судачили в свете. Скрынников назвал и главную причину дуэли – слух о сожительстве Пушкина с Александриной. Распускал слухи кавалергард Александр Трубецкой – фаворит императрицы, входивший в круг Геккерена. Щёголев считал этот мотив третьестепенным.
Пушкинист Андрей Лисунов высказал предположение, что автором рокового ордена рогоносцев был… сам Александр Сергеевич, великий мистификатор. Таким образом он стремился сделать необратимым cмертельный поединок с обидчиком. Еще дальше пошёл академик Николай Петраков – известный экономист, директор института Проблем рынка, всю жизнь мечтавший стать пушкиноведом. Он не сомневался, что император Николай I влюбился в Наталью Николаевну не менее серьезно, чем его старший брат – в Нарышкину. Ведь до последнего часа император носил портрет Натали в медальоне… Где тут кончается легенда и начинается документ? И не разберешь.
Зёрна всех версий – даже самых невероятных – можно найти в пересудах современников Пушкина – Вяземского, Хомякова, Тургенева, Жуковского… А непреложной правды не ждите – будущие исследователи продолжат череду тайн и предположений.
Эта книга – достойное приношение памяти великого поэта и собрание документов почти детективной истории, о которой каждый из участников имеет собственное мнение, каждый создает собственный сценарий. Последний год жизни Пушкина – вечная загадка. На кого мог опереться поэт, попавший в омут чудовищной интриги? В советское время в научный оборот вошла переписка Карамзиных – семейства, близкого к Пушкину и искушенного в придворной и литературной жизни. Она проливает свет на контекст гибели поэта. Не менее интересна позиция Петра Вяземского, который считал себя одним из виновников гибели Пушкина и в первые дни после дуэли, с помощью супруги, написал послание императору, в котором описал события в благоприятном для себя ключе. Вы увидите и другие свидетельства, исследования, версии, которые достойны внимания, а в сумме дают объективное представление об одном из самых трагических событий в истории России.
Только один участник давней интриги ничего не написал о ней – Александр Пушкин. Поэтому так трудно приоткрыть правду тех событий. Книга, которую вы держите в руках, поможет в этом.
Арсений Замостьянов,
заместитель главного редактора журнала «Историк»
Екатерина Андреевна, Софья Николаевна, Александр Николаевич и Андрей Николаевич Карамзины
Из переписки 1836–1837 годов
Из писем к Андрею Карамзину
Николай Карамзин
С.Н. КАРАМЗИНА
8/20 июля 1836 г. Царское Село.
В самом деле, господин Андрей, вы скверный, вы негодный мальчишка ‹…› Вот уже две недели мы не имеем никаких известий о вашей чрезмерно нами любимой особе. Вы совсем не заслуживаете, чтобы вам писали; поэтому я сделаю это как можно более кратко и лишь для того, чтобы сообщить тебе о петергофском празднике. Иначе, если я стану ждать твоего письма, чтобы прийти снова в хорошее настроение, он станет древней историей.
Я отправилась на этот праздник с госпожей Шевич. Погода была божественная, что явилось неожиданностью в конце самого холодного, самого сырого и унылого дня, какой только можно себе представить, словно для того, чтобы показать, что необыкновенному счастью государя ничто не противодействует и даже стихии никогда его не расстраивают. Утро, начавшееся в восемь часов, прошло для меня весьма тоскливо, среди довольно скучного общества, которое прогуливалось черепашьим шагом по аллеям, еще пустынным, вероятно, по причине вчерашней ужасной погоды. Единственный приятный момент был, когда всё общество спустилось в сад, чтобы затем, после представления государю, вереницами проследовать назад. Там я встретила почти всех наших друзей и знакомых, в том числе Вяземского (довольно веселого в своем придворном мундире, который он, наконец, решился надеть), Одоевских (он, сделанный камергером, она вся в розовом, с палевыми цветами на шляпе, сильно похудевшая и почти красивая), Надину Соллогуб (она уезжает одиннадцатого числа за границу со своей теткой, проведет там более года, зимой, возможно, отправится в Италию, а сейчас прямо в Баден-Баден, где надеется увидеть тебя и где также находится госпожа Смирнова; бедный Андрей, береги свое сердце), Опочининых и Люцероде (которые просили передать тебе множество приветов), Бутурлиных (которые уезжают 25-го; Лиза была очаровательна в венке из палевых роз) и Дантеса, увидеть которого, признаюсь, мне было очень приятно. По-видимому, сердце всегда немножко привыкает к тем, кого видишь ежедневно. Он неторопливо спускался по лестнице, но, заметив меня, перепрыгнул через последние ступеньки и подбежал ко мне, краснея от удовольствия, на что он не преминул обратить мое внимание и за что я ему отплатила с лихвой; ведь ты знаешь, что я всегда готова краснеть по любому поводу. Он спросил меня, с кем я приехала и что предполагаю делать. Он презрительно бросил: «Как! Вот с этими вы собираетесь провести день?» Но тем не менее был весьма любезен с госпожой Шевич, пожелал быть представленным ей и просил позволения сопровождать нас на вечернюю прогулку, милость, которую она ему оказала тем более охотно, что до этого не переставала твердить всем встречным (к моей великой досаде): «Боюсь, что без кавалеров мы не сможем сегодня отправиться смотреть иллюминацию. Наши кавалеры нас обманули. Не видели ли вы наших кавалеров?» – и когда у нее спрашивали: «Кого именно?» вообрази, как стыдно мне было слышать: «Пишчевича и Золотницкого». Даже и такая надежда была обманута!
После обеда из холодных блюд, который кончился в четыре часа, я содрогалась от перспективы провести часа два по меньшей мере (до начала гулянья) в душной комнатке в обществе пяти изрядно скучных женщин, но господин Бутурлин был столь сообразителен и любезен, что пришел за мной и отвел меня к своей жене; мы нежно распростились, я провела у них критическое время, а затем таскала добрейшую госпожу Шевич по всем садам. Монплезир был восхитителен, море освещено заходящим солнцем, апельсиновые деревья благоухали, оркестр играл арии из опер, а Ковалинский объяснялся в любви. Оттуда мы отправились к дворцу, чтобы послушать вечернюю зорю. Там я снова увидела кучу людей (которые теперь собирались на костюмированный бал) и опять встретила Дантеса, который уже нас больше не оставлял. Мы прихватили также вашего товарища, бедного Александра Голицына (очень грустного и подавленного неприятностями по службе), Шарля Россета, Поликарпова и пресловутого Золотницкого, который, наконец, объявился для того, чтобы предложить руку своей тетке на весь остаток вечера. Потом мы все отправились к нам пить чай (чашек и стульев хватило кое-как лишь на половину собравшихся) и в одиннадцать часов вечера двинулись в путь. Я шла под руку с Дантесом, он забавлял меня своими шутками, своей веселостью и даже смешными припадками своих чувств (как всегда, к прекрасной Натали). Но этот петергофский праздник – настоящий северный праздник, торжественный и унылый, со всеми этими людьми, которые шествуют с вытянутыми лицами, один за другим, скользят, словно тени, в гробовом молчании, без единого взрыва смеха, без единого громкого возгласа, – всё это печально. ‹…›
С.Н. и А.Н. КАРАМЗИНЫ
24-25 июля (5–6 августа) 1836 г. Царское село
С.Н. КАРАМЗИНА
24 июля/5 августа
‹…› Вышел второй номер «Современника». Говорят, что он бледен и в нем нет ни одной строчки Пушкина (которого разбранил ужасно и справедливо Булгарин, как светило, в полдень угасшее. Тяжко сознавать, что какой-то Булгарин, стремясь излить свой яд на Пушкина, не может ничем более уязвить его, как говоря правду!). Там есть несколько очень остроумных статей Вяземского, между прочим, одна по поводу «Ревизора». Но надо же быть таким беззаботным и ленивым, как Пушкин, чтобы поместить здесь же сцены из провалившейся «Тивериады» Андрея Муравьева! Тебе известно, что последний теперь камергер и совершенно счастлив этим. ‹…›
Софья Николаевна Карамзина
А.Н. КАРАМЗИН
25 июля (6 августа)
‹…› Не верь Софи в том, что она тебе говорит о «Современнике», он превосходно составлен; правда, Пушкин ничего не написал, но там есть очень хорошие статьи дядюшки и Одоевского. Пушкин собирается выпустить новый роман. ‹…›
А.Н. КАРАМЗИН
31 августа-3 сентября (12–15 сентября) 1836 г. Петербург
‹…› Вчерашний день я, как gesagt, праздновал свои именины в Царском. Обедали у нас Мещерский и Аркадий. После обеда явились Мухановы, друзья сестер; старший довольно толст и похож на умершего своего брата, он не хорош, но, видно, что эта вещь известная, очень разговорчив, весел и communicatif, младший, напротив, совершенно черт знает что такое! Худенький, гаденький, тихонький, похож страшно на приятеля нашего Толмачева, но гораздо его хуже. Они оба ехали в Москву. Старший накануне видел Пушкина, которого он нашел ужасно упадшим духом, раскаивавшимся, что написал свой мстительный пасквиль, вздыхающим по потерянной фавории публики.
Пушкин показал ему только что написанное им стихотворение, в котором он жалуется на неблагодарную и ветреную публику и напоминает свои заслуги перед ней. Муханов говорит, что эта пьеса прекрасна. Кстати, о Пушкине. Я с Вошкой и Аркадием после долгих собираний отправились вечером Натальина дня en partie de plaisir к Пушкиным на дачу Проезжая мимо иллюминированной дачи Загрядской, мы вспомнили, что у нее фурц и что Пушкины, верно, будут там. Несмотря на то, мы продолжали далекий путь и приехали pour voir la toilette de ces dames et les mettre en voiture. Apr?s avoir remis la partie deplaisir au surlendemain, nous revenons tout confus. В назначенный день мы опять отправляемся в далекий путь, опять едем в глухую, холодную ночь и почти час слушаем, как ходят ветры севера и смотрим, как там и сям мелькают в лесу далекие огни любителей дач; приехали: «Наталья Николаевна приказали извиниться, они очень нездоровы и не могут принять».
Тогда проклятия и заглушенные вопли вырвались из наших мужских грудей. Мы послали к черту всех женщин, живущих на Островах и подверженных несуразным расстройствам, и вернулись домой еще более смущенные, чем в первый раз. Этим и ограничились пока наши посещения. Не будь этого услужливого недомогания, Пушкины приехали бы в Царское провести вчерашний и позавчерашний дни. Эта помеха сделала совершенно счастливой мою нежную голубку, хотевшую в столь торжественный день моих именин царствовать без соперниц ‹…›
3 сентября.
Вчера вечером я с Володькой опять ездили к Пушкиным и было с нами оригинальнее, чем когда-нибудь. Нам сказали, что дескать дома нет, уехали в театр. Но на этот раз мы не отстали так легко от своего предприятия, взошли в комнаты, велели зажечь лампы, открыли клавикорды, пели, открыли книги, читали и таким образом провели час с четвертью. Наконец, они приехали. Поелику они в карете спали, то и пришли совершенно заспанные, Alexandrine не вышла к нам и прямо пошла лечь; Пушкин сказал два слова и пошел лечь. Две другие вышли к нам зевая и стали просить, чтобы мы уехали, потому что им хочется спать; но мы объявили, что заставим их с нами просидеть столько же, сколько мы сидели без них. В самом деле мы просидели более часа. Пушкина не могла вынести так долго, и после отвергнутых просьб о нашем отъезде она ушла первая. Но Гончарова высидела все 1
/
часов, но чуть не заснула на диване. Таким образом мы расстались, объявляя, что если впредь хотят нас видеть, то пусть присылают карету за нами. Пушкина велела тебе сказать, что она тебя целует. (Ее слова)
Александр Николаевич Карамзин
С.Н. КАРАМЗИНА
19 сентября (1 октября) 1836 г. Царское Село.
‹…› Что касается нас, дорогой Андрей, то мы живем теперь не в маленьком провинциальном городке, но в блистательной императорской резиденции. Двор здесь уже десять дней, а государь два дня назад прибыл из Москвы за тридцать шесть часов (вот как он исправляется от любви к быстрой езде после того несчастного случая). Говорят, он похудел, рука у него на перевязи, но чувствует он себя хорошо. В остальном ничто в Царском не изменилось: парк такой же пустынный, как и прежде, и прогулки столь же свободны. В минувшее воскресенье, впрочем, наше мещанское существование было совершенно нарушено: нас разбудили приглашением на вечерний бал, после чего мы отправились к обедне, где дамы в роскошных уборах, а мужчины в парадной форме (все, даже Жуковский) ожидали появления земных владык. Мы же, пришедшие туда, только чтобы поклониться владыке небесному, мы скромно спрятались в глубине церкви, в толпе царскосельских обывателей ‹…›
В понедельник у нас были Александр и Аркадий, и мы вместе смаковали твое письмо из Бадена. Вечером мы были на именинах у Шевичей, и за всё время, что мы там находились, оба молодых человека раскрыли рот лишь для того, чтобы напомнить мне, что пора отправляться восвояси; зато дома, за чаем, они болтали и смеялись, и Александр рассмешил до слез всех, даже маменьку. Во вторник мы присутствовали на очаровательном детском спектакле у Никиты Трубецкого, где меня совершенно растрогала картина любви и семейного счастья. В среду мы отдыхали и приводили в порядок дом, чтобы на другой день, день моего ангела, принять множество гостей из города; в ожидании их маменька сильно волновалась, но всё сошло очень хорошо. Обед был превосходный; среди гостей были Пушкин с женой и Гончаровыми (все три – ослепительные изяществом, красотой и невообразимыми талиями), мои братья, Дантес, А.Голицын, Аркадий и Шарль Россет (Клементия они позабыли в городе, собираясь впопыхах), Скалон, Сергей Мещерский, Поль и Надина Вяземские (тетушка осталась в Петербурге ожидать дядюшку, который еще не возвратился из Москвы) и Жуковский. Тебе нетрудно представить, что, когда дело дошло до тостов, мы не забыли выпить за твое здоровье. Послеобеденное время, проведенное в таком приятном обществе, показалось очень коротким; в девять часов пришли соседи: Лили Захаржевская, Шевичи, Ласси, Лидия Блудова, Трубецкие, графиня Строганова, княгиня Долгорукова (дочь князя Дмитрия), Клюпфели, Баратынские, Абамелек, Герсдорф, Золотницкий, Левицкий, один из князей Барятинских и граф Михаил Виельгорский, – так что получился настоящий бал, и очень веселый, если судить по лицам гостей, всех, за исключением Александра Пушкина, который всё время грустен, задумчив и чем-то озабочен. «Он своей тоской и на меня тоску наводит». Его блуждающий, дикий, рассеянный взгляд с вызывающим тревогу вниманием останавливается лишь на его жене и Дантесе, который продолжает всё те же штуки, что и прежде, – не отходя ни на шаг от Екатерины Гончаровой, он издали бросает нежные взгляды на Натали, с которой, в конце концов, всё же танцевал мазурку. Жалко было смотреть на фигуру Пушкина, который стоял напротив них, в дверях, молчаливый, бледный и угрожающий. Боже мой, как всё это глупо! Когда приехала графиня Строганова, я попросила Пушкина пойти поговорить с ней. Он было согласился, краснея (ты знаешь, что она – одно из его «отношений», и притом рабское), как вдруг вижу – он внезапно останавливается и с раздражением отворачивается. «Ну, что же?» – «Нет, не пойду, там уж сидит этот граф». – «Какой граф?» – «Д'Антес, Гекрен что ли!» Кстати, о графине Строгановой: вообрази, Скалон внушил себе, что он безумно в нее влюблен! Когда она вошла, я с ним танцевала кадриль, но вдруг чувствую, что его рука в моей руке сделалась мертвенно-холодной, я взглянула на него с удивлением, он был белее платка и от волнения не мог говорить. Потом он признался мне, что ему едва не стало дурно. Полюбуйся, вот какое действие оказывает на слабый ум тщеславие, которому потворствуют! А еще говорят, что это свойственно лишь женщинам! Она же, между тем, весьма серьезно кокетничала с Александром, но тут нашла коса на камень. В остальном же он был очень мил и много танцевал, как мне кажется, следуя твоим советам, и разговаривал надлежащим образом. Вольдемар – красивый, гордый и высокомерный – соблаговолил протанцевать несколько кадрилей и позволил себя выбрать на мазурку. Мишель Вильегорский танцевал, как сумасшедший, и был любезен до крайности. ‹…›
Андрей Николаевич Карамзин
А.Н. КАРАМЗИН
1(13) октября 1836 г. Петербург