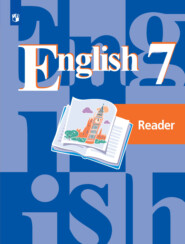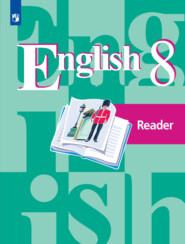По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Последний год Пушкина. Карамзины, дуэль, гибель
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
С.Н. КАРАМЗИНА
27 января (8 февраля) 1837 г. Петербург
‹…› В воскресенье у Катрин было большое собрание без танцев: Пушкины, Геккерны (которые продолжают разыгрывать свою сентиментальную комедию к удовольствию общества. Пушкин скрежещет зубами и принимает свое всегдашнее выражение тигра, Натали опускает глаза и краснеет под жарким и долгим взглядом своего зятя, – это начинает становиться чем-то большим обыкновенной безнравственности; Катрин направляет на них обоих свой ревнивый лорнет, а чтобы ни одной из них не оставаться без своей роли в драме, Александрина по всем правилам кокетничает с Пушкиным, который серьезно в нее влюблен и если ревнует свою жену из принципа, то свояченицу – по чувству. В общем всё это очень странно, и дядюшка Вяземский утверждает, что он закрывает свое лицо и отвращает его от дома Пушкиных). Потом там были все милые Россеты и Аркадий, который любит тебя, как брата, – поэтому и я люблю его всё больше с каждым разом, когда мы получаем твои письма, – Тургенев и Вильегорский, который, будучи немного навеселе, говорил, пел и, наконец, стал исполнять китайский танец (ты знаешь, что при дворе устроен китайский балет, и он там состоит главным балетмейстером). В понедельник я была на большом балу в честь принца Карла у Мятлевых: четыреста человек в великолепном зале, где можно было свободно двигаться. Зато вчера, во вторник, то же количество гостей у графини Разумовской в очень маленькой и очень хорошенькой гостиной: мне представляется, что так должны устраиваться балы в Париже. Александр удрал на другой этаж, где он проклинал меня за то, что я осталась на мазурку, потому что он отослал свои сани и не мог уехать, а добрая госпожа Шевич любезно ждала меня до трех часов утра! Впрочем, Александр утешился под конец превосходной ветчиной и тысячью авансов графини Строгановой, с которой он обращается необычайно дерзко. Вчера я слышала их разговор и содрогалась от его безрассудно-дерзкого бреда; он говорит, сам не зная что, не слушая ее ответов, и всё это с таким уверенным, развязным тоном, что я не понимаю, как она не покажет ему спину. Великая княгиня Елена была тоже на этом балу, она не танцевала, немного беседовала с умными людьми, подобными Баранту, Виельгорскому, Либерману и прочим ‹…›
Е.А. и С.Н. КАРАМЗИНЫ
30 января (11 февраля) 1837 г. Петербург
Е.А. КАРАМЗИНА
Samedi le 30 janvier 1837. Pеtersb‹ourg›.
Милый Андрюша, пишу к тебе с глазами, наполненными слез, а сердце и душа тоскою и горестию; закатилась звезда светлая. Россия потеряла Пушкина! Он дрался в середу на дуэли с Дантезом, и он прострелил его насквозь; Пушкин бессмертный жил два дни, а вчерась, в пятницу, отлетел от нас; я имела горькую сладость проститься с ним в четверг; он сам этого пожелал. Ты можешь вообразить мои чувства в эту минуту, особливо, когда узнаешь, что Арнд с перьвой минуты сказал, что никакой надежды нет! Он протянул мне руку, я ее пожала, и он мне также, и потом махнул, чтобы я вышла. Я, уходя, осенила его издали крестом, он опять мне протянул руку и сказал тихо: «перекрестите еще», тогда я опять, пожавши еще раз его руку, я уже его перекрестила, прикладывая пальцы на лоб, и приложила руку к щеке: он ее тихонько поцеловал и опять махнул. Он был бледен как полотно, но очень хорош; спокойствие выражалось на его прекрасном лице. Других подробностей не хочу писать, отчего и почему это великое нещастие случилось: они мне противны; Сонюшка тебе их опишет. А мне жаль тебя; я знаю и чувствую, сколько тебя эта весть огорчит; потеря для России, но еще особенно наша; он был жаркий почитатель твоего отца и наш неизменный друг двадцать лет.
Прилагаю к этому письму копию с векселя, посланного Киршбауму: в том случае, если вы его не отыскали, вы предъявите банкиру эту копию, а если она окажется ненужной, ты ее также ему передай. Прощай, мой дорогой Андрей, мой дорогой сын.
Дуэли ужасны! А что они доказывают? Бедного Пушкина нет больше! А через два года никто из оставшихся не будет и думать об этом. Пусть охранит тебя от них небо, и пусть твое доброе сердце и разум тебя от них отдалят! Прижимаю тебя к сердцу, опечаленному и страдающему, жалея тебя, потому что перенесу те же чувства в твое сердце. Благословляю тебя с любовью, поручая тебя милости господней. Я чувствую себя вполне хорошо.
А.А. Козлов. Пушкин на смертном одре
С.Н. КАРАМЗИНА
А я-то так легко говорила тебе об этой горестной драме в прошлую среду, в тот день, даже в тот самый час, когда совершалась ужасная ее развязка! Бедный, бедный Пушкин! Сколько должен был он выстрадать за эти три месяца, с тех пор, как получил гнусное анонимное письмо, – причину, по крайней мере наружную, этого великого несчастья. Сказать тебе, что в точности вызвало дуэль теперь, когда женитьба Дантеса, казалось, сделала ее невозможной, – об этом никто ничего не знает. Считают, что на балу у Воронцовых, в прошлую субботу, раздражение Пушкина дошло до предела, когда он увидел, что его жена беседовала, смеялась и вальсировала с Дантесом. А эта неосторожная не побоялась встретиться с ним опять, в воскресенье у Мещерских и в понедельник у Вяземских! Уезжая от них, Пушкин сказал тетушке: «Он не знает, что его ожидает дома!» То было письмо Геккерну-отцу, оскорбительное сверх всякой меры, он называл его, отца, старой сводней (тот в самом деле исполнял такую роль), а сына – подлецом, трусом, осмелившимся и после своей женитьбы обращаться вновь к госпоже Пушкиной с казарменными речами и с гнусными объяснениями в любви, и грозил, если этого оскорбления будет недостаточно, оскорбить его публично на балу. Тогда Дантес послал к нему некоего господина д'Аршиака, из французского посольства, своего секунданта, чтобы передать ему вызов; это было во вторник утром, а вечером, на балу у графини Разумовской, я видела Пушкина в последний раз; он был спокоен, смеялся, разговаривал, шутил, он несколько судорожно сжал мне руку, но я не обратила внимания на это.
В среду утром он поехал приглашать в секунданты своего товарища по лицею Данзаса; встретив его на улице, усадил в себе в сани, тут же объяснил в чем дело, и они отправились драться на парголовскую дорогу, близ дачи Одоевских, между четырьмя и пятью часами. Там, говорят, Пушкин проявил великолепное спокойствие и настойчивость. Дантес стрелял первым и попал ему в середину тела, он упал, а когда тот бросился к нему, чтобы поддержать его, он закричал: «Вернитесь на место, за мной еще выстрел!» Его приподняли и поддержали; так как первый пистолет выпал из его руки в снег, Данзас подал ему другой; он долго целился; пуля пробила руку Дантеса, но только в мягких частях, и остановилась против желудка – пуговица на сюртуке предохранила его и он получил только легкую контузию в грудь; но в первый момент он зашатался и упал. Тогда Пушкин подбросил свой пистолет в воздух с возгласом: «браво!» Затем, видя, что Дантес поднялся и пошел, он сказал: «А! значит поединок наш не окончен!» Он был окончен, но Пушкин был убежден, что ранен только в бедро. По дороге домой тряска кареты причиняла ему боль во внутренностях. Тогда он сказал Данзасу: «Кажется, это серьезно. Послушай: если Арендт найдет мою рану смертельной, ты мне об этом скажешь! Меня не испугаешь: я жить не хочу!» Приехав домой, он увидел жену и сказал ей: «Как я рад, что еще вижу тебя и могу обнять! Что бы ни случилось, ты ни в чем не виновата и не должна себя упрекать, моя милая!»
Арендт сразу объявил, что рана безнадежна, так как перебиты большая артерия и вены, кровь излилась внутрь и повреждены кишки. Пушкин выслушал этот приговор с невозмутимым спокойствием и с улыбкой на устах; он причастился, попрощался; он сохранял полное сознание, он наблюдал отчетливо, как угасала его прекрасная жизнь. Он получил от государя полное участия письмо, с советом умереть христианином и быть спокойным за судьбу жены и детей, заботу о которых государь брал на себя. Он немного страдал, он был неизменно ласков со своей бедной женой и за пять минут до смерти сказал врачу: «Что, кажется, жизнь кончается!» Без всякой агонии он закрыл глаза, и ничто не может быть прекраснее его лица после смерти: чело ясное, задумчивое, словно вдохновенное, и улыбающийся рот. Я никогда не видала такого чистого, такого утешительного и такого поэтического мертвого лица. Его несчастная жена в ужасном состоянии и почти невменяема, да это и понятно. Страшно об ней подумать. Прощай, мой дорогой Андрей, обнимаю тебя очень нежно.
Софи
Е.А. КАРАМЗИНА
1(13) февраля 1837 г. Петербург
Добрый вечер, мой дорогой друг, я пишу тебе наскоро эти строки, а гостиная моя полна народу ‹…› Записку мою Тургенев передаст д'Аршиаку, которого отсылают в качестве курьера после этой злополучной истории с несчастным Пушкиным; если ты с ним где-нибудь встретишься, то сможешь узнать подробности об этом роковом поединке. Он тебе привезет также маленький томик – новое издание «Онегина», по-моему, очень изящное, которое сейчас, я думаю, доставит тебе удовольствие. С почтой, отправляющейся в среду, я тебе напишу побольше и пошлю денег. ‹…›
Е.А. и С.Н. КАРАМЗИНЫ
2(14) февраля 1837 г. Петербург
Е.А. КАРАМЗИНА
Здравствуй, мой милый, дорогой Андрей, вчера вечером я нацарапала тебе, бог знает как, несколько строк, чтобы успеть отослать их, вместе с томиком «Онегина», с д'Аршиаком, который, должно быть, уехал сегодня утром; Тургенев, взявшийся отнести пакет, ужасно меня торопил.‹…›
Вчера состоялось отпевание бедного, дорогого Пушкина; его смертные останки повезут в монастырь около их псковского имения, где погребены все Ганнибалы: он хотел непременно лежать там же. Государь вел себя по отношению к нему и ко всему его семейству, как ангел. После истории со своей первой дуэлью П‹ушкин› обещал государю больше не драться ни под каким предлогом, и теперь, когда он был смертельно ранен, он послал доброго Жуков‹ского› просить прощения у гос‹ударя› в том, что он не сдержал слова, и государь написал ему карандашом записку в таких выражениях; «Если судьба нас уже более в сем мире не сведет, то прими мое последнее и совершенное прощение и последний совет: умереть христианином! Что касается до жены и детей твоих, то можешь быть спокоен, я беру на себя устроить их судьбу». Когда В‹асилий› А‹ндреевич› Ж‹уковский› просил г‹осуда›ря во второй раз быть секретарем его для Пушкина, как он был для Карамзина, г‹осуда›рь призвал В‹асилия› А‹ндреевича› и сказал ему: «Послушай, братец, я всё сделаю для П‹ушкина›, что могу, но писать как к Карам‹зину› не стану; П‹ушкина› мы насило заставили умереть, как христианина, а Карамз‹ин› жил и умер, как ангел». Что может быть справедливее, тоньше, благороднее по мысли и по чувству, чем та своего рода ступень, которую он поставил между этими двумя лицами? Мне хотелось самой сообщить тебе все эти подробности, хотя я и боюсь, что не сумела сделать это так хорошо, как Софи, но сердце мое было ими переполнено ‹…›
С.Н. КАРАМЗИНА
О да, мой милый Андрей, письмо твое интереснее, чем когда-либо, и, вообрази, чтобы прочесть его, мне пришлось ждать следующего дня, так много было у нас целый день в воскресенье народу, а вечером мы ходили на панихиду по нашем бедном Пушкине. Трогательно было видеть толпу, которая стремилась поклониться его телу. В этот день, говорят, там перебывало более двадцати тысяч человек: чиновники, офицеры, купцы, все с благоговейном молчании, с умилением, особенно отрадным для его друзей. Один из этих никому не известных людей сказал Россету: «Видите ли, Пушкин ошибался, когда думал, что потерял свою народность: она вся тут, но он ее искал не там, где сердца ему отвечали». Другой, старик, поразил Жуковского глубоким вниманием, с которым он долго смотрел на лицо Пушкина, уже сильно изменившееся, он даже сел напротив и просидел неподвижно четверть часа, а слезы текли у него по лицу, потом он встал и пошел к выходу; Жуковский послал за ним, чтобы узнать его имя. «Зачем вам, – ответил он, – Пушкин меня не знал, и я его не видал никогда, но мне грустно за славу России». И вообще это второе общество проявляет столько увлечения, столько сожаления, столько сочувствия, что душа Пушкина должна радоваться, если только хоть какой-нибудь отзвук земной жизни доходит туда, где он сейчас; среди молодежи этого второго общества подымается даже волна возмущения против его убийцы, раздаются угрозы и крики негодования; между тем в нашем обществе у Дантеса находится немало защитников, а у Пушкина – и это куда хуже и непонятней – немало злобных обвинителей. Их отнюдь не смягчили адские страдания, которые в течение трех месяцев терзали его пламенную душу, к несчастью, слишком чувствительную к обидам этого презренного света, и за которые он отомстил в конце концов лишь самому себе: умереть в тридцать семь лет, и с таким трогательным, с таким прекрасным спокойствием! Я рада, что Дантес совсем не пострадал и что раз уже Пушкину суждено было стать жертвой, он стал жертвой единственной: ему выпала самая прекрасная роль, и те, кто осмеливаются теперь на него нападать, сильно походят на палачей.
В субботу вечером я видела несчастную Натали; не могу передать тебе, какое раздирающее душу впечатление она на меня произвела: настоящий призрак, и при этом взгляд ее блуждал, а выражение лица было столь невыразимо жалкое, что на нее невозможно было смотреть без сердечной боли. Она тотчас же меня спросила: «Вы видели лицо моего мужа сразу после смерти? У него было такое безмятежное выражение, лоб его был так спокоен, а улыбка такая добрая! – не правда ли, это было выражение счастья, удовлетворенности? Он увидел, что там хорошо». Потом она стала судорожно рыдать, вся содрогаясь при этом. Бедное, жалкое творенье! И как хороша даже в таком состоянии!
27 января (8 февраля) 1837 г. Петербург
‹…› В воскресенье у Катрин было большое собрание без танцев: Пушкины, Геккерны (которые продолжают разыгрывать свою сентиментальную комедию к удовольствию общества. Пушкин скрежещет зубами и принимает свое всегдашнее выражение тигра, Натали опускает глаза и краснеет под жарким и долгим взглядом своего зятя, – это начинает становиться чем-то большим обыкновенной безнравственности; Катрин направляет на них обоих свой ревнивый лорнет, а чтобы ни одной из них не оставаться без своей роли в драме, Александрина по всем правилам кокетничает с Пушкиным, который серьезно в нее влюблен и если ревнует свою жену из принципа, то свояченицу – по чувству. В общем всё это очень странно, и дядюшка Вяземский утверждает, что он закрывает свое лицо и отвращает его от дома Пушкиных). Потом там были все милые Россеты и Аркадий, который любит тебя, как брата, – поэтому и я люблю его всё больше с каждым разом, когда мы получаем твои письма, – Тургенев и Вильегорский, который, будучи немного навеселе, говорил, пел и, наконец, стал исполнять китайский танец (ты знаешь, что при дворе устроен китайский балет, и он там состоит главным балетмейстером). В понедельник я была на большом балу в честь принца Карла у Мятлевых: четыреста человек в великолепном зале, где можно было свободно двигаться. Зато вчера, во вторник, то же количество гостей у графини Разумовской в очень маленькой и очень хорошенькой гостиной: мне представляется, что так должны устраиваться балы в Париже. Александр удрал на другой этаж, где он проклинал меня за то, что я осталась на мазурку, потому что он отослал свои сани и не мог уехать, а добрая госпожа Шевич любезно ждала меня до трех часов утра! Впрочем, Александр утешился под конец превосходной ветчиной и тысячью авансов графини Строгановой, с которой он обращается необычайно дерзко. Вчера я слышала их разговор и содрогалась от его безрассудно-дерзкого бреда; он говорит, сам не зная что, не слушая ее ответов, и всё это с таким уверенным, развязным тоном, что я не понимаю, как она не покажет ему спину. Великая княгиня Елена была тоже на этом балу, она не танцевала, немного беседовала с умными людьми, подобными Баранту, Виельгорскому, Либерману и прочим ‹…›
Е.А. и С.Н. КАРАМЗИНЫ
30 января (11 февраля) 1837 г. Петербург
Е.А. КАРАМЗИНА
Samedi le 30 janvier 1837. Pеtersb‹ourg›.
Милый Андрюша, пишу к тебе с глазами, наполненными слез, а сердце и душа тоскою и горестию; закатилась звезда светлая. Россия потеряла Пушкина! Он дрался в середу на дуэли с Дантезом, и он прострелил его насквозь; Пушкин бессмертный жил два дни, а вчерась, в пятницу, отлетел от нас; я имела горькую сладость проститься с ним в четверг; он сам этого пожелал. Ты можешь вообразить мои чувства в эту минуту, особливо, когда узнаешь, что Арнд с перьвой минуты сказал, что никакой надежды нет! Он протянул мне руку, я ее пожала, и он мне также, и потом махнул, чтобы я вышла. Я, уходя, осенила его издали крестом, он опять мне протянул руку и сказал тихо: «перекрестите еще», тогда я опять, пожавши еще раз его руку, я уже его перекрестила, прикладывая пальцы на лоб, и приложила руку к щеке: он ее тихонько поцеловал и опять махнул. Он был бледен как полотно, но очень хорош; спокойствие выражалось на его прекрасном лице. Других подробностей не хочу писать, отчего и почему это великое нещастие случилось: они мне противны; Сонюшка тебе их опишет. А мне жаль тебя; я знаю и чувствую, сколько тебя эта весть огорчит; потеря для России, но еще особенно наша; он был жаркий почитатель твоего отца и наш неизменный друг двадцать лет.
Прилагаю к этому письму копию с векселя, посланного Киршбауму: в том случае, если вы его не отыскали, вы предъявите банкиру эту копию, а если она окажется ненужной, ты ее также ему передай. Прощай, мой дорогой Андрей, мой дорогой сын.
Дуэли ужасны! А что они доказывают? Бедного Пушкина нет больше! А через два года никто из оставшихся не будет и думать об этом. Пусть охранит тебя от них небо, и пусть твое доброе сердце и разум тебя от них отдалят! Прижимаю тебя к сердцу, опечаленному и страдающему, жалея тебя, потому что перенесу те же чувства в твое сердце. Благословляю тебя с любовью, поручая тебя милости господней. Я чувствую себя вполне хорошо.
А.А. Козлов. Пушкин на смертном одре
С.Н. КАРАМЗИНА
А я-то так легко говорила тебе об этой горестной драме в прошлую среду, в тот день, даже в тот самый час, когда совершалась ужасная ее развязка! Бедный, бедный Пушкин! Сколько должен был он выстрадать за эти три месяца, с тех пор, как получил гнусное анонимное письмо, – причину, по крайней мере наружную, этого великого несчастья. Сказать тебе, что в точности вызвало дуэль теперь, когда женитьба Дантеса, казалось, сделала ее невозможной, – об этом никто ничего не знает. Считают, что на балу у Воронцовых, в прошлую субботу, раздражение Пушкина дошло до предела, когда он увидел, что его жена беседовала, смеялась и вальсировала с Дантесом. А эта неосторожная не побоялась встретиться с ним опять, в воскресенье у Мещерских и в понедельник у Вяземских! Уезжая от них, Пушкин сказал тетушке: «Он не знает, что его ожидает дома!» То было письмо Геккерну-отцу, оскорбительное сверх всякой меры, он называл его, отца, старой сводней (тот в самом деле исполнял такую роль), а сына – подлецом, трусом, осмелившимся и после своей женитьбы обращаться вновь к госпоже Пушкиной с казарменными речами и с гнусными объяснениями в любви, и грозил, если этого оскорбления будет недостаточно, оскорбить его публично на балу. Тогда Дантес послал к нему некоего господина д'Аршиака, из французского посольства, своего секунданта, чтобы передать ему вызов; это было во вторник утром, а вечером, на балу у графини Разумовской, я видела Пушкина в последний раз; он был спокоен, смеялся, разговаривал, шутил, он несколько судорожно сжал мне руку, но я не обратила внимания на это.
В среду утром он поехал приглашать в секунданты своего товарища по лицею Данзаса; встретив его на улице, усадил в себе в сани, тут же объяснил в чем дело, и они отправились драться на парголовскую дорогу, близ дачи Одоевских, между четырьмя и пятью часами. Там, говорят, Пушкин проявил великолепное спокойствие и настойчивость. Дантес стрелял первым и попал ему в середину тела, он упал, а когда тот бросился к нему, чтобы поддержать его, он закричал: «Вернитесь на место, за мной еще выстрел!» Его приподняли и поддержали; так как первый пистолет выпал из его руки в снег, Данзас подал ему другой; он долго целился; пуля пробила руку Дантеса, но только в мягких частях, и остановилась против желудка – пуговица на сюртуке предохранила его и он получил только легкую контузию в грудь; но в первый момент он зашатался и упал. Тогда Пушкин подбросил свой пистолет в воздух с возгласом: «браво!» Затем, видя, что Дантес поднялся и пошел, он сказал: «А! значит поединок наш не окончен!» Он был окончен, но Пушкин был убежден, что ранен только в бедро. По дороге домой тряска кареты причиняла ему боль во внутренностях. Тогда он сказал Данзасу: «Кажется, это серьезно. Послушай: если Арендт найдет мою рану смертельной, ты мне об этом скажешь! Меня не испугаешь: я жить не хочу!» Приехав домой, он увидел жену и сказал ей: «Как я рад, что еще вижу тебя и могу обнять! Что бы ни случилось, ты ни в чем не виновата и не должна себя упрекать, моя милая!»
Арендт сразу объявил, что рана безнадежна, так как перебиты большая артерия и вены, кровь излилась внутрь и повреждены кишки. Пушкин выслушал этот приговор с невозмутимым спокойствием и с улыбкой на устах; он причастился, попрощался; он сохранял полное сознание, он наблюдал отчетливо, как угасала его прекрасная жизнь. Он получил от государя полное участия письмо, с советом умереть христианином и быть спокойным за судьбу жены и детей, заботу о которых государь брал на себя. Он немного страдал, он был неизменно ласков со своей бедной женой и за пять минут до смерти сказал врачу: «Что, кажется, жизнь кончается!» Без всякой агонии он закрыл глаза, и ничто не может быть прекраснее его лица после смерти: чело ясное, задумчивое, словно вдохновенное, и улыбающийся рот. Я никогда не видала такого чистого, такого утешительного и такого поэтического мертвого лица. Его несчастная жена в ужасном состоянии и почти невменяема, да это и понятно. Страшно об ней подумать. Прощай, мой дорогой Андрей, обнимаю тебя очень нежно.
Софи
Е.А. КАРАМЗИНА
1(13) февраля 1837 г. Петербург
Добрый вечер, мой дорогой друг, я пишу тебе наскоро эти строки, а гостиная моя полна народу ‹…› Записку мою Тургенев передаст д'Аршиаку, которого отсылают в качестве курьера после этой злополучной истории с несчастным Пушкиным; если ты с ним где-нибудь встретишься, то сможешь узнать подробности об этом роковом поединке. Он тебе привезет также маленький томик – новое издание «Онегина», по-моему, очень изящное, которое сейчас, я думаю, доставит тебе удовольствие. С почтой, отправляющейся в среду, я тебе напишу побольше и пошлю денег. ‹…›
Е.А. и С.Н. КАРАМЗИНЫ
2(14) февраля 1837 г. Петербург
Е.А. КАРАМЗИНА
Здравствуй, мой милый, дорогой Андрей, вчера вечером я нацарапала тебе, бог знает как, несколько строк, чтобы успеть отослать их, вместе с томиком «Онегина», с д'Аршиаком, который, должно быть, уехал сегодня утром; Тургенев, взявшийся отнести пакет, ужасно меня торопил.‹…›
Вчера состоялось отпевание бедного, дорогого Пушкина; его смертные останки повезут в монастырь около их псковского имения, где погребены все Ганнибалы: он хотел непременно лежать там же. Государь вел себя по отношению к нему и ко всему его семейству, как ангел. После истории со своей первой дуэлью П‹ушкин› обещал государю больше не драться ни под каким предлогом, и теперь, когда он был смертельно ранен, он послал доброго Жуков‹ского› просить прощения у гос‹ударя› в том, что он не сдержал слова, и государь написал ему карандашом записку в таких выражениях; «Если судьба нас уже более в сем мире не сведет, то прими мое последнее и совершенное прощение и последний совет: умереть христианином! Что касается до жены и детей твоих, то можешь быть спокоен, я беру на себя устроить их судьбу». Когда В‹асилий› А‹ндреевич› Ж‹уковский› просил г‹осуда›ря во второй раз быть секретарем его для Пушкина, как он был для Карамзина, г‹осуда›рь призвал В‹асилия› А‹ндреевича› и сказал ему: «Послушай, братец, я всё сделаю для П‹ушкина›, что могу, но писать как к Карам‹зину› не стану; П‹ушкина› мы насило заставили умереть, как христианина, а Карамз‹ин› жил и умер, как ангел». Что может быть справедливее, тоньше, благороднее по мысли и по чувству, чем та своего рода ступень, которую он поставил между этими двумя лицами? Мне хотелось самой сообщить тебе все эти подробности, хотя я и боюсь, что не сумела сделать это так хорошо, как Софи, но сердце мое было ими переполнено ‹…›
С.Н. КАРАМЗИНА
О да, мой милый Андрей, письмо твое интереснее, чем когда-либо, и, вообрази, чтобы прочесть его, мне пришлось ждать следующего дня, так много было у нас целый день в воскресенье народу, а вечером мы ходили на панихиду по нашем бедном Пушкине. Трогательно было видеть толпу, которая стремилась поклониться его телу. В этот день, говорят, там перебывало более двадцати тысяч человек: чиновники, офицеры, купцы, все с благоговейном молчании, с умилением, особенно отрадным для его друзей. Один из этих никому не известных людей сказал Россету: «Видите ли, Пушкин ошибался, когда думал, что потерял свою народность: она вся тут, но он ее искал не там, где сердца ему отвечали». Другой, старик, поразил Жуковского глубоким вниманием, с которым он долго смотрел на лицо Пушкина, уже сильно изменившееся, он даже сел напротив и просидел неподвижно четверть часа, а слезы текли у него по лицу, потом он встал и пошел к выходу; Жуковский послал за ним, чтобы узнать его имя. «Зачем вам, – ответил он, – Пушкин меня не знал, и я его не видал никогда, но мне грустно за славу России». И вообще это второе общество проявляет столько увлечения, столько сожаления, столько сочувствия, что душа Пушкина должна радоваться, если только хоть какой-нибудь отзвук земной жизни доходит туда, где он сейчас; среди молодежи этого второго общества подымается даже волна возмущения против его убийцы, раздаются угрозы и крики негодования; между тем в нашем обществе у Дантеса находится немало защитников, а у Пушкина – и это куда хуже и непонятней – немало злобных обвинителей. Их отнюдь не смягчили адские страдания, которые в течение трех месяцев терзали его пламенную душу, к несчастью, слишком чувствительную к обидам этого презренного света, и за которые он отомстил в конце концов лишь самому себе: умереть в тридцать семь лет, и с таким трогательным, с таким прекрасным спокойствием! Я рада, что Дантес совсем не пострадал и что раз уже Пушкину суждено было стать жертвой, он стал жертвой единственной: ему выпала самая прекрасная роль, и те, кто осмеливаются теперь на него нападать, сильно походят на палачей.
В субботу вечером я видела несчастную Натали; не могу передать тебе, какое раздирающее душу впечатление она на меня произвела: настоящий призрак, и при этом взгляд ее блуждал, а выражение лица было столь невыразимо жалкое, что на нее невозможно было смотреть без сердечной боли. Она тотчас же меня спросила: «Вы видели лицо моего мужа сразу после смерти? У него было такое безмятежное выражение, лоб его был так спокоен, а улыбка такая добрая! – не правда ли, это было выражение счастья, удовлетворенности? Он увидел, что там хорошо». Потом она стала судорожно рыдать, вся содрогаясь при этом. Бедное, жалкое творенье! И как хороша даже в таком состоянии!
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: