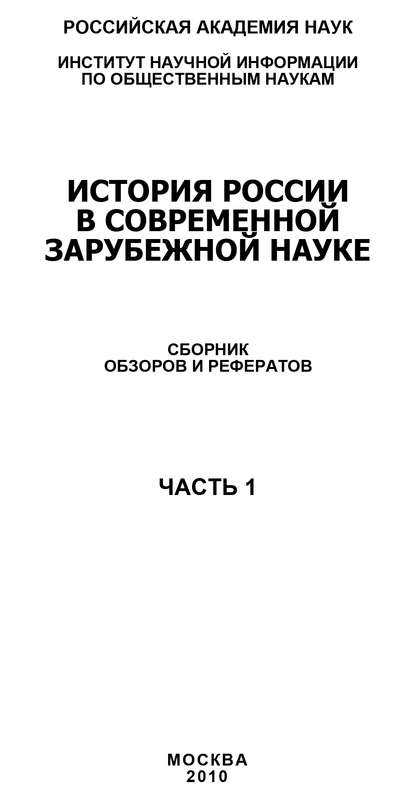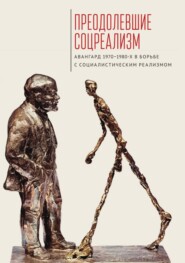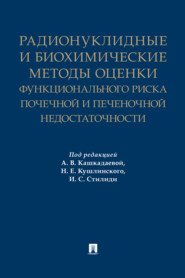По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История России в современной зарубежной науке, часть 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В их книге представлены некоторые важные аспекты российской истории, которые «до сих пор или не были известны, или недооценивались» (153, с. 1). Так, например, крайне редко употребляется применительно к Московии XVII в. такое понятие, как «модернизация». В российской историографии, особенно в работах, посвященных преобразованиям в стране, наибольшее внимание уделяется Петру I. Мнение о Петре как отце «современной, европейской России» не только глубоко укоренилось в российском общественном сознании – оно распространено и на Западе, даже среди профессиональных историков. Этот культ Петра приводит к тому, что явно недостаточно изучаются его предшественники, что обусловливает упрощенное понимание пути страны к статусу великой державы. Поэтому одна из основных целей книги – отказ от этой традиции. Авторы сборника, не отрицая значения роли Петра Великого в истории, стремятся показать его в историческом контексте – в той преемственности, в связи его преобразовательных программ с реформами его предшественников. К тому времени, когда Петр пришел к власти, Россия уже имела культуру реформ и нововведений, которые явились в результате сознания слабости России по сравнению с ее западными соседями, что выявлялось при различных контактах россиян с европейцами. Петр основывался на этой традиции, подчеркивается в книге, а не создал Россию из ничего.
Московия ее позднего периода – это страна, ориентированная на эффективность реформ. И хотя кратковременные выгоды от реформ в течение десятилетий не перевешивали их издержек в более долгосрочном плане, это не должно вести к недооценке силы, энергии и намерений государственных деятелей Московии. Отставание России от европейских стран вынуждало ее принимать различные меры, чтобы догнать своих соседей. Сжимая десятилетия, если не столетия, органического развития в относительно короткие кампании, Россия должна была использовать методы и средства, которые были уникальными.
Центральная бюрократия, эффективно мобилизуя ограниченные ресурсы страны, играла ключевую роль в появлении России как великой державы в раннем современном периоде истории. XVII столетие было временем юридической экспансии и развития – происходили существенные изменения в законах. Они закрепляли множество обязанностей московитов и среди этих обязанностей не было места европейской идее права. В то же время происходили изменения политической системы.
Россия не стала современной в XVII в. Начало перехода к современности произошло скорее в середине XVII в., чем в эпоху Петра (153, с. 8), и только на рубеже XX столетия она стала соответствовать европейской модели в политике, экономике, общественном устройстве. Но свой путь к этому Россия начала благодаря преобразованиям XVII в. Хотя, как пишет С. Диксон, в России было так, что проводимая сверху модернизация в конечном счете не выводила страну из отсталости (56).
Дж. Котилейн (123), рассматривая в своей монографии проблему российской внешней торговли в XVII в., пишет о неразработанности этой темы. В дореволюционное время немногие вышедшие в свет работы имели описательный характер, а советским ученым приходилось встраивать экономическую историю в официальную детерминированную схему. Многое в российской истории торговли имело тенденцию быть не экономической историей, а, скорее, частью дипломатической истории.
Россия в XVII в. была вынуждена ввести учреждения, дававшие ей возможность конкурировать в военном отношении с ее более продвинутыми западными соседями в условиях, когда война становилась больше нормой, чем исключением. Ответ ее Западу заключался в установлении жесткого правительственного контроля над ключевыми производительными ресурсами, которые повлекли за собой, среди других вещей, стратификацию общества, введение крепостного права по Уложению 1649 г. Внешняя торговля играла важнейшую и до настоящего времени недооцениваемую роль в истории Московии. Самый ранний прецедент крупномасштабного ответа России на внешний спрос ее товаров – это поставки мехов, что способствовало расширению России на восток, в Сибирь. Интеграция России в международную торговлю произошла с учреждением голландской и английской торговых империй и развитием судостроения, что обратило бесконечные леса России и ее сельскохозяйственные изделия в ценные активы, стимулировало обработку лесоматериалов и экспорт продуктов аграрного сектора экономики. Россия переходила к более систематической эксплуатации земли. Колонизация Юга и Востока обеспечила ее доступ к новым землям и лесам. Крепостничество, устраняя проблему миграции крестьян, гарантировало устойчивые трудовые ресурсы в этих областях. Автор видит причинную связь между европейским спросом и ростом крепостничества, которое облегчило российский экономический ответ Европе – поставки ее товаров в XVII столетии. Страна была способна использовать свою интеграцию в глобальную экономику и стала наиболее политически успешным государством европейской периферии. Внешняя торговля была одной из самых простых и наиболее эффективных статей дохода для правительства. Внешний спрос «стимулировал протоиндустриализацию» (123, с. 507–508). Поставив вопрос о том, смогла бы Россия обрести ранг европейской державы без торговой революции XVII столетия, автор высказывает предположение, что «ответ был бы почти определенно отрицательный» (123, с. 514).
В сборнике «Российская и советская история»[11 - The Russian review. – 2009. – Vol. 68, N 2. – P. 334.] (198) большинство статей сосредоточиваются на личностях или эпизодах. Основная проблема, которую дискутируют авторы, – это анализ происхождения российских форм модернизации. Они находят в ней источник опасного разрыва между правителями и управляемыми. Этот разрыв исследуется и в других статьях сборника. Но между их авторами есть разногласия о том, когда произошел этот раскол населения и власти. Ч. Даннинг относит его к началу XVII в., когда романовская династия сумела усилить свою власть, власть автократии и ослабить сразу после Смуты участие в политике других слоев населения, эксплуатируя их сильное тогда стремление к стабильности и порядку. Другие исследователи видят начало разрыва в Петровском периоде, когда русская элита переделывала и себя, и страну в соответствии с тем, что она хотела, независимо от того, как это влияло на их подданных. Дж. Крэкрафт в статье «Революция Петра Великого» выразил это наиболее ясно. Но С. Юзитало в статье о М. Ломоносове показывает более широкое и опосредованное воздействие петровских преобразований на страну. Благодаря этому Ломоносов имеет имидж интеллектуального гиганта. Редактор пытается примирить столь различные точки зрения определением, что момент раскола включает и Смуту, и время Петра, хотя такая периодизация, на взгляд некоторых ученых, слишком широкая. Д. Во считает, что надо «посмотреть на ту “середину”, где революционные мысли и деяния Петра и его соратников пересекаются и самым удивительным образом сочетаются с “традициями” в народной жизни и мышлении» (249, с. 332). Для этого необходимо обратить внимание на религиозную составляющую в русской истории и культуре, привлечь новые источники и по-новому посмотреть на уже изданные (249, с. 330).
Проф. Дж. Крэкрафт (США) стремится ответить на вопрос, как «средневековое Московское государство стало современной Россией», которая начала играть важную и нередко решающую роль в Европе и в мире (50, с. 5). По его мнению, во время долгого и противоречивого правления Петра I большое историческое значение имели не только обретение Россией статуса великой державы (на чем делают акцент уже поколения историков, политиков, публицистов), включая модернизацию армии и флота, реформы церкви, основание Петербурга, установление абсолютной монархии, но и культурная революция, больше всего привлекающая внимание автора (51, с. VII).
По мнению Крэкрафта, за годы царствования Петра главные его преобразования в России имели революционный характер. В совокупности они «вызвали то, что можно справедливо назвать культурной революцией» (51, с. 158). Сущность этой революции – быстрая и широкая европеизация многих сторон жизни россиян. Такая европеизация была эквивалентна модернизации.
Северная война не была единственным фактором, запустившим петровскую революцию, даже в ее военном и политическом аспектах. Характер Петра, его чаяния и интересы наряду с интересами его приближенных (таких как Меншиков, Прокопович, Шафиров) также были ее важнейшим фактором. Сыграли свою роль и интересы новой петровской элиты, многие представители которой выдвинулись благодаря своей энергии и талантам.
Расширение социоэкономического и культурного разрыва на ранних стадиях модернизации происходило в большей части мира, и Россия не была исключением. Автор считает, что не следует осуждать Петра I за те условия, которые существовали в России 200 лет спустя после его смерти. Точно так же нельзя возлагать ответственность на него за те или иные меры тех, кто правил после него, особенно за глупость освобождения дворянства от обязательной государственной службы (1762) без освобождения крестьян, которое состоялось только в 1861 г. Петр Великий остается «одной из самых значительных фигур во всей современной истории» (51, с. VIII) (подробнее см. обзор в этом сборнике).
Век Просвещения – тема сборника «Россия в XVIII столетии: Общество, культура, экономика»[12 - The Russian review. – 2008. – Vol. 67, N 3. – P. 518–519.] – 40 статей, 24 на английском и 16 на русском языке; охват тем широкий: культурный, социальный, юридический, финансовый ландшафт России в век Просвещения (63). Большинство статей – о влиянии модернизации на дискурс и/или практику Российской империи и воздействие этого процесса на социальную и личную идентичность. Европейский дискурс передавался в российскую реальность людьми из разных социальных слоев, с различным образованием, в частности купцами, чтобы утвердить свою социальную и гражданскую идентичность. Христианский религиозный менталитет служил своеобразным мостом, по которому новые идеи из Европы переходили в русскую культуру, хотя в конце XVIII в. Россия еще не была гражданским обществом. Язык, как социальная конструкция, есть отражение своего времени, подчеркнуто в сборнике. Театры, парки, литература – через них проявлялся дискурс Просвещения. Сборник показывает важность междисциплинарной методологии. В нем отмечена роль Просвещения для России в деле постепенной передачи европейской культуры. Многие аспекты русской идентичности оказались в центре общественного внимания.
О Екатерине II зарубежные историки теперь пишут особенно много, подчеркивая ее «культуртрегерскую» роль в России (63, 167 и др.). И Дашкова, президент двух российских академий, имела «глубокое влияние на развитие образования, науки и учености в России» (255, с. 156) благодаря «нацеленности» Екатерины на развитие российской культуры. Но внешнюю политику Екатерины II оценивают не слишком высоко (см. обзор в этом сборнике).
Интерес исследователей к личности Екатерины выражается и в переиздании ее мемуаров (232), и в исследовании ее литературной деятельности (как драматурга), и даже как самого искусного садовода из российских правителей (207). Но этот интерес в конечном счете обусловлен стремлением понять ее роль в истории России. Даже, казалось бы, «невинный» сюжет о ней как о «садоводе», стремившейся превратить окрестности Петербурга в сад, имеет политический смысл; в частности и Г. Потёмкин, следуя ее примеру, пытался сделать Крым «садом империи». Авторы неизменно отмечают влияние на деятельность Екатерины идей Просвещения, хотя российские реалии нередко вносили свои коррективы, что сказалось, например, и в ее отношении к католичеству.
В историографии считается, что лучшая работа о Екатерине II написана И. Мадариагой (см. реферативный обзор в этом сборнике).
Книга американской исследовательницы М. Ковендер о культурной идентичности дворянства (39) – первая работа, в которой анализируется привилегированное сословие Тверской губернии в десятилетия, предшествующие отмене крепостного права, рассматривается в западной литературе как «вызов историографическому трюизму» о том, что дворянство стремилось жить в столицах, а не в своих имениях. Ковендер утверждает, что помещики бо?льшую часть времени проводили в родовых «гнездах», а не в Москве или Петербурге. Культурная идентичность провинциального дворянства освещается в связи с его политической культурой и его лояльностью власти. Касаясь экономики помещичьего хозяйства, автор допускает, что только меньшинство собственников имений стали энтузиастами ведения хозяйства на рациональной, научной основе.
Внимание историков привлекает и «гроза 1812 года» (70, 258 и др.). А. Замойский считает, что вторжение Наполеона в Россию было одним из самых драматических эпизодов в европейской истории, событием эпического масштаба, глубоко отразившимся на сознании поколений. Но слишком мало известно об этой трагедии французской армии, как и о войне в целом. По мнению А. Замойского, ни одна военная кампания в истории в ходе ее изучения не испытала такого воздействия политической конъюнктуры, как война 1812 г. Только в России за время после нее написано более 5 тыс. книг и вдвое больше статей, которые, однако, лишь затемняют эту тему. События войны и ее последствия поднимали вопросы о характере русского государства и его народа, подрывавшие существующий строй, первым проявлением чего и стало восстание декабристов.
Дж. Хартли (100) ставит вопрос, нуждались ли русские военные в усилении установленных социальных и политических структур или поддерживали изменения и модернизацию. Она отвечает, что несмотря на влияние 1812 г., появление вольнодумцев в офицерской среде, военные в целом поддерживали абсолютистскую монархию и крепостнический строй.
Рассматривая вопрос об экономической основе военной системы, недостаточно разработанный в литературе, она показывает, как финансировалась армия в условиях экономической отсталости. Армия снабжалась хорошо, но сельские и промышленные технологии оставались застойными и их способность удовлетворять растущие потребности армии убывали. Ограниченность производства была связана с принудительным трудом, и автор подчеркивает, что только строгий контроль над ресурсами давал возможность снабжать армию. Хартли рассматривает организацию военной службы: конфликт между гражданскими и военными, сложные отношения между гражданскими и военными судами, между властью и малыми народами в пограничных частях империи. Войны, которые вела Россия, не только укрепляли властные структуры и престиж монарха. Происходившие в Европе драматические перемены помогали русским сделать относительно спокойный переход к современной форме национальной идентичности. Неспособная изменить экономическую и социальную основу военной системы, монархия откладывала радикальные реформы. Поражение в Крымской войне показало, что поддержание военной мощи страны требует значительных экономических и социальных изменений. Но до 1850-х годов Россия оставалась стабильным и в военном отношении мощным государством.
В книге Д. Стоуна (219) – панорама развития вооруженных сил России за последние 500 лет и понимание того, почему Россия воевала так часто. Большое достоинство монографии С. Норриса (161), которая характеризуется в зарубежной литературе как «прекрасная», в том, что российский патриотизм и российская идентичность рассматриваются в художественном преломлении – через изображение войны в лубке, в цветных печатных картинках, циркулировавших сначала среди высших слоев населения, а затем, к середине XIX в., и в народе. Норрис пишет, что все русские были патриотами и свою национальную идентичность ощущали уже во время войны с наполеоновской Францией.
За рубежом используются и «экзотические» источники для понимания «атмосферы» в российском обществе в связи с военной тематикой. Западные специалисты считают, что военные художественные фильмы дают почувствовать «аромат и чувство времени» сильнее, чем печать; историки исследуют войну и как «поливалентный культурный символ» (257).
С темой войны исследователи связывают проблемы колонизации и национальных отношений. Дж. Хоскинг (19, 108) проводит идею о том, что строительство империи откладывало и затрудняло формирование русского национального самосознания.
Вообще, зарубежные историки с удивлением констатируют, что в последние десять лет происходит нечто революционное в изучении имперского прошлого России, в том числе лавинообразный рост литературы по этой тематике[13 - The Slavonic and East Europe review. – L., 2008. – Vol. 86, N 3. – P. 553; The Russian review. – 2009. – Vol. 68, N 2. – P. 170.]. Начало положено работами Дж. Форсайта и Ю. Слезкина о Сибири[14 - Forsyth A. History of the Native peoples of Siberia. – Cambridge, 1992; Slezkine Yu. Arctic mirrors: Russia and the small peoples of the North. – Ithaca; N.Y., 1994.]. Есть превосходные региональные исследования В. Мартин, Р. Джераси, П. Верта, М. Ходарковского, У. Сандерленда, А. Халида и др.
В 2007 г. вышла в свет книга о Российской империи в 1700– 1930 гг. (200). В ней 18 статей. Авторы – из России, США и Европы. Показаны взгляды на империю из центра и регионов. Рассказывается об идеях, чаяниях людей того времени, учреждениях. В этом сборнике статей представлено не только плюралистическое разнообразие в империи, но показана и ее гибкость в проведении своей политики и умение преодолевать трудности и адаптироваться к ним. Россия в значительной степени была суперэтническим союзом элит, а патроно-клиентские связи обеспечивали стабильность в различных регионах страны.
А. Рибер насчитывает четыре «постоянных фактора» или детерминанты российской и советской истории: подвижность и неустойчивость границ России; многонациональное население; экономическая слабость; «культурное отчуждение», которое он определяет как «амальгаму географических, политических и исторических факторов, которые вносят свой вклад в восприятие России аборигенами и иностранцами»[15 - Slavic review. – 2008. – Vol. 67, N 2. – P. 528–530.].
В россиеведении все активнее исследуются взаимоотношения центра и регионов и повседневная жизнь в национальных районах. Однако в зарубежной литературе по-прежнему большой разброс мнений в отношении «национального вопроса», жизни этносов.
В 2007 г. в Японии был опубликован сборник статей «Империология» (112). Цель сборника – «отделить широко принятые теории» (112, с. 6) от массы эмпирического материала, который произвела империология со времени коллапса Советского Союза, а также поставить вопросы о сравнении геополитики и экономики, которые игнорировались. В сборнике прозвучала и мысль о том, что империологии не следует отделять себя от общей и социальной истории. В целом сборник показывает, и это было отмечено в зарубежной научной печати, что исследование Российской империи идет по пути интернационализации[16 - The Russian review. – 2008. – Vol. 67, N 3. – P. 532–533.].
«Новое» иногда используется в работах историков, хотя это и «не делает погоду» в россиеведении для новой аргументации старого. Так, в статье о народе коми утверждается, что русские интеллигенты помогали русификации, считая русскую культуру выше. Автор полагает, что этнические стереотипы, распространенные среди русских, способствовали политике царского правительства в отношении этнических групп (114, с. 199). Русские авторы XIX в. не верили в способность самостоятельного культурного развития коми и ожидали скорую и неизбежную их русификацию (114, с. 218). Автор приводит слова Энгельгардта о том, что как только русским языком овладеет местный народ и разовьется рыночная экономика, исчезнет разница между русскими и нерусскими. Энгельгардт был убежден, что когда встречаются два племени, менее цивилизованное ассимилируется. Согласно Энгельгардту, это был общий исторический принцип, который подтверждался историей русской колонизации (114, с. 219).
Русские в XIX в. считали коми одним из многих «крестьянских народов без истории». По их мнению, зыряне и другие финно-угорские народы отступали перед лицом российского продвижения и уже столетия находились в процессе русификации. Этот «объективный» процесс идет к естественному концу – все зыряне станут русскими. Для русской элиты коми были «этнографическим материалом» относительно высокого качества, сравнительно с другими примитивными племенами, но тем не менее «материалом для строительства русского государства». И поскольку коми скоро станут русскими, это – естественный и желательный результат, всякие противодействующие ему факторы должны быть уничтожены. Решению этой задачи имперской политики служил русский национализм.
Три мощных течения общественной мысли существовали в XIX в.: устойчивый этнический стереотип, эволюционизм и растущий русский национализм. Они «взаимодействовали и влияли на образованных русских». «Русская империя, русская “высокая культура” считались моделью цивилизации» (114, с. 219). Русские литераторы писали не для того, чтобы оправдать национальную политику правительства. Однако они исходили из тех же самых предположений, давая информацию, которая определялась этими заключениями, и своими работами они помогали распространять и укреплять этнические стереотипы, уже циркулирующие в русском обществе. Тексты литераторов и национальная политика правительства в регионах, в сущности, были двумя сторонами одной медали.
Русские авторы изображали реальность как они ее понимали. Подобным образом балтийские немцы смотрели сверху вниз на эстонцев и латышей, а поляки – на литовцев и белорусов. Элиты доминирующих этнических групп не верили, что «крестьянские народы без истории» могут достичь независимого культурного развития (с. 220).
Однако они недооценивали потенциального национализма среди малых народов. Идея национализма распространялась по России не только среди доминирующих этногрупп. В этнических группах выкристаллизовывалась интеллигенция и начинала работу по эмансипации своих народов. Иногда новые нации создавались из «этнографического материала», который доминирующие этнические элиты планировали использовать для своих целей. Вопреки тому, что ожидали образованные русские, коми не исчезли и не были поглощены «более развитой» русской цивилизацией. В XIX в. начался подъем национализма коми, который уравновешивал политику правительства в отношении них. Однако этнические стереотипы некоторых образованных русских в XIX в. имели тенденцию сопротивляться ее изменению (114, с. 220).
В зарубежной историографии уделяется внимание не только «крестьянским народам», но и истории многонациональных городов, особенно Одессе, из-за ее историко-этнографического и культурного разнообразия (29, 34, 137 и др.). И здесь иногда допускается «перебор». В книге А. Маколкиной об этом городе явно преувеличивается роль итальянцев. Она, в частности, пишет: Одесса – «культурная Мекка всей русской и позже советской империи» (137, с. 2). «У русских не было своей древней истории» (137, с. 7). «Итальянцы внесли культуру в отсталую страну, которая была в сущности мирской и языческой, и русские были забытыми Богом людьми» (137, с. 39), церковь играла чисто символическую роль «в жизни русского, преимущественно сельского, общества» (137, с. 15). Под пером этого автора даже отцы-основатели Одессы, в том числе Хосе де Рибас, становятся итальянцами. Такие «исследования» вызывают отповедь со стороны западных ученых. Так, Ф. Скиннер определил эту книгу как «ревизионистскую работу худшего сорта». Он пишет, что нет никаких оснований считать, что Одесса стояла во главе модернизации России. Этот странный взгляд на русскую историю обусловлен, по его мнению, «италоцентристским» подходом, и поэтому автор книги часто прибегает к гиперболам. Кроме того, рецензент указал, что книга и написана, и издана плохо, и не рекомендовал иметь ее на полках академических библиотек[17 - The Russian review. – 2008. – Vol. 67, N 4. – P. 703–704.].
Новое видение национализма в России XIX в. – в монографии С. Рэбоу-Эдлинг (180) (ун-т Упсалы, Швеция). Славянофильство, считает она, может быть охарактеризовано как «культурный национализм». В книге сделана попытка доказать, что славянофильство – это призыв к социальному и культурному обновлению, и что славянофилы отнюдь не были консервативными защитниками традиционного общества (180, с. 136).
С. Рэбоу-Эдлинг отходит от бытующей в западной историографии интерпретации славянофильства как «консервативной утопии», показывает «социальное измерение» этого учения. Для славянофилов с их культурным национализмом свойственно убеждение, что реформирование общества возможно только в ходе морального и культурного возрождения нации (180, с. 1–3). Интеллектуальная элита должна была дать импульс этому возрождению. Суть русского просвещения – духовность, не отрицающая достижений западной науки, и приспособление их к российским условиям. Это должно было органично ввести Россию в семью европейских народов.
Формирование русской национальной идентичности шло в русле европейских идей, и прежде всего, Просвещения. Славянофилов нельзя считать консерваторами. Различия между ними и западниками были, но и те, и другие являлись сторонниками реформ. Громадные успехи русской национальной культуры во второй половине XIX – начале XX в. свидетельствуют о том, что главные составляющие учения славянофилов – духовность, акцент на развитии национальной культуры доказали свою состоятельность.
Автор рассматривает «культурный национализм» как своеобразную форму славянофильства, содержанием которого был прогресс. Славянофилы занимали свою «нишу» в обществе и отличались от либеральных националистов тем, что имели свой взгляд на то, как идти к прогрессу, – через моральное и социальное обновление и не сторонясь демократической политики.
Повышенное внимание зарубежные историки обратили на книгу Р. Крюса (52). Он исследует все аспекты противоречивых отношений власти с исламом во многих регионах в 1780–1917 гг. Основные источники, используемые Крюсом, это судебные отчеты и ходатайства, представленные мусульманами в учреждения царской администрации.
Вывод Крюса о том, что в течение всего этого периода для большинства исламских общин империи политика государства в области религии была вполне приемлемой (52, с. 349), и что они находили общий язык с государством и понимали друг друга, вызвал критические замечания рецензентов за мягкость тона в отношении политики государства[18 - The Slavonic and East Europe review. – L., 2008. – Vol. 86, N 3. – P. 353–357.].
В США историей религии и церкви в России плодотворно занимаются Г. Фриз, П. Валери, В. Шевцова, Н. Кизенко, К. Чулос и др., которые, как и их российские коллеги, пересматривают роль церкви в истории позднеимперской России. В 2008 г. увидела свет книга Дж. Хедды (101), в которой, как и в ряде исследований историков нового поколения, показано, что в конце XIX в. священники отнюдь не представляли собой консервативную промонархическую массу. Напротив, высокообразованные прогрессивные священники под влиянием современных теологов, таких как архимандрит Федор (Бухарев), активно работали с паствой, создавали и руководили воскресными школами, приютами, домами призрения и т.п., примиряли последствия модернизации и веру.
Одна из спорных проблем касается понятия «народной религии», противостоящей религии «официальной». Но, как признают сами историки, пока это еще очень мало исследованная тема. Истории церкви московского и имперского периодов, ее деятелям, расколу, религиозным сектам посвящена большая литература.
Многое по-новому видится в истории России и авторам сборника с характерным названием «Россия в европейском контексте. 1789– 1914. Член семьи» (194), в котором они приходят к выводу, что Россия, при всех ее особенностях, – «типичная европейская страна» (194, с. 6).
Статья одного из редакторов сборника, профессора М. Меланкона, «Взгляды России на настоящее и будущее. 1910–1914: Что говорит нам пресса» (автор проанализировал более ста различных российских газет того времени) – попытка переосмысления прошлого России в русле новой культурной истории (147). В статье освещаются представления русского общества о политике, правах человека, экономическом развитии, гражданском сознании, его взгляды на рабочий вопрос в предвоенные годы. И хотя автор отмечает, что традиционная интерпретация углубляющейся пропасти между правительством и обществом верна, он, однако, видит и несходство между суждениями историков и российской действительностью тех лет (147, с. 203). По мнению М. Меланкона, российское общество считало, что во всех сферах деятельности страна развивается в соответствии с западными, европейскими моделями. О «специфическом русском пути», о «русской идее» во всех исследованных газетах не было и речи. Более того, пресса и другие общественные дискурсы уделяли мало внимания автократической культуре, темным массам и социальной фрагментации. У автора есть некоторые сомнения в том, что высказанные в прессе соображения адекватно отражали реальность. Возможно, было и смешение отвлеченного философствования на страницах газет с реальной действительностью. Но он тем не менее констатирует: «Во всяком случае мы исследовали новое гражданское сознание до формирования каких-либо теорий о предреволюционной России» (147, с. 222). В том же ключе пишут и другие участники сборника. Так, немецкий историк Л. Хефнер, проведя сравнительный анализ различных русских обществ с европейскими, подчеркнул, что это сравнение не только не выявляет уникальности и отсталости страны, но, напротив, показывает быстрое развитие в стране буржуазной культуры (194, с. 151). Исследования России предвоенного времени, по заключению М. Меланкона, оттеняют роль Первой мировой войны как истинной разрушительницы империй, а событий 1917 г. – как объясняющих приход к власти большевиков (147, с. 222).
В необычном, новом ракурсе, с точки зрения искусствоведа рассматривает жизнь российского общества в годы Первой мировой войны американский историк А. Коэн (46). На его взгляд, появление русского модернистского авангарда стало результатом интенсивной общественной и культурной жизни в стране, свидетельством ускоренного развития гражданского общества, на что оказала стимулирующее воздействие военная пора. Прежде в научной литературе российское гражданское общество этого периода или недооценивалось, или совсем не принималось во внимание. Но именно напряжения военного времени усилили и те тенденции в общественной и культурной жизни, которые существовали до августа 1914 г. В частности, в 1915– 1916 гг. художественные салоны побили все рекорды по выставкам и продажам художественных произведений.
Проблемы русской исключительности пересматриваются и в связи с переосмыслением теории модернизации (152), занимающей одно из ключевых мест в объяснении предпосылок революции 1917 г. Книга американского ученого Дж. Гранта, новационная уже по избранной теме – первое исследование в зарубежной историографии деятельности одного из столпов российского бизнеса А.И. Путилова, справедливо аттестуется С. Маккеффри как бросающая вызов «принятым идеям о русском капитализме в конце старого режима». В унисон высказываются и другие специалисты. Так, в аннотации на эту монографию отмечалось: «С появлением капиталистической системы в Российской Федерации в 1990-х гг. научные дискуссии о характере российского капитализма оживились». Вышедшая в свет книга Дж. Гранта – «главный вызов общепринятой мудрости о характере русской экономики в годы, предшествовавшие большевистской революции». О том, что это исследование вносит новое в дебаты о капитализме в России, пишет и американский профессор Т. Оуэн (93).
Дж. Грант высказывает мысль о том, что роль государства, даже в таком, казалось, зависимом от него предприятии, как Путиловский завод, преувеличивается (93, с. 5). Пример промышленного гиганта показывает, что эта акционерная корпорация действовала и развивалась в рыночных условиях так же, как крупное предприятие в Европе и США. Несмотря на различия в правовой сфере и политической системе с западными государствами, рыночные отношения определяли деятельность компании и в самодержавной России – она успешно функционировала и «процветала при самодержавном государстве» (93, с. 150, 151)[19 - За годы, прошедшие со времени выхода в свет книги Дж. Гранта, его идеи упрочились в историографии. См.: The Russian review. – 2009. – Vol. 68, N 2. – P. 339– 340.].
С этих позиций Дж. Грант и оценивает историографию российского предпринимательства, экономического развития страны. История российского бизнеса фактически еще не написана. А немногие исследователи, которые им занимаются, в основном изучают крах буржуазии в целом, последовавший в 1917 г., а не конкретных ее представителей и их бизнеса до революции. Историки заворожены этой трагической концовкой, и она сказывается на их изысканиях. Явное предпочтение в исследованиях отдается московским предпринимателям, их политической деятельности и амбициям, в ущерб петербургским, чья история заслуживает не меньшего внимания, учитывая их роль в модернизации России (93, с. 10, 11). Авторов даже новейших исследований Т. Оуэна и С. Маккеффри меньше интересует деловая практика предпринимателей, чем капитализм как система. Вписывая предпринимательство Путилова в эту систему, в экономическое развитие России, автор прослеживает эволюцию теории модернизации с ее «основоположника» А. Гершенкрона, считавшего, что индустриализацию в основном проводило государство, и Россия являла собой пример не столько исключительности, сколько отсталости в индустриализации. Р. Гатрелл и П. Грегори показали, что А. Гершенкрон преувеличил роль государства в промышленном развитии. Дж. Маккей выяснил, что частные предприятия играли заметную роль в привлечении иностранного капитала.
В настоящее время после некоторого спада интереса к этой теории она вновь в центре дискуссий о развитии России в позднеимперский период. Ныне высказываются две основные точки зрения на модернизацию, вокруг которых и кипят споры. Представители первой убеждены, что развитие России с 1861 г. вело к модернизации экономики и общества. Они считают Россию современной, указывая на урбанизацию, рост грамотности, бурное развитие промышленности и снижение доли сельского хозяйства в экономике и т.д. Сторонники второй точки зрения утверждают, что российские предприниматели вели дело в иных, чем на Западе, условиях, иной была история страны и ее политический строй. Поэтому, как полагают, например, Ф. Карстенсен и Г. Гурофф, Россия не модернизировалась, не смогла модернизироваться, хотя и индустриализовалась. Их поддерживает и Дж. Брэдли. Автор рассматривает и позиции других ученых: А. Чендлера, Й. Кассиса, Р. Рузы, Дж. Кипа, работы советских историков (А.Н. Боханова и др.).
Фактический материал этой книги Дж. Гранта и его исследования о торговле оружием «в эпоху империализма» (94) опровергают тезис Т. Оуэна о том, что «царское самодержавие и современная корпорация совершенно несовместимы» (93, с. 150). Своим содержанием книга спорит и с модификацией этого тезиса Т. Оуэна, считающего, что Р. Гатрелл «проник в логику самодержавного правления, которое одновременно и стимулирует экономическое развитие, и мешает ему» (186, c. 107).
В новейшей литературе указывается на «несовместимость» экономического развития страны, зарождение гражданского общества и т.д. с самодержавием, неспособным эффективно отвечать на эволюционные вызовы модернизации, требовавшей нового отношения государства к обществу (126, c. 9–10). Главным тормозом прогресса являлся самодержец (126, c. 9–25). В то же время в современной литературе отмечается, что принцип laissez-faire не был популярным в русском дискурсе (194, с. 220). Современная историография не ставит все точки над i: «Вопрос о русской модернизации остается» (93, с. 6). Проблема недостаточного распространения индустриализации и капитализма достойна серьезного анализа (194).
Московия ее позднего периода – это страна, ориентированная на эффективность реформ. И хотя кратковременные выгоды от реформ в течение десятилетий не перевешивали их издержек в более долгосрочном плане, это не должно вести к недооценке силы, энергии и намерений государственных деятелей Московии. Отставание России от европейских стран вынуждало ее принимать различные меры, чтобы догнать своих соседей. Сжимая десятилетия, если не столетия, органического развития в относительно короткие кампании, Россия должна была использовать методы и средства, которые были уникальными.
Центральная бюрократия, эффективно мобилизуя ограниченные ресурсы страны, играла ключевую роль в появлении России как великой державы в раннем современном периоде истории. XVII столетие было временем юридической экспансии и развития – происходили существенные изменения в законах. Они закрепляли множество обязанностей московитов и среди этих обязанностей не было места европейской идее права. В то же время происходили изменения политической системы.
Россия не стала современной в XVII в. Начало перехода к современности произошло скорее в середине XVII в., чем в эпоху Петра (153, с. 8), и только на рубеже XX столетия она стала соответствовать европейской модели в политике, экономике, общественном устройстве. Но свой путь к этому Россия начала благодаря преобразованиям XVII в. Хотя, как пишет С. Диксон, в России было так, что проводимая сверху модернизация в конечном счете не выводила страну из отсталости (56).
Дж. Котилейн (123), рассматривая в своей монографии проблему российской внешней торговли в XVII в., пишет о неразработанности этой темы. В дореволюционное время немногие вышедшие в свет работы имели описательный характер, а советским ученым приходилось встраивать экономическую историю в официальную детерминированную схему. Многое в российской истории торговли имело тенденцию быть не экономической историей, а, скорее, частью дипломатической истории.
Россия в XVII в. была вынуждена ввести учреждения, дававшие ей возможность конкурировать в военном отношении с ее более продвинутыми западными соседями в условиях, когда война становилась больше нормой, чем исключением. Ответ ее Западу заключался в установлении жесткого правительственного контроля над ключевыми производительными ресурсами, которые повлекли за собой, среди других вещей, стратификацию общества, введение крепостного права по Уложению 1649 г. Внешняя торговля играла важнейшую и до настоящего времени недооцениваемую роль в истории Московии. Самый ранний прецедент крупномасштабного ответа России на внешний спрос ее товаров – это поставки мехов, что способствовало расширению России на восток, в Сибирь. Интеграция России в международную торговлю произошла с учреждением голландской и английской торговых империй и развитием судостроения, что обратило бесконечные леса России и ее сельскохозяйственные изделия в ценные активы, стимулировало обработку лесоматериалов и экспорт продуктов аграрного сектора экономики. Россия переходила к более систематической эксплуатации земли. Колонизация Юга и Востока обеспечила ее доступ к новым землям и лесам. Крепостничество, устраняя проблему миграции крестьян, гарантировало устойчивые трудовые ресурсы в этих областях. Автор видит причинную связь между европейским спросом и ростом крепостничества, которое облегчило российский экономический ответ Европе – поставки ее товаров в XVII столетии. Страна была способна использовать свою интеграцию в глобальную экономику и стала наиболее политически успешным государством европейской периферии. Внешняя торговля была одной из самых простых и наиболее эффективных статей дохода для правительства. Внешний спрос «стимулировал протоиндустриализацию» (123, с. 507–508). Поставив вопрос о том, смогла бы Россия обрести ранг европейской державы без торговой революции XVII столетия, автор высказывает предположение, что «ответ был бы почти определенно отрицательный» (123, с. 514).
В сборнике «Российская и советская история»[11 - The Russian review. – 2009. – Vol. 68, N 2. – P. 334.] (198) большинство статей сосредоточиваются на личностях или эпизодах. Основная проблема, которую дискутируют авторы, – это анализ происхождения российских форм модернизации. Они находят в ней источник опасного разрыва между правителями и управляемыми. Этот разрыв исследуется и в других статьях сборника. Но между их авторами есть разногласия о том, когда произошел этот раскол населения и власти. Ч. Даннинг относит его к началу XVII в., когда романовская династия сумела усилить свою власть, власть автократии и ослабить сразу после Смуты участие в политике других слоев населения, эксплуатируя их сильное тогда стремление к стабильности и порядку. Другие исследователи видят начало разрыва в Петровском периоде, когда русская элита переделывала и себя, и страну в соответствии с тем, что она хотела, независимо от того, как это влияло на их подданных. Дж. Крэкрафт в статье «Революция Петра Великого» выразил это наиболее ясно. Но С. Юзитало в статье о М. Ломоносове показывает более широкое и опосредованное воздействие петровских преобразований на страну. Благодаря этому Ломоносов имеет имидж интеллектуального гиганта. Редактор пытается примирить столь различные точки зрения определением, что момент раскола включает и Смуту, и время Петра, хотя такая периодизация, на взгляд некоторых ученых, слишком широкая. Д. Во считает, что надо «посмотреть на ту “середину”, где революционные мысли и деяния Петра и его соратников пересекаются и самым удивительным образом сочетаются с “традициями” в народной жизни и мышлении» (249, с. 332). Для этого необходимо обратить внимание на религиозную составляющую в русской истории и культуре, привлечь новые источники и по-новому посмотреть на уже изданные (249, с. 330).
Проф. Дж. Крэкрафт (США) стремится ответить на вопрос, как «средневековое Московское государство стало современной Россией», которая начала играть важную и нередко решающую роль в Европе и в мире (50, с. 5). По его мнению, во время долгого и противоречивого правления Петра I большое историческое значение имели не только обретение Россией статуса великой державы (на чем делают акцент уже поколения историков, политиков, публицистов), включая модернизацию армии и флота, реформы церкви, основание Петербурга, установление абсолютной монархии, но и культурная революция, больше всего привлекающая внимание автора (51, с. VII).
По мнению Крэкрафта, за годы царствования Петра главные его преобразования в России имели революционный характер. В совокупности они «вызвали то, что можно справедливо назвать культурной революцией» (51, с. 158). Сущность этой революции – быстрая и широкая европеизация многих сторон жизни россиян. Такая европеизация была эквивалентна модернизации.
Северная война не была единственным фактором, запустившим петровскую революцию, даже в ее военном и политическом аспектах. Характер Петра, его чаяния и интересы наряду с интересами его приближенных (таких как Меншиков, Прокопович, Шафиров) также были ее важнейшим фактором. Сыграли свою роль и интересы новой петровской элиты, многие представители которой выдвинулись благодаря своей энергии и талантам.
Расширение социоэкономического и культурного разрыва на ранних стадиях модернизации происходило в большей части мира, и Россия не была исключением. Автор считает, что не следует осуждать Петра I за те условия, которые существовали в России 200 лет спустя после его смерти. Точно так же нельзя возлагать ответственность на него за те или иные меры тех, кто правил после него, особенно за глупость освобождения дворянства от обязательной государственной службы (1762) без освобождения крестьян, которое состоялось только в 1861 г. Петр Великий остается «одной из самых значительных фигур во всей современной истории» (51, с. VIII) (подробнее см. обзор в этом сборнике).
Век Просвещения – тема сборника «Россия в XVIII столетии: Общество, культура, экономика»[12 - The Russian review. – 2008. – Vol. 67, N 3. – P. 518–519.] – 40 статей, 24 на английском и 16 на русском языке; охват тем широкий: культурный, социальный, юридический, финансовый ландшафт России в век Просвещения (63). Большинство статей – о влиянии модернизации на дискурс и/или практику Российской империи и воздействие этого процесса на социальную и личную идентичность. Европейский дискурс передавался в российскую реальность людьми из разных социальных слоев, с различным образованием, в частности купцами, чтобы утвердить свою социальную и гражданскую идентичность. Христианский религиозный менталитет служил своеобразным мостом, по которому новые идеи из Европы переходили в русскую культуру, хотя в конце XVIII в. Россия еще не была гражданским обществом. Язык, как социальная конструкция, есть отражение своего времени, подчеркнуто в сборнике. Театры, парки, литература – через них проявлялся дискурс Просвещения. Сборник показывает важность междисциплинарной методологии. В нем отмечена роль Просвещения для России в деле постепенной передачи европейской культуры. Многие аспекты русской идентичности оказались в центре общественного внимания.
О Екатерине II зарубежные историки теперь пишут особенно много, подчеркивая ее «культуртрегерскую» роль в России (63, 167 и др.). И Дашкова, президент двух российских академий, имела «глубокое влияние на развитие образования, науки и учености в России» (255, с. 156) благодаря «нацеленности» Екатерины на развитие российской культуры. Но внешнюю политику Екатерины II оценивают не слишком высоко (см. обзор в этом сборнике).
Интерес исследователей к личности Екатерины выражается и в переиздании ее мемуаров (232), и в исследовании ее литературной деятельности (как драматурга), и даже как самого искусного садовода из российских правителей (207). Но этот интерес в конечном счете обусловлен стремлением понять ее роль в истории России. Даже, казалось бы, «невинный» сюжет о ней как о «садоводе», стремившейся превратить окрестности Петербурга в сад, имеет политический смысл; в частности и Г. Потёмкин, следуя ее примеру, пытался сделать Крым «садом империи». Авторы неизменно отмечают влияние на деятельность Екатерины идей Просвещения, хотя российские реалии нередко вносили свои коррективы, что сказалось, например, и в ее отношении к католичеству.
В историографии считается, что лучшая работа о Екатерине II написана И. Мадариагой (см. реферативный обзор в этом сборнике).
Книга американской исследовательницы М. Ковендер о культурной идентичности дворянства (39) – первая работа, в которой анализируется привилегированное сословие Тверской губернии в десятилетия, предшествующие отмене крепостного права, рассматривается в западной литературе как «вызов историографическому трюизму» о том, что дворянство стремилось жить в столицах, а не в своих имениях. Ковендер утверждает, что помещики бо?льшую часть времени проводили в родовых «гнездах», а не в Москве или Петербурге. Культурная идентичность провинциального дворянства освещается в связи с его политической культурой и его лояльностью власти. Касаясь экономики помещичьего хозяйства, автор допускает, что только меньшинство собственников имений стали энтузиастами ведения хозяйства на рациональной, научной основе.
Внимание историков привлекает и «гроза 1812 года» (70, 258 и др.). А. Замойский считает, что вторжение Наполеона в Россию было одним из самых драматических эпизодов в европейской истории, событием эпического масштаба, глубоко отразившимся на сознании поколений. Но слишком мало известно об этой трагедии французской армии, как и о войне в целом. По мнению А. Замойского, ни одна военная кампания в истории в ходе ее изучения не испытала такого воздействия политической конъюнктуры, как война 1812 г. Только в России за время после нее написано более 5 тыс. книг и вдвое больше статей, которые, однако, лишь затемняют эту тему. События войны и ее последствия поднимали вопросы о характере русского государства и его народа, подрывавшие существующий строй, первым проявлением чего и стало восстание декабристов.
Дж. Хартли (100) ставит вопрос, нуждались ли русские военные в усилении установленных социальных и политических структур или поддерживали изменения и модернизацию. Она отвечает, что несмотря на влияние 1812 г., появление вольнодумцев в офицерской среде, военные в целом поддерживали абсолютистскую монархию и крепостнический строй.
Рассматривая вопрос об экономической основе военной системы, недостаточно разработанный в литературе, она показывает, как финансировалась армия в условиях экономической отсталости. Армия снабжалась хорошо, но сельские и промышленные технологии оставались застойными и их способность удовлетворять растущие потребности армии убывали. Ограниченность производства была связана с принудительным трудом, и автор подчеркивает, что только строгий контроль над ресурсами давал возможность снабжать армию. Хартли рассматривает организацию военной службы: конфликт между гражданскими и военными, сложные отношения между гражданскими и военными судами, между властью и малыми народами в пограничных частях империи. Войны, которые вела Россия, не только укрепляли властные структуры и престиж монарха. Происходившие в Европе драматические перемены помогали русским сделать относительно спокойный переход к современной форме национальной идентичности. Неспособная изменить экономическую и социальную основу военной системы, монархия откладывала радикальные реформы. Поражение в Крымской войне показало, что поддержание военной мощи страны требует значительных экономических и социальных изменений. Но до 1850-х годов Россия оставалась стабильным и в военном отношении мощным государством.
В книге Д. Стоуна (219) – панорама развития вооруженных сил России за последние 500 лет и понимание того, почему Россия воевала так часто. Большое достоинство монографии С. Норриса (161), которая характеризуется в зарубежной литературе как «прекрасная», в том, что российский патриотизм и российская идентичность рассматриваются в художественном преломлении – через изображение войны в лубке, в цветных печатных картинках, циркулировавших сначала среди высших слоев населения, а затем, к середине XIX в., и в народе. Норрис пишет, что все русские были патриотами и свою национальную идентичность ощущали уже во время войны с наполеоновской Францией.
За рубежом используются и «экзотические» источники для понимания «атмосферы» в российском обществе в связи с военной тематикой. Западные специалисты считают, что военные художественные фильмы дают почувствовать «аромат и чувство времени» сильнее, чем печать; историки исследуют войну и как «поливалентный культурный символ» (257).
С темой войны исследователи связывают проблемы колонизации и национальных отношений. Дж. Хоскинг (19, 108) проводит идею о том, что строительство империи откладывало и затрудняло формирование русского национального самосознания.
Вообще, зарубежные историки с удивлением констатируют, что в последние десять лет происходит нечто революционное в изучении имперского прошлого России, в том числе лавинообразный рост литературы по этой тематике[13 - The Slavonic and East Europe review. – L., 2008. – Vol. 86, N 3. – P. 553; The Russian review. – 2009. – Vol. 68, N 2. – P. 170.]. Начало положено работами Дж. Форсайта и Ю. Слезкина о Сибири[14 - Forsyth A. History of the Native peoples of Siberia. – Cambridge, 1992; Slezkine Yu. Arctic mirrors: Russia and the small peoples of the North. – Ithaca; N.Y., 1994.]. Есть превосходные региональные исследования В. Мартин, Р. Джераси, П. Верта, М. Ходарковского, У. Сандерленда, А. Халида и др.
В 2007 г. вышла в свет книга о Российской империи в 1700– 1930 гг. (200). В ней 18 статей. Авторы – из России, США и Европы. Показаны взгляды на империю из центра и регионов. Рассказывается об идеях, чаяниях людей того времени, учреждениях. В этом сборнике статей представлено не только плюралистическое разнообразие в империи, но показана и ее гибкость в проведении своей политики и умение преодолевать трудности и адаптироваться к ним. Россия в значительной степени была суперэтническим союзом элит, а патроно-клиентские связи обеспечивали стабильность в различных регионах страны.
А. Рибер насчитывает четыре «постоянных фактора» или детерминанты российской и советской истории: подвижность и неустойчивость границ России; многонациональное население; экономическая слабость; «культурное отчуждение», которое он определяет как «амальгаму географических, политических и исторических факторов, которые вносят свой вклад в восприятие России аборигенами и иностранцами»[15 - Slavic review. – 2008. – Vol. 67, N 2. – P. 528–530.].
В россиеведении все активнее исследуются взаимоотношения центра и регионов и повседневная жизнь в национальных районах. Однако в зарубежной литературе по-прежнему большой разброс мнений в отношении «национального вопроса», жизни этносов.
В 2007 г. в Японии был опубликован сборник статей «Империология» (112). Цель сборника – «отделить широко принятые теории» (112, с. 6) от массы эмпирического материала, который произвела империология со времени коллапса Советского Союза, а также поставить вопросы о сравнении геополитики и экономики, которые игнорировались. В сборнике прозвучала и мысль о том, что империологии не следует отделять себя от общей и социальной истории. В целом сборник показывает, и это было отмечено в зарубежной научной печати, что исследование Российской империи идет по пути интернационализации[16 - The Russian review. – 2008. – Vol. 67, N 3. – P. 532–533.].
«Новое» иногда используется в работах историков, хотя это и «не делает погоду» в россиеведении для новой аргументации старого. Так, в статье о народе коми утверждается, что русские интеллигенты помогали русификации, считая русскую культуру выше. Автор полагает, что этнические стереотипы, распространенные среди русских, способствовали политике царского правительства в отношении этнических групп (114, с. 199). Русские авторы XIX в. не верили в способность самостоятельного культурного развития коми и ожидали скорую и неизбежную их русификацию (114, с. 218). Автор приводит слова Энгельгардта о том, что как только русским языком овладеет местный народ и разовьется рыночная экономика, исчезнет разница между русскими и нерусскими. Энгельгардт был убежден, что когда встречаются два племени, менее цивилизованное ассимилируется. Согласно Энгельгардту, это был общий исторический принцип, который подтверждался историей русской колонизации (114, с. 219).
Русские в XIX в. считали коми одним из многих «крестьянских народов без истории». По их мнению, зыряне и другие финно-угорские народы отступали перед лицом российского продвижения и уже столетия находились в процессе русификации. Этот «объективный» процесс идет к естественному концу – все зыряне станут русскими. Для русской элиты коми были «этнографическим материалом» относительно высокого качества, сравнительно с другими примитивными племенами, но тем не менее «материалом для строительства русского государства». И поскольку коми скоро станут русскими, это – естественный и желательный результат, всякие противодействующие ему факторы должны быть уничтожены. Решению этой задачи имперской политики служил русский национализм.
Три мощных течения общественной мысли существовали в XIX в.: устойчивый этнический стереотип, эволюционизм и растущий русский национализм. Они «взаимодействовали и влияли на образованных русских». «Русская империя, русская “высокая культура” считались моделью цивилизации» (114, с. 219). Русские литераторы писали не для того, чтобы оправдать национальную политику правительства. Однако они исходили из тех же самых предположений, давая информацию, которая определялась этими заключениями, и своими работами они помогали распространять и укреплять этнические стереотипы, уже циркулирующие в русском обществе. Тексты литераторов и национальная политика правительства в регионах, в сущности, были двумя сторонами одной медали.
Русские авторы изображали реальность как они ее понимали. Подобным образом балтийские немцы смотрели сверху вниз на эстонцев и латышей, а поляки – на литовцев и белорусов. Элиты доминирующих этнических групп не верили, что «крестьянские народы без истории» могут достичь независимого культурного развития (с. 220).
Однако они недооценивали потенциального национализма среди малых народов. Идея национализма распространялась по России не только среди доминирующих этногрупп. В этнических группах выкристаллизовывалась интеллигенция и начинала работу по эмансипации своих народов. Иногда новые нации создавались из «этнографического материала», который доминирующие этнические элиты планировали использовать для своих целей. Вопреки тому, что ожидали образованные русские, коми не исчезли и не были поглощены «более развитой» русской цивилизацией. В XIX в. начался подъем национализма коми, который уравновешивал политику правительства в отношении них. Однако этнические стереотипы некоторых образованных русских в XIX в. имели тенденцию сопротивляться ее изменению (114, с. 220).
В зарубежной историографии уделяется внимание не только «крестьянским народам», но и истории многонациональных городов, особенно Одессе, из-за ее историко-этнографического и культурного разнообразия (29, 34, 137 и др.). И здесь иногда допускается «перебор». В книге А. Маколкиной об этом городе явно преувеличивается роль итальянцев. Она, в частности, пишет: Одесса – «культурная Мекка всей русской и позже советской империи» (137, с. 2). «У русских не было своей древней истории» (137, с. 7). «Итальянцы внесли культуру в отсталую страну, которая была в сущности мирской и языческой, и русские были забытыми Богом людьми» (137, с. 39), церковь играла чисто символическую роль «в жизни русского, преимущественно сельского, общества» (137, с. 15). Под пером этого автора даже отцы-основатели Одессы, в том числе Хосе де Рибас, становятся итальянцами. Такие «исследования» вызывают отповедь со стороны западных ученых. Так, Ф. Скиннер определил эту книгу как «ревизионистскую работу худшего сорта». Он пишет, что нет никаких оснований считать, что Одесса стояла во главе модернизации России. Этот странный взгляд на русскую историю обусловлен, по его мнению, «италоцентристским» подходом, и поэтому автор книги часто прибегает к гиперболам. Кроме того, рецензент указал, что книга и написана, и издана плохо, и не рекомендовал иметь ее на полках академических библиотек[17 - The Russian review. – 2008. – Vol. 67, N 4. – P. 703–704.].
Новое видение национализма в России XIX в. – в монографии С. Рэбоу-Эдлинг (180) (ун-т Упсалы, Швеция). Славянофильство, считает она, может быть охарактеризовано как «культурный национализм». В книге сделана попытка доказать, что славянофильство – это призыв к социальному и культурному обновлению, и что славянофилы отнюдь не были консервативными защитниками традиционного общества (180, с. 136).
С. Рэбоу-Эдлинг отходит от бытующей в западной историографии интерпретации славянофильства как «консервативной утопии», показывает «социальное измерение» этого учения. Для славянофилов с их культурным национализмом свойственно убеждение, что реформирование общества возможно только в ходе морального и культурного возрождения нации (180, с. 1–3). Интеллектуальная элита должна была дать импульс этому возрождению. Суть русского просвещения – духовность, не отрицающая достижений западной науки, и приспособление их к российским условиям. Это должно было органично ввести Россию в семью европейских народов.
Формирование русской национальной идентичности шло в русле европейских идей, и прежде всего, Просвещения. Славянофилов нельзя считать консерваторами. Различия между ними и западниками были, но и те, и другие являлись сторонниками реформ. Громадные успехи русской национальной культуры во второй половине XIX – начале XX в. свидетельствуют о том, что главные составляющие учения славянофилов – духовность, акцент на развитии национальной культуры доказали свою состоятельность.
Автор рассматривает «культурный национализм» как своеобразную форму славянофильства, содержанием которого был прогресс. Славянофилы занимали свою «нишу» в обществе и отличались от либеральных националистов тем, что имели свой взгляд на то, как идти к прогрессу, – через моральное и социальное обновление и не сторонясь демократической политики.
Повышенное внимание зарубежные историки обратили на книгу Р. Крюса (52). Он исследует все аспекты противоречивых отношений власти с исламом во многих регионах в 1780–1917 гг. Основные источники, используемые Крюсом, это судебные отчеты и ходатайства, представленные мусульманами в учреждения царской администрации.
Вывод Крюса о том, что в течение всего этого периода для большинства исламских общин империи политика государства в области религии была вполне приемлемой (52, с. 349), и что они находили общий язык с государством и понимали друг друга, вызвал критические замечания рецензентов за мягкость тона в отношении политики государства[18 - The Slavonic and East Europe review. – L., 2008. – Vol. 86, N 3. – P. 353–357.].
В США историей религии и церкви в России плодотворно занимаются Г. Фриз, П. Валери, В. Шевцова, Н. Кизенко, К. Чулос и др., которые, как и их российские коллеги, пересматривают роль церкви в истории позднеимперской России. В 2008 г. увидела свет книга Дж. Хедды (101), в которой, как и в ряде исследований историков нового поколения, показано, что в конце XIX в. священники отнюдь не представляли собой консервативную промонархическую массу. Напротив, высокообразованные прогрессивные священники под влиянием современных теологов, таких как архимандрит Федор (Бухарев), активно работали с паствой, создавали и руководили воскресными школами, приютами, домами призрения и т.п., примиряли последствия модернизации и веру.
Одна из спорных проблем касается понятия «народной религии», противостоящей религии «официальной». Но, как признают сами историки, пока это еще очень мало исследованная тема. Истории церкви московского и имперского периодов, ее деятелям, расколу, религиозным сектам посвящена большая литература.
Многое по-новому видится в истории России и авторам сборника с характерным названием «Россия в европейском контексте. 1789– 1914. Член семьи» (194), в котором они приходят к выводу, что Россия, при всех ее особенностях, – «типичная европейская страна» (194, с. 6).
Статья одного из редакторов сборника, профессора М. Меланкона, «Взгляды России на настоящее и будущее. 1910–1914: Что говорит нам пресса» (автор проанализировал более ста различных российских газет того времени) – попытка переосмысления прошлого России в русле новой культурной истории (147). В статье освещаются представления русского общества о политике, правах человека, экономическом развитии, гражданском сознании, его взгляды на рабочий вопрос в предвоенные годы. И хотя автор отмечает, что традиционная интерпретация углубляющейся пропасти между правительством и обществом верна, он, однако, видит и несходство между суждениями историков и российской действительностью тех лет (147, с. 203). По мнению М. Меланкона, российское общество считало, что во всех сферах деятельности страна развивается в соответствии с западными, европейскими моделями. О «специфическом русском пути», о «русской идее» во всех исследованных газетах не было и речи. Более того, пресса и другие общественные дискурсы уделяли мало внимания автократической культуре, темным массам и социальной фрагментации. У автора есть некоторые сомнения в том, что высказанные в прессе соображения адекватно отражали реальность. Возможно, было и смешение отвлеченного философствования на страницах газет с реальной действительностью. Но он тем не менее констатирует: «Во всяком случае мы исследовали новое гражданское сознание до формирования каких-либо теорий о предреволюционной России» (147, с. 222). В том же ключе пишут и другие участники сборника. Так, немецкий историк Л. Хефнер, проведя сравнительный анализ различных русских обществ с европейскими, подчеркнул, что это сравнение не только не выявляет уникальности и отсталости страны, но, напротив, показывает быстрое развитие в стране буржуазной культуры (194, с. 151). Исследования России предвоенного времени, по заключению М. Меланкона, оттеняют роль Первой мировой войны как истинной разрушительницы империй, а событий 1917 г. – как объясняющих приход к власти большевиков (147, с. 222).
В необычном, новом ракурсе, с точки зрения искусствоведа рассматривает жизнь российского общества в годы Первой мировой войны американский историк А. Коэн (46). На его взгляд, появление русского модернистского авангарда стало результатом интенсивной общественной и культурной жизни в стране, свидетельством ускоренного развития гражданского общества, на что оказала стимулирующее воздействие военная пора. Прежде в научной литературе российское гражданское общество этого периода или недооценивалось, или совсем не принималось во внимание. Но именно напряжения военного времени усилили и те тенденции в общественной и культурной жизни, которые существовали до августа 1914 г. В частности, в 1915– 1916 гг. художественные салоны побили все рекорды по выставкам и продажам художественных произведений.
Проблемы русской исключительности пересматриваются и в связи с переосмыслением теории модернизации (152), занимающей одно из ключевых мест в объяснении предпосылок революции 1917 г. Книга американского ученого Дж. Гранта, новационная уже по избранной теме – первое исследование в зарубежной историографии деятельности одного из столпов российского бизнеса А.И. Путилова, справедливо аттестуется С. Маккеффри как бросающая вызов «принятым идеям о русском капитализме в конце старого режима». В унисон высказываются и другие специалисты. Так, в аннотации на эту монографию отмечалось: «С появлением капиталистической системы в Российской Федерации в 1990-х гг. научные дискуссии о характере российского капитализма оживились». Вышедшая в свет книга Дж. Гранта – «главный вызов общепринятой мудрости о характере русской экономики в годы, предшествовавшие большевистской революции». О том, что это исследование вносит новое в дебаты о капитализме в России, пишет и американский профессор Т. Оуэн (93).
Дж. Грант высказывает мысль о том, что роль государства, даже в таком, казалось, зависимом от него предприятии, как Путиловский завод, преувеличивается (93, с. 5). Пример промышленного гиганта показывает, что эта акционерная корпорация действовала и развивалась в рыночных условиях так же, как крупное предприятие в Европе и США. Несмотря на различия в правовой сфере и политической системе с западными государствами, рыночные отношения определяли деятельность компании и в самодержавной России – она успешно функционировала и «процветала при самодержавном государстве» (93, с. 150, 151)[19 - За годы, прошедшие со времени выхода в свет книги Дж. Гранта, его идеи упрочились в историографии. См.: The Russian review. – 2009. – Vol. 68, N 2. – P. 339– 340.].
С этих позиций Дж. Грант и оценивает историографию российского предпринимательства, экономического развития страны. История российского бизнеса фактически еще не написана. А немногие исследователи, которые им занимаются, в основном изучают крах буржуазии в целом, последовавший в 1917 г., а не конкретных ее представителей и их бизнеса до революции. Историки заворожены этой трагической концовкой, и она сказывается на их изысканиях. Явное предпочтение в исследованиях отдается московским предпринимателям, их политической деятельности и амбициям, в ущерб петербургским, чья история заслуживает не меньшего внимания, учитывая их роль в модернизации России (93, с. 10, 11). Авторов даже новейших исследований Т. Оуэна и С. Маккеффри меньше интересует деловая практика предпринимателей, чем капитализм как система. Вписывая предпринимательство Путилова в эту систему, в экономическое развитие России, автор прослеживает эволюцию теории модернизации с ее «основоположника» А. Гершенкрона, считавшего, что индустриализацию в основном проводило государство, и Россия являла собой пример не столько исключительности, сколько отсталости в индустриализации. Р. Гатрелл и П. Грегори показали, что А. Гершенкрон преувеличил роль государства в промышленном развитии. Дж. Маккей выяснил, что частные предприятия играли заметную роль в привлечении иностранного капитала.
В настоящее время после некоторого спада интереса к этой теории она вновь в центре дискуссий о развитии России в позднеимперский период. Ныне высказываются две основные точки зрения на модернизацию, вокруг которых и кипят споры. Представители первой убеждены, что развитие России с 1861 г. вело к модернизации экономики и общества. Они считают Россию современной, указывая на урбанизацию, рост грамотности, бурное развитие промышленности и снижение доли сельского хозяйства в экономике и т.д. Сторонники второй точки зрения утверждают, что российские предприниматели вели дело в иных, чем на Западе, условиях, иной была история страны и ее политический строй. Поэтому, как полагают, например, Ф. Карстенсен и Г. Гурофф, Россия не модернизировалась, не смогла модернизироваться, хотя и индустриализовалась. Их поддерживает и Дж. Брэдли. Автор рассматривает и позиции других ученых: А. Чендлера, Й. Кассиса, Р. Рузы, Дж. Кипа, работы советских историков (А.Н. Боханова и др.).
Фактический материал этой книги Дж. Гранта и его исследования о торговле оружием «в эпоху империализма» (94) опровергают тезис Т. Оуэна о том, что «царское самодержавие и современная корпорация совершенно несовместимы» (93, с. 150). Своим содержанием книга спорит и с модификацией этого тезиса Т. Оуэна, считающего, что Р. Гатрелл «проник в логику самодержавного правления, которое одновременно и стимулирует экономическое развитие, и мешает ему» (186, c. 107).
В новейшей литературе указывается на «несовместимость» экономического развития страны, зарождение гражданского общества и т.д. с самодержавием, неспособным эффективно отвечать на эволюционные вызовы модернизации, требовавшей нового отношения государства к обществу (126, c. 9–10). Главным тормозом прогресса являлся самодержец (126, c. 9–25). В то же время в современной литературе отмечается, что принцип laissez-faire не был популярным в русском дискурсе (194, с. 220). Современная историография не ставит все точки над i: «Вопрос о русской модернизации остается» (93, с. 6). Проблема недостаточного распространения индустриализации и капитализма достойна серьезного анализа (194).