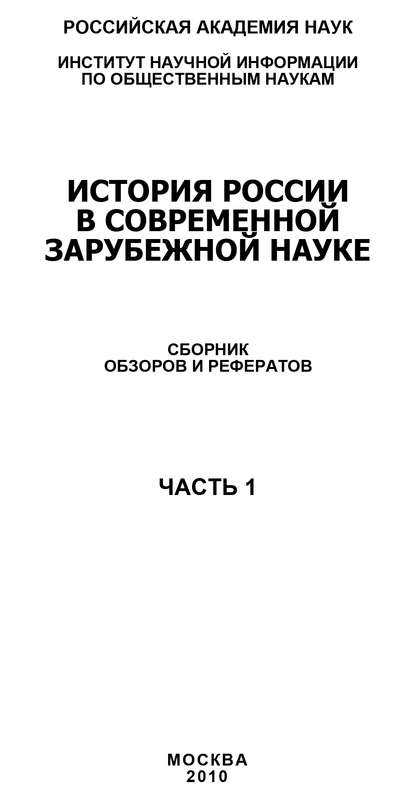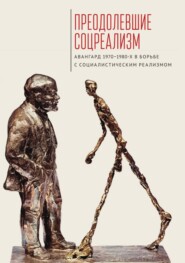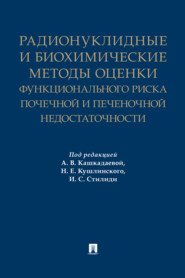По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История России в современной зарубежной науке, часть 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
С. Смит выступает против распространенного мнения, что революции, русская и китайская, «сдерживали модернизацию» (213, с. 235). Смит остерегается чрезмерного использования «социальных конструкций» и особенно «дискурса», однако признает, что только через язык и практику символов субъективные элементы опыта могут быть организованы и исторически восстановлены. Изучение самопознания и особенно сложный процесс формирования индивидуальной и коллективной идентичностей требует идти через методологические «минные поля». Изучение значения опыта с необходимостью затрагивает трудные вопросы индивидуальной и коллективной психологии, социальные и культурные области, но историки не имеют безупречного инструментария для их анализа.
Напряжение капиталистической модернизации в известной степени сказывалось на идентичностях, гендерной практике или классовых конфликтах, и они были существенной частью революционной конъюнктуры общества.
По его мнению, можно полнее выяснить то, почему сельские мигранты в городских условиях были отзывчивы к революции, если рассматривать их опыт и идентичность наряду с изучением влияния «капиталистической действительности» на экономические, социальные и политические отношения в обществе». Для Смита индивидуальная идентичность и классовый коллективизм – не антиподы. Классовая идентичность может рассматриваться как ответ на эксплуатацию, на несправедливость. Чувство человеческого достоинства индивида становится средством политической критики, когда заставляет людей объединяться для борьбы за социальные и политические изменения (213, с. 110)[20 - The Russian review. – 2009. – Vol. 68, N 1. – P. 142–145.].
Никто из историков не оспаривает того, что модернизация и экономическое развитие страны оказывали сильнейшее влияние и на его социальную стабильность. Но то, каким было это влияние и какую роль оно сыграло в «роковые годы» в России, всегда обсуждалось весьма активно. Проблемы социальной стабильности и поляризации общества привлекают внимание ученых. Иногда у них возникают и неожиданные параллели и ассоциации. В основном они с разных сторон «щиплют» ту модель, которую Л. Хеймсон предложил еще в 1964–1965 гг. и скорректировал в 2000 и 2006 гг. (96, 97, 194, с. 221) и которую восприняли многие его коллеги. В новой книге о Ленском расстреле Хеймсон не отказывается от тезиса о том, что модернизация обрекала царизм на гибель. Но в отличие от своих предшествующих работ о стачках, в исследовании которых он использовал прежде всего статистические данные, в этой монографии он сделал акцент на изучении языка рабочих требований, их настоянии на вежливом обращении с ними предпринимателей и др. Современные авторы критикуют Хеймсона за то, что в его интерпретации российское общество в предреволюционные годы было безнадежно расколото. Оно выступало против правительства в целом, и в то же время не было мира между его различными социальными слоями. Неудача деятелей Февральской революции утвердить либеральный конституционализм вела к дальнейшему обострению внутренних противоречий, и только радикальный авторитаризм, такой, какой был навязан большевиками, открывал перспективу сохранения государства от действия мощных центробежных сил, развязанных социальной борьбой (194, с. 203).
Профессор М. Меланкон и его коллега А. Пэйт показывают, что такого катастрофически резкого разделения в русском обществе не было (194, с. 223). И даже в своей книге о Ленском расстреле рабочих в 1912 г. М. Меланкон утверждает, что историю российского общества и государства можно лучше понять, исходя из модели «социального согласия», чем модели «общественной фрагментации» (148, с. 153). А. Пэйт отмечает растущее сознание рабочих, которые стремились сами устроить свою жизнь, – не особенно склоняясь к политическим поводырям, большевикам, например, как это проявилось при выборах в страховые кассы. Для А. Пэйт очевидно: рабочие верили, что государство и работодатели обеспечат их экономическое и социальное благополучие. В представлении рабочих индустриализация вела к политическим, социальным и экономическим изменениям, которые, как они считали, улучшат их жизнь. Только политическая борьба революционных интеллигентов, повлиявшая на ход страховой кампании, лишила рабочих возможности действовать самостоятельно и понять свою роль в гражданском обществе (194, с. 198).
Р. Маккин считает, что большинство рабочих не обладали социалистическим мировоззрением до февраля 1917 г. Довоенные стачки были направлены на улучшение жизни и труда и не носили антикапиталистического характера. Политизация рабочих началась в месяцы, последовавшие за отречением Николая II (126, с. 3). Как сказано в одной из статей о царской охранке, она действовала столь эффективно, что парализовала организованную оппозицию. Профессиональные революционеры не приняли участие в Февральской революции (126, с. 60). Т. Тэтчер замечает, что такая партия отличается от той, которая изображается в мифах о революционном рабочем классе. Впрочем, и эти исследователи соглашаются в том, что дело эволюционного реформизма было проиграно еще до начала Первой мировой войны из-за рабочей политики самодержавия. Ограничения легальной деятельности рабочих организаций и репрессии вызывали недовольство мастеровых, подозрения и вражду по отношению к власти. А тяжелые условия жизни, которые усугубила война, сделали их восприимчивыми к радикальным лозунгам, и в 1917 г. они в большинстве своем поддержали социалистов (126, с. 4, 116–117).
Д. Кип показывает, что еще в 1905 г. террор достиг своей цели – политических изменений. Тогда забастовки, бунты и демонстрации вынудили царя пойти на реформы (185, с. 22). Изучая работы Л. Хеймсона и вопрос о том, сыграла ли роковую роль в падении царизма мировая война, Д. Саундерс, проанализировав влияние войн XIX в. на рабочих, пришел к выводу, что в годы Первой мировой войны было не усиление существовавших ранее тенденций, а, скорее, «катастрофа войны», которая привела царизм к гибели (185, с. 57).
Вообще, сами зарубежные исследователи признают, что заниматься историей рабочего класса России теперь не модно – «в фаворе» культурная история, национальная тематика, и только немногие ученые продолжают ее разрабатывать, хотя и констатируют, как это делает, например, американский ученый Д. Конкер, что «классовая теория находится в кризисе» (121, с. 7). И все же Конкер и немногие ее сторонники убеждены, что термин «класс» необходим в исследовательской работе как аналитическое понятие. Нравится кому это слово или нет, его нужно принимать серьезно. Каким бы сильным ни было у кого-либо желание отбросить классовый подход, – сделать это будет трудно до тех пор, пока остается противоречие между работодателями и рабочими. Концепты «культура», «гендер», «нация» ныне властвуют в историографии, но и концепт «класс» будет существовать в ней и разрабатываться дальше[21 - The Russian review. – 2006. – Vol. 65, N 2. – P. 340–341.].
Английский историк Д. Мун оценивает социальную стабильность на протяжении нескольких столетий и усматривает в веках три очага смуты: 1598–1613, 1905–1907, 1917–1921 гг. За исключением этих трех кризисов стабильность «была нормой» (155, с. 55). И в конце существования императорской России крестьяне начали медленно и постепенно создавать новую и широкую идентичность, так как они стремились приспособиться к меняющемуся миру, частью которого были (126, с. 141). Собственно, неотзывчивости крестьян на революционную смуту, их стремлению жить законопослушно и решать возникающие спорные дела миром посвящена и работа Д. Бербанк о волостных судах, материалы которых говорили языком самих крестьян и на котором их пыталась понять исследовательница. И, как она полагает, не вина, а беда крестьян, что их втянули в кровавый кошмар революционного междоусобия (36).
Книга Бербанк – новаторская работа, которая «резко изменит наш взгляд на юридические ценности и практику крестьянства»[22 - The Russian review. – 2006. – Vol. 65, N 1. – P. 138.], – так высоко оценили монографию Бербанк в научной литературе.
И работа К. Годэн (85) – одна из самых заметных в ряду новых книг об отношениях между российским крестьянством и имперским режимом. В последнее десятилетие появились исследования по этой теме (Дж. Бербанк, Г. Попкинс, Дж. Бёрдс, С. Франк, Д. Мун, Дж. Паллот). Уже накопилось немало свидетельств, разрушающих представление о российской деревне как о непроницаемой или вечно находящейся в пассивном сопротивлении государству. Эта монография – одна из тех появляющихся в последние годы работ, которые бросают вызов стандартной интерпретации последнего имперского периода как борьбе между «реформирующим государством» и сопротивляющимся крестьянством. Годэн показывает, что существовало взаимодействие между государством и крестьянством на почве «закона и в рамках административной структуры».
В течение двух столетий история российской культуры была во власти концепции «двух Россий»: крестьянской и некрестьянской. Это привело к набору априорных и самодовлеющих культурных критериев. Если речь шла о крестьянстве, то это – о России отсталой, традиционной, антирыночной, общинной, эгалитарной и антигосударственной. Все, что вступает в контакт с крестьянами, «окрестьянивается». Изучая земства, Франциска Шедьюи исследовала жизнь крестьян как часть общества (205). Она исследовала и социально-экономические условия деревенской жизни, структуру и финансовую деятельность уездного земства, земского собрания, его функционирование, поведение крестьян в связи с земскими решениями, выявила характер участия крестьян в «политике».
Автор показывает, что даже в губернии (Воронежской), которую в конце XIX – начале XX в. считали типично «отсталой», находившейся в эпицентре аграрной проблемы страны, крестьяне активно участвовали в работе земства. Во многих случаях, имея лучшую посещаемость, чем представители других сословий, порой получали большинство и могли влиять на результат голосования на собрании. Предложения и проекты, за которые крестьяне голосовали, были в значительной степени те, которые могли улучшить их экономическое благосостояние, оживить местную экономику, например, содержание дорог и мостов, открытие новых или поддержка существующих рынков, строительство и содержание школ и больниц, налогообложение, агрономическая помощь. Участие крестьян в деятельности земств становилось активнее, несмотря на уменьшение их представительства после 1890 г., – они видели выгоды от такого участия.
Степень и характер участия крестьян в земстве отразили уровень модернизации в их уезде. Чем он был более экономически развит, тем активнее крестьяне добивались земской помощи. Это было характерно для бывших государственных крестьян (большие деревни, бо?льшее количество земли и бо?льшее экономическое разнообразие), для прежних однодворцев и украинских казаков.
Прежние крепостные (имели и меньшее количество земли, и менее экономически развитые) были не столь активны в земствах и для достижения своих целей больше полагались на традиционный патернализм. В 1905–1906 гг. восстания вспыхивали чаще там, где было меньше возможностей для экономического развития и использования земства. Представителями крестьян были в основном местные должностные лица и более состоятельные крестьяне, уже имевшие опыт посредничества с учреждениями вне деревни.
Традиционная в научной литературе точка зрения о пассивности или безразличии крестьян к земству далека от результатов изучения, которое провела Ф. Шедьюи. Крестьяне в исследованных четырех воронежских уездах участвовали в работе земских учреждений и не пытались «окрестьянивать» их. Приспосабливаясь к условиям рыночной экономики при все бо?льшей помощи возникающего гражданского общества, они становились его частью. Исследование Шедьюи – в ряду тех новых работ, которые бросили вызов традиционной интерпретации истории крестьянства имперской России[23 - The Slavic review. – 2008. – Vol. 67, N 1. – P. 237–238.].
К монографиям о крестьянстве примыкает и сборник статей о восстаниях в России, начиная со Смутного времени до Тамбовского выступления крестьян в 1920–1921 гг. (149). В его 16 статьях исследуются следующие выступления: Болотникова в 1606–1607 гг., волнения в Москве в 1648 и в 1662 гг., Степана Разина в 1670–1671 гг., стрельцов в 1682 и в 1698 гг., Булавина в 1707–1708 гг., уральских рабочих в 1754–1766 гг., Колиивщина в 1768 г., волнения во время чумы в Москве в 1771 г., восстание Пугачева в 1773–1774 гг., холерный бунт в Петербурге в 1831 г., картофельные бунты в 1834 и 1841– 1843 гг., выступления и письменные протесты крестьян в 1905– 1906 гг., Тамбовское восстание 1920–1921 гг. Все это рассматривается на основе главным образом изданных источников и изучения русской, немецкой и английской исторической литературы. Акцент ставится не столько на новых данных, сколько на рассмотрении событий в их историческом контексте, на «критике и изменении их интерпретаций, особенно марксистско-ленинского анализа советской эпохи» (149, с. 234).
В вводной статье критически рассмотрена концепция классового конфликта в исследованиях истории российских беспорядков и бунтов. Такой «камертон» дал и соответствующее «звучание» статьям других участников сборника. Например, М. Криспин считает, что в восстании Болотникова «участвовал союз гетерогенных социальных групп», выступавший с династическими целями. И другие авторы иначе, чем прежде, оценивают восстания в России. Так, если раньше подчеркивался антифеодальный и крестьянский характер Булавинского восстания, то в этой книге оно характеризуется как попытка казаков отстоять свой традиционный образ жизни. По сути, в том же ключе истолковываются восстание Разина, бунт стрельцов и восстание Пугачева: стрельцы и казаки пытались сохранить свою старую культуру, в которую вторгались новые, принесенные модернизацией, порядки. Большинство выступлений XVI–XVII вв. представляли собой попытки казаков и стрельцов, городского населения и крестьян предотвратить изменения в их статусе или утрату привилегий. К середине XVIII в. восстания почти потеряли эту особенность, желание вернуться к «старине» – недовольство теперь порождалось специфическими проблемами, вину за которые восставшие возлагали на органы власти. Так или иначе, классовые причины восстания или отсутствовали или не имели принципиального характера. Так, несмотря на то, что от холеры прежде всего страдали низшие слои населения, петербургские бунты (1831) не содержали никаких элементов классового негодования городских низов. Не было такое негодование и основной причиной московских беспорядков во время чумы. Тамбовское восстание 1920–1921 гг. – это выступление крестьян против аграрной политики большевиков. Ему уделяется повышенное внимание в историографии и уже есть «новое понимание Тамбовского восстания» и пересматривается «концепция самого характера народного восстания во время Гражданской войны»[24 - The Russian review. – 2009. – Vol. 68, N 2. – P. 347.].
Лейтмотив сборника: акцент на классовой борьбе, который ставился в марксистской литературе о восстаниях, по меньшей мере, преувеличен. И это особенно ясно тогда, когда каждое массовое выступление изучается «в его собственной культурной, экономической, социальной и политической среде» (149, с. 234).
В целом, в новейших исследованиях зарубежных историков проводится своего рода «реабилитация» дореволюционного крестьянства, которое теперь часто рассматривается ни «бунташным», ни чрезмерно эксплуатируемым и отсталым, а претерпевающим сложную эволюцию в социальном, экономическом и культурном отношении. Прервала эту эволюцию война, роковые последствия которой гибельно отозвались на судьбе крестьянства – большинства населения страны. Революция 1917 г. рассматривается в зарубежной литературе как «трагедия народа» (69).
Народные выступления освещаются и в сборниках, приуроченных к 100-й годовщине революции 1905 г. (202, 236). Хотя этот юбилей прошел в России почти незамеченным, прежде всего из-за царящей сейчас «атмосферы враждебности ко всем формам революционной деятельности»[25 - The Russian review. – 2006. – Vol. 65, N 2. – P. 332.], Центр восточноевропейских исследований в Кильском университете организовал ряд лекций, которые были изданы (202). Известные историки рассматривают революцию 1905 г. в регионах, ее социальные аспекты и восприятие ее современниками. Они полагают, что три существенных фактора характеризуют события 1905 г. в России: как переворот в государстве и в его юридической системе, усиление социальных массовых движений и появление идей обновления. В книге показана связь между Русско-японской войной, которая была империалистической, и революцией, ставшей «последствием социально-экономической модернизации».
По мнению авторов другого сборника, для России было несчастьем, что буржуазная революция, как можно было бы определить события 1905 г., произошла тогда, когда уже существовало мощное радикальное движение, стремившееся играть решающую роль в политике (236). Рабочий класс «решительно способствовал успеху революции 1905 г.»[26 - The Russian review. – 2008. – Vol. 67, N 4. – P. 710–711.]. В литературе отмечается и роль восстаний в армии и на флоте (27).
Непосредственно Русско-японской войне посвящено несколько сборников. В результате международных конференций и семинаров, которые начались в Хайфе в 2001 и закончились в Японии в мае 2005 г., были изданы два тома и специальный выпуск журнала «The Russian review» (2008. № 1). Цель этих многочисленных встреч состояла не только в том, чтобы отметить столетие Русско-японской войны, но и пересмотреть, переписать ее историю. В предисловии к первому тому Р. Ковнер заявляет, что авторы двух томов (всего 49 статей) разделяют общую мысль о Русско-японской войне как «действительно поворотной точке в новой истории», так как она далеко вышла за пределы Манчжурии и Восточной Азии, внесла свой вклад в череду событий, которые привели к исчезновению гегемонии европейских держав в результате Первой мировой войны. В западной историографии высказывается мнение, что сила этого сборника в статьях о военной разведке, культуре и влиянии войны на весь мир. Ковнер утверждает, что Русско-японская война не была главной причиной Первой мировой войны, а только ускорила ряд уже протекавших процессов (188, т. 2, с. 308). В целом же двухтомник и показывает, что «Русско-японская война мостила дорогу катастрофе, которой стала Первая мировая война»[27 - The Russian review. – 2009. – Vol. 68, N 2. – P. 341–342.].
По-новому Русско-японская война рассматривается и в немецком сборнике (125). Новое – это прежде всего исследование войны с использованием междисциплинарного подхода историков к событиям войны, выявившегося в 2004–2005 гг. на конференциях, посвященных столетию войны. Русско-японская война – больше уже не дело только классической, дипломатической и военной истории, но также и междисциплинарных культурных исследований. В фокусе внимания новых публикаций не только Япония и Россия, но и территории, на которые распространилась война, – Китай и Корея, и то влияние, какое она оказала на весь мир. В книге ставится вопрос о том, была ли Русско-японская война началом новой эры. Этот вопрос идет не так далеко, как тезис, что эта война фактически начала отсчет глобальных мировых войн, став «мировой войной ноль», о чем заявляли в другом сборнике Дж. Стейнберг и др. А в этой работе авторы призывают освободить Русско-японскую войну, особенно в азиатском регионе, от всякой тени Первой мировой войны[28 - The Russian review. – 2009. – Vol. 68, N 2. – P. 341–342.].
О том, какое значение имела Первая мировая война для судьбы России, ученые продолжают ломать копья. Несмотря на многие расхождения в оценках развития истории России в ее роковые годы, историографы по-прежнему делятся на «оптимистов» и «пессимистов». «Оптимисты» считают, что царизм мог мирно развиваться в процветающую капиталистическую демократию. Экономика переживала рост, зерна демократии прорастали в Государственной думе, общество все более становилось независимым от государства. Для «оптимистов» революции в феврале и октябре 1917 г. были результатом несчастливого стечения обстоятельств, проявившихся главным образом в ходе Первой мировой войны. В 1917 г. Россия вместо предстоявшего ей блестящего будущего окунулась в десятилетия бедствий.
«Пессимисты» же полагают, что уже до 1914 г. царизм находился в состоянии назревающего революционного кризиса, общество и режим разделала пропасть. Царя презирали. Правительство не имело никакой поддержки. Напряжение между царем и народом усиливали экономические и социальные изменения. Города были центрами недовольства, застрельщиками всеобщего натиска на самодержавие. Для «пессимистов» не столько важен был вопрос о том, стоял ли Николай II перед революцией, сколько вопрос о том, какого типа революция его сметет, дворцовый переворот, оппозиция в парламенте или социалистическая революция на улице (126, с. 1). Но «пессимисты» и «оптимисты» могут вполне мирно ужиться на страницах, например, сборника статей. Так, в одном из таких сборников, изданном в честь Р. Маккина, говорится, что его авторы (оптимисты и пессимисты) разделяют пессимизм Маккина относительно того, что «позднеимперская Россия могла эволюционировать в стабильную конституционную монархию» (126, с. 8).
По мнению Д. Муна, «самой впечатляющей чертой всех трех кризисов был не социальный конфликт, а разобщение внутри правящих элит и противоречия между потенциальными элитами» (155, с. 68). Существенный и, пожалуй, решающий фактор в падении Николая II и царского режима в феврале-марте 1917 г. – разброд, разъединение среди элиты. Именно генералы убедили Николая II отречься от престола перед лицом неминуемого военного поражения и восстания гарнизона Петрограда. Крах старого режима позволил недовольству, десятилетиями подавляемому, вылиться в социальную революцию. Главным в революционном кризисе 1917 г. и последующих событиях была борьба за власть между умеренными либералами и социалистами, белыми и большевиками. Последние победили и просто уничтожили социальную революцию (186, с. 68).
На одной из международных конференций справедливо говорилось о стабильном интересе историков к проблемному комплексу с условным названием «российский либерализм», чему действительно удивляться не приходится, так как он представляет собой один из ключей к раскрытию проблем модернизации России, тенденций и альтернатив развития, континуитета и разрыва в преемственности в ее истории XIX–XX вв. (15, с. 405). И было бы, конечно, странно, если бы новые веяния в западной историографии русской революции не коснулись бы его, тем более, что два вечных «почему» – почему рухнуло самодержавие и почему не удержалось Временное правительство и восторжествовали большевики – напрямую связаны с либералами. Они пришли на смену старому режиму и оказались «калифами на час» (на восемь месяцев), уступив, в свою очередь, власть самой радикальной политической партии. Отсюда и перманентный интерес к российскому либерализму и у современных зарубежных историков. Некоторые из их новаций, например концепт «социально-моральной среды» для изучения либеральной субкультуры применительно к кадетской партии, уже опробован отечественными специалистами (15, с. 406–407). Вместе с западными историками осваивается нашими учеными и «лингвистический поворот» – язык символов и символы языка в революции (72). О. Файджес исследует не только политические и экономические аспекты истории крестьянства, но также и ее культурные и символические составляющие, и все это при глубоком «погружении» в архивный материал. В результате он воссоздает «ясный портрет русского крестьянства в революции 1917 г. при Временном правительстве» (237, с. 74). Думается, однако, что при всем мастерстве «живописца» отсутствие диалога между крестьянством и Временным правительством, оказавшимся для власти губительным, выписано слишком старательно, чтобы убедить, что именно так все и было и именно язык стоил головы российскому либерализму.
То, что «язык» подвел либералов, показывает и М.К. Стокдэйл. Исследовательница утверждает, что пропаганда патриотизма (через печать, лекции и т.п.), призывы к неустанной практической работе во имя победы светлого будущего, которое непременно настанет после войны и в котором не будет места самодержавию, – эта страстная пропаганда либералов сыграла с ними злую шутку – они помогли накоплению ожиданий перемен в обществе, преждевременно реализованных Февральской революцией (15, с. 290).
Новизна исследовательского подхода здесь очевидна, но при этом все же не оставляет мысль, что что-то похожее уже было в литературе: либералы-де сами раскачивали лодку, в которой сидели, т.е. слышится все-таки в этом подходе шарканье Василия Алексеевича Маклакова, постфактум, в эмиграции, идущего пожурить Павла Николаевича Милюкова за излишний радикализм и бескомпромиссность, обернувшуюся для российского либерализма «красной бедой» 1917 г. Впрочем, М.К. Стокдэйл, написавшая книгу о П.Н. Милюкове, полагает, что в известном смысле он «никогда не был либералом» (218, с. 275).
Новизна проникла и в историю либеральных организаций – в изучение Всероссийского земского союза, Союза городов, Военно-промышленных комитетов и др. (6, 43, 64, 107, 111, 145 и др.). Земский союз характеризуется как форум для оппозиционных выступлений против существовавшего строя (111, с. 137).
П. Холквист, историк из Корнелльского университета, рассматривает деятельность общественных организаций через призму взаимоотношений общества и власти. Поляризация в обществе для него – непременный факт. Ее, однако, он понимает как нечто субтильное, легко приспособляемое под его общую схему видения войны и революции (реферат его книги см. в этом сборнике). В изложении П. Холквиста оппоненты самодержавия были все более склонны рассматривать сильное государство как политический идеал и как конкретный инструмент, с помощью которого можно покончить с отсталостью страны. Борьба шла не столько между «государством и обществом» вообще, сколько между самодержавием и образованным обществом по вопросу о том, как лучше использовать государство, чтобы изменить российскую действительность. Это государственничество было отличительной чертой русской политической культуры, и она более всего была присуща кадетам (107, с. 14–15). Возникшие в ходе войны общественные организации осуществляли и государственные функции по оказанию помощи армии. Но они стали и центрами либеральной оппозиции, остро критиковавшими власть за недостаточное использование государственных рычагов в урегулировании экономических проблем и прежде всего в снабжении населения продовольствием. Они ратовали за более жесткое государственное регулирование. К февралю 1917 г. либеральные бюрократы и общественные деятели «выдавили» частных торговцев зерном с рынка. Но когда режим рухнул, они сами столкнулись с проблемами, которые вызвали. Либеральные деятели использовали политику военного времени не для ведения войны, а для перестройки политической системы и общества. К осени 1917 г. политика приобрела милитаристский и мобилизационный характер, который был унаследован советским режимом (107, с. 100–101) и стал как бы прелюдией тоталитаризма.
Но вопрос о том, какую роль сыграли общественные организации в годы войны и революции, остается спорным, и в ходе дискуссии возникают новые взгляды на эти организации.
Как «достижение» в современной историографии рассматривается сборник статей под редакцией М. Конрой «Нарождающаяся демократия в позднеимператорской России» (64). Шесть из девяти его статей посвящены земствам.
Сборник не представляет какого-то общего мнения авторов, а, скорее, нацелен на сопоставление разных мнений о возможности мирной модернизации и демократизации России. Мнения его участников разделяются по двум вопросам. Во-первых, можно ли считать развитие земского движения после 1905 г. показателем развития общественных сил в целом? Во-вторых, «усиливало ли развитие прагматического земского движения управляемость страной в целом и тем самым способствовало ли мирной модернизации страны и выживанию режима в тотальной, мировой войне?» (64, с. 35, 58).
Т. Портер и У. Глисон на эти вопросы отвечают утвердительно, на последний – в статье, посвященной Всероссийскому земскому союзу («Демократизация земств во время Первой мировой войны») (64). По их мнению, история Земского союза показывает начало гражданского общества, которое могло привести к политическому и экономическому росту страны. К концу 1916 г. Земский и Городской союзы не только олицетворяли инициативу и гражданское сознание общества, но и представляли законные требования и чаяния российского либерализма (64, с. 235, 239). Правительство же было расколото между МВД и хозяйственными ведомствами, по-разному смотревшими на работу земств. Кризис управления возник из-за страха правительства перед ВЗС, полицейского вмешательства МВД в дела тотальной мобилизации ресурсов, а также инертности Государственной думы, которая не смогла осуществить реформу местных учреждений, ядром которой явилось бы введение волостных земств. Таким образом, Т. Портер и У. Глисон «придерживаются вполне классической точки зрения» (64, с. 35–36).
К. Мацузато в статье «Межрегиональные конфликты и крах царизма: Настоящие причины продовольственного кризиса в России осенью 1916 г.» выражает совершенно противоположную точку зрения (145, с. 243–300). Как пишет М. Конрой, К. Мацузато «отвергает теорию, что поляризация между правительством и обществом вызвала революции 1917 г.» (64, с. 20). По мнению К. Мацузато, правительство уже в начале войны сумело создать инфраструктуру для мобилизации ресурсов, используя земство. Но за это пришлось «платить», передавая земствам часть государственных полномочий, допустить их к регулированию железнодорожного транспорта. А беспорядок здесь стал причиной продовольственного кризиса, который был вызван местническим использованием регулирования железных дорог земскими заготовительными органами. «Если говорить коротко, – пишет К. Мацузато, – царизм пал из-за межрегиональных противоречий» (6, с. 146; 64, с. 22–23). Взяв «периферийную» тему, казалось бы, частный сюжет, японский исследователь показывает, что земства своим местничеством, своим хлебно-железнодорожным эгоизмом привели к политическому инфаркту столицу империи, а с ней и все романовское государство. Так оно расплачивалось, неосмотрительно «купившись» на легкость и быстроту, с какой можно было мобилизовать местные ресурсы на военные нужды, расплачивалось потерей традиционного контроля над местным самоуправлением. Это самоуправление фактически получило «на откуп» часть важных государственных функций «по хлебу и транспорту». В условиях разрухи, дороговизны и продовольственного кризиса земства, не усмиряемые властной государственной уздой, при недальновидной правительственной политике по закупке зерна дали волю всегда дремавшим в них местническим инстинктам, используя свои новые полномочия, чтобы удержать хлеб «для себя» в пределах своей губернии и использовать железную дорогу прежде всего в «собственных видах». В результате – продовольственный тромб, так сказать, «продогенная» (по аналогии с техногенной) катастрофа, приведшая к омертвению всего государственного организма. Но это произошло и потому, что престиж власти стремительно падал, и она не могла контролировать местнические тенденции земств, связанные с защитой ими своей экономики путем блокирования границ губерний (6, с. 36).
Таким образом, в зарубежной историографии выявился новый подход к освещению отношения земства к правительству не в рамках политической оппозиции, а как сотрудничества, хотя еще и незрелого и негативного по своему основному результату. Вместе с тем здесь затронута и проблема ослабления власти.
В литературе есть и традиционные версии краха старого режима: Россия упустила время реформ, характер и убеждения последнего монарха, противодействовавшего преобразованиям, как то считает, например, Ш. Галай (15, с. 282), разобщенность в элите, жесткая оппозиция либералов, неукорененность конституционализма в стране, тяготы войны (126, 185, 248 и др.). К этому добавляются и новые «штрихи». В годы войны, как считает У. Фуллер, дело Мясоедова и последующая «шпиономания» подорвали авторитет царской власти, стали чуть ли не важнейшей причиной падения старого режима (81). Даже «невинная» деятельность театральных работников, артистов в годы войны способствовала приближению краха царизма (111, с. 149).
П. Боброфф (31) предлагает читателям новую интерпретацию политики российского правительства в отношении Османской империи, связанной с проливами. Стремление министра иностранных дел Сазонова во что бы то ни стало добиться проливов для России, ослепило его, он потерял из виду главное – необходимость обеспечить безопасность режиму. Это была «его самая большая ошибка», способствовавшая падению режима[29 - The Slavic review. – 2008. – Vol. 67. N 2. – P. 495–496.].
Новации, и отмеченные, и те, о которых из-за сравнительно небольшого объема обзора в нем не упомянуто, много говорят о зарубежном россиеведении. В нем господствует «культурная история» при явном количественном преобладании англо-американских изданий. Но и германская «русистика», как, впрочем, и французская, в которой особенно заметны Э. Карер д’Анкосс и Ф.-Ж. Дрейфус, набирает силу. Порой немецкие работы по истории России противопоставляются англоязычным, так как первым будто бы свойственна «академическая серьезность немецкой учености», а вторым – коммерческие приоритеты[30 - The Russian review. – 2008. – Vol. 67, N 1. – P. 233–234.]. В Германии появилось немало серьезных исследований по российской тематике. На ученое сообщество произвело, например, большое впечатление то, что силами только ученых Гейдельбергского ун-та был издан сборник высокопрофессиональных статей (их 12) о Русско-японской войне[31 - The Russian review. – 2009. – Vol. 68, N 2. – P. 342–343.].
Немецкие ученые активно сотрудничают с историками других стран, в том числе и с российскими коллегами. Но не зря, видимо, постоянно раздаются голоса специалистов о необходимости развивать международные контакты историков. Ведь иногда, хотя и крайне редко, в исследованиях некоторых зарубежных ученых проявляются не лучшие черты, бытовавшие в период «холодной войны» (87)[32 - Slavic review. – 2007. – Vol. 66, N 4. – P. 731–732.]. Слышны еще и отголоски былых баталий между сторонниками тоталитарной модели и «ревизионистами» – социальными историками, критические замечания по адресу последних со стороны адептов «культурной истории», и все отчетливее – голоса тех, кто отвергает постмодернизм.
В свое время одной из причин перехода историков от социальной к культурной истории было их опасение, что история потеряет самостоятельность, растворится в социальных науках. Теперь опасность для нее как науки – со стороны нарративной структуры исторического познания, истолковываемого как лингвистическая структура, в которой факты – основа нарратива, – всего лишь языковые конструкции самого их исследователя.
«Технические» трудности в применении «новой культурной истории» в исследовательском процессе порой превращают в свою противоположность намерение историка познать прошлое, заговорив «на его языке». Вовсе нет гарантий, что дискурс не обратится в собственный «нарратив» исследователя, искажающий историческую действительность. Этот сбой легко может произойти, если чрезмерно довериться какому-либо одному дискурсу, не поверяя его другими.
А это – и путь к «мифоистории». Ужели история должна вернуться к тому, из чего вышла, – к мифологии? Частые обращения западных историков к вопросам о том, нужна «парадигма» или нет, какова роль теории в исторических исследованиях – не случайны. В сущности, постмодернизм отрицает возможность постижения прошлого.
В нем нет теоретической тверди, и потому надежды историков «новой культурной истории», приверженцев постмодернизма, на выработку новой теории не есть ли своего рода надежда на второе пришествие, надежда сколь спасительная, столь и бесплодная? И не потому ли так часто «второстепенные», далеко отстоящие от эпицентра событий сюжеты из российской истории становятся «главными» в ее объяснении?
Кроме того, «новая культурная история» содержит в себе, в силу ее релятивизма и безграничной тематики, некоторый соблазн для исследователя бросить в ней якорь, потому что это дает возможность улавливать ветер в свои паруса при любой перемене политических и идеологических ветров, которые еще в не столь отдаленные времена ощутимо сказывались на историках (212, с. 265), да и теперь еще дают о себе знать. Но это «ойкуменная» и, так сказать, более гипотетическая сторона «новой культурной истории». Существенным же в ней многие считают то, что она открывает широкие перспективы для изучения минувшего.
Как было отмечено на одной из международных конференций, в настоящее время в науке происходит расширение, глобализация исследований по истории России. И российская историография привлекает особое внимание ученых[33 - The Russian review. – 2006. – Vol. 65, N 2. – P. 321, 325.]. Они отмечают, например, что понятия «локальной истории» и «исторические школы» остаются неопределенными. Выявляется, по их мнению, и известная двойственность в отношении советской историографии: продолжаются дискуссии о ее месте в более широких рамках российской историографии. Для них очевиден наибольший интерес российских ученых к дореволюционной тематике. Зная, что историки позднеимперской России уделяют большое внимание отношениям между государством и обществом, они советуют коллегам применять новые методы для изучения российской политической культуры. Порой констатируется, что резкое изменение идеологического климата не освободило исторические исследования от влияния проблем настоящего и современной политики. Но все-таки историки по обеим сторонам бывшего железного занавеса находят общую основу для сотрудничества, которое имеет большой потенциал для углубленного понимания прошлого, настоящего и будущего России[34 - The Russian review. – 2009. – Vol. 68, N 1. – P. 171–172.].
Продолжается и пересмотр, переосмысление истории России в зарубежной науке. Может быть, это всерьез и надолго, а может быть и нет. Всё зависит от политического и идеологического климата, в котором живут и работают историки, и от тех процессов, которые протекают в самой науке[35 - См.: Шевырин В.М. Революции 1917 г.: Переосмысление в зарубежной историографии // 1917 год. Россия революционная. – М., 2009. – С. 56–59.]. Как бы то ни было, современное бодрое состояние россиеведения внушает оптимизм и в отношении его будущего.
Список литературы
Напряжение капиталистической модернизации в известной степени сказывалось на идентичностях, гендерной практике или классовых конфликтах, и они были существенной частью революционной конъюнктуры общества.
По его мнению, можно полнее выяснить то, почему сельские мигранты в городских условиях были отзывчивы к революции, если рассматривать их опыт и идентичность наряду с изучением влияния «капиталистической действительности» на экономические, социальные и политические отношения в обществе». Для Смита индивидуальная идентичность и классовый коллективизм – не антиподы. Классовая идентичность может рассматриваться как ответ на эксплуатацию, на несправедливость. Чувство человеческого достоинства индивида становится средством политической критики, когда заставляет людей объединяться для борьбы за социальные и политические изменения (213, с. 110)[20 - The Russian review. – 2009. – Vol. 68, N 1. – P. 142–145.].
Никто из историков не оспаривает того, что модернизация и экономическое развитие страны оказывали сильнейшее влияние и на его социальную стабильность. Но то, каким было это влияние и какую роль оно сыграло в «роковые годы» в России, всегда обсуждалось весьма активно. Проблемы социальной стабильности и поляризации общества привлекают внимание ученых. Иногда у них возникают и неожиданные параллели и ассоциации. В основном они с разных сторон «щиплют» ту модель, которую Л. Хеймсон предложил еще в 1964–1965 гг. и скорректировал в 2000 и 2006 гг. (96, 97, 194, с. 221) и которую восприняли многие его коллеги. В новой книге о Ленском расстреле Хеймсон не отказывается от тезиса о том, что модернизация обрекала царизм на гибель. Но в отличие от своих предшествующих работ о стачках, в исследовании которых он использовал прежде всего статистические данные, в этой монографии он сделал акцент на изучении языка рабочих требований, их настоянии на вежливом обращении с ними предпринимателей и др. Современные авторы критикуют Хеймсона за то, что в его интерпретации российское общество в предреволюционные годы было безнадежно расколото. Оно выступало против правительства в целом, и в то же время не было мира между его различными социальными слоями. Неудача деятелей Февральской революции утвердить либеральный конституционализм вела к дальнейшему обострению внутренних противоречий, и только радикальный авторитаризм, такой, какой был навязан большевиками, открывал перспективу сохранения государства от действия мощных центробежных сил, развязанных социальной борьбой (194, с. 203).
Профессор М. Меланкон и его коллега А. Пэйт показывают, что такого катастрофически резкого разделения в русском обществе не было (194, с. 223). И даже в своей книге о Ленском расстреле рабочих в 1912 г. М. Меланкон утверждает, что историю российского общества и государства можно лучше понять, исходя из модели «социального согласия», чем модели «общественной фрагментации» (148, с. 153). А. Пэйт отмечает растущее сознание рабочих, которые стремились сами устроить свою жизнь, – не особенно склоняясь к политическим поводырям, большевикам, например, как это проявилось при выборах в страховые кассы. Для А. Пэйт очевидно: рабочие верили, что государство и работодатели обеспечат их экономическое и социальное благополучие. В представлении рабочих индустриализация вела к политическим, социальным и экономическим изменениям, которые, как они считали, улучшат их жизнь. Только политическая борьба революционных интеллигентов, повлиявшая на ход страховой кампании, лишила рабочих возможности действовать самостоятельно и понять свою роль в гражданском обществе (194, с. 198).
Р. Маккин считает, что большинство рабочих не обладали социалистическим мировоззрением до февраля 1917 г. Довоенные стачки были направлены на улучшение жизни и труда и не носили антикапиталистического характера. Политизация рабочих началась в месяцы, последовавшие за отречением Николая II (126, с. 3). Как сказано в одной из статей о царской охранке, она действовала столь эффективно, что парализовала организованную оппозицию. Профессиональные революционеры не приняли участие в Февральской революции (126, с. 60). Т. Тэтчер замечает, что такая партия отличается от той, которая изображается в мифах о революционном рабочем классе. Впрочем, и эти исследователи соглашаются в том, что дело эволюционного реформизма было проиграно еще до начала Первой мировой войны из-за рабочей политики самодержавия. Ограничения легальной деятельности рабочих организаций и репрессии вызывали недовольство мастеровых, подозрения и вражду по отношению к власти. А тяжелые условия жизни, которые усугубила война, сделали их восприимчивыми к радикальным лозунгам, и в 1917 г. они в большинстве своем поддержали социалистов (126, с. 4, 116–117).
Д. Кип показывает, что еще в 1905 г. террор достиг своей цели – политических изменений. Тогда забастовки, бунты и демонстрации вынудили царя пойти на реформы (185, с. 22). Изучая работы Л. Хеймсона и вопрос о том, сыграла ли роковую роль в падении царизма мировая война, Д. Саундерс, проанализировав влияние войн XIX в. на рабочих, пришел к выводу, что в годы Первой мировой войны было не усиление существовавших ранее тенденций, а, скорее, «катастрофа войны», которая привела царизм к гибели (185, с. 57).
Вообще, сами зарубежные исследователи признают, что заниматься историей рабочего класса России теперь не модно – «в фаворе» культурная история, национальная тематика, и только немногие ученые продолжают ее разрабатывать, хотя и констатируют, как это делает, например, американский ученый Д. Конкер, что «классовая теория находится в кризисе» (121, с. 7). И все же Конкер и немногие ее сторонники убеждены, что термин «класс» необходим в исследовательской работе как аналитическое понятие. Нравится кому это слово или нет, его нужно принимать серьезно. Каким бы сильным ни было у кого-либо желание отбросить классовый подход, – сделать это будет трудно до тех пор, пока остается противоречие между работодателями и рабочими. Концепты «культура», «гендер», «нация» ныне властвуют в историографии, но и концепт «класс» будет существовать в ней и разрабатываться дальше[21 - The Russian review. – 2006. – Vol. 65, N 2. – P. 340–341.].
Английский историк Д. Мун оценивает социальную стабильность на протяжении нескольких столетий и усматривает в веках три очага смуты: 1598–1613, 1905–1907, 1917–1921 гг. За исключением этих трех кризисов стабильность «была нормой» (155, с. 55). И в конце существования императорской России крестьяне начали медленно и постепенно создавать новую и широкую идентичность, так как они стремились приспособиться к меняющемуся миру, частью которого были (126, с. 141). Собственно, неотзывчивости крестьян на революционную смуту, их стремлению жить законопослушно и решать возникающие спорные дела миром посвящена и работа Д. Бербанк о волостных судах, материалы которых говорили языком самих крестьян и на котором их пыталась понять исследовательница. И, как она полагает, не вина, а беда крестьян, что их втянули в кровавый кошмар революционного междоусобия (36).
Книга Бербанк – новаторская работа, которая «резко изменит наш взгляд на юридические ценности и практику крестьянства»[22 - The Russian review. – 2006. – Vol. 65, N 1. – P. 138.], – так высоко оценили монографию Бербанк в научной литературе.
И работа К. Годэн (85) – одна из самых заметных в ряду новых книг об отношениях между российским крестьянством и имперским режимом. В последнее десятилетие появились исследования по этой теме (Дж. Бербанк, Г. Попкинс, Дж. Бёрдс, С. Франк, Д. Мун, Дж. Паллот). Уже накопилось немало свидетельств, разрушающих представление о российской деревне как о непроницаемой или вечно находящейся в пассивном сопротивлении государству. Эта монография – одна из тех появляющихся в последние годы работ, которые бросают вызов стандартной интерпретации последнего имперского периода как борьбе между «реформирующим государством» и сопротивляющимся крестьянством. Годэн показывает, что существовало взаимодействие между государством и крестьянством на почве «закона и в рамках административной структуры».
В течение двух столетий история российской культуры была во власти концепции «двух Россий»: крестьянской и некрестьянской. Это привело к набору априорных и самодовлеющих культурных критериев. Если речь шла о крестьянстве, то это – о России отсталой, традиционной, антирыночной, общинной, эгалитарной и антигосударственной. Все, что вступает в контакт с крестьянами, «окрестьянивается». Изучая земства, Франциска Шедьюи исследовала жизнь крестьян как часть общества (205). Она исследовала и социально-экономические условия деревенской жизни, структуру и финансовую деятельность уездного земства, земского собрания, его функционирование, поведение крестьян в связи с земскими решениями, выявила характер участия крестьян в «политике».
Автор показывает, что даже в губернии (Воронежской), которую в конце XIX – начале XX в. считали типично «отсталой», находившейся в эпицентре аграрной проблемы страны, крестьяне активно участвовали в работе земства. Во многих случаях, имея лучшую посещаемость, чем представители других сословий, порой получали большинство и могли влиять на результат голосования на собрании. Предложения и проекты, за которые крестьяне голосовали, были в значительной степени те, которые могли улучшить их экономическое благосостояние, оживить местную экономику, например, содержание дорог и мостов, открытие новых или поддержка существующих рынков, строительство и содержание школ и больниц, налогообложение, агрономическая помощь. Участие крестьян в деятельности земств становилось активнее, несмотря на уменьшение их представительства после 1890 г., – они видели выгоды от такого участия.
Степень и характер участия крестьян в земстве отразили уровень модернизации в их уезде. Чем он был более экономически развит, тем активнее крестьяне добивались земской помощи. Это было характерно для бывших государственных крестьян (большие деревни, бо?льшее количество земли и бо?льшее экономическое разнообразие), для прежних однодворцев и украинских казаков.
Прежние крепостные (имели и меньшее количество земли, и менее экономически развитые) были не столь активны в земствах и для достижения своих целей больше полагались на традиционный патернализм. В 1905–1906 гг. восстания вспыхивали чаще там, где было меньше возможностей для экономического развития и использования земства. Представителями крестьян были в основном местные должностные лица и более состоятельные крестьяне, уже имевшие опыт посредничества с учреждениями вне деревни.
Традиционная в научной литературе точка зрения о пассивности или безразличии крестьян к земству далека от результатов изучения, которое провела Ф. Шедьюи. Крестьяне в исследованных четырех воронежских уездах участвовали в работе земских учреждений и не пытались «окрестьянивать» их. Приспосабливаясь к условиям рыночной экономики при все бо?льшей помощи возникающего гражданского общества, они становились его частью. Исследование Шедьюи – в ряду тех новых работ, которые бросили вызов традиционной интерпретации истории крестьянства имперской России[23 - The Slavic review. – 2008. – Vol. 67, N 1. – P. 237–238.].
К монографиям о крестьянстве примыкает и сборник статей о восстаниях в России, начиная со Смутного времени до Тамбовского выступления крестьян в 1920–1921 гг. (149). В его 16 статьях исследуются следующие выступления: Болотникова в 1606–1607 гг., волнения в Москве в 1648 и в 1662 гг., Степана Разина в 1670–1671 гг., стрельцов в 1682 и в 1698 гг., Булавина в 1707–1708 гг., уральских рабочих в 1754–1766 гг., Колиивщина в 1768 г., волнения во время чумы в Москве в 1771 г., восстание Пугачева в 1773–1774 гг., холерный бунт в Петербурге в 1831 г., картофельные бунты в 1834 и 1841– 1843 гг., выступления и письменные протесты крестьян в 1905– 1906 гг., Тамбовское восстание 1920–1921 гг. Все это рассматривается на основе главным образом изданных источников и изучения русской, немецкой и английской исторической литературы. Акцент ставится не столько на новых данных, сколько на рассмотрении событий в их историческом контексте, на «критике и изменении их интерпретаций, особенно марксистско-ленинского анализа советской эпохи» (149, с. 234).
В вводной статье критически рассмотрена концепция классового конфликта в исследованиях истории российских беспорядков и бунтов. Такой «камертон» дал и соответствующее «звучание» статьям других участников сборника. Например, М. Криспин считает, что в восстании Болотникова «участвовал союз гетерогенных социальных групп», выступавший с династическими целями. И другие авторы иначе, чем прежде, оценивают восстания в России. Так, если раньше подчеркивался антифеодальный и крестьянский характер Булавинского восстания, то в этой книге оно характеризуется как попытка казаков отстоять свой традиционный образ жизни. По сути, в том же ключе истолковываются восстание Разина, бунт стрельцов и восстание Пугачева: стрельцы и казаки пытались сохранить свою старую культуру, в которую вторгались новые, принесенные модернизацией, порядки. Большинство выступлений XVI–XVII вв. представляли собой попытки казаков и стрельцов, городского населения и крестьян предотвратить изменения в их статусе или утрату привилегий. К середине XVIII в. восстания почти потеряли эту особенность, желание вернуться к «старине» – недовольство теперь порождалось специфическими проблемами, вину за которые восставшие возлагали на органы власти. Так или иначе, классовые причины восстания или отсутствовали или не имели принципиального характера. Так, несмотря на то, что от холеры прежде всего страдали низшие слои населения, петербургские бунты (1831) не содержали никаких элементов классового негодования городских низов. Не было такое негодование и основной причиной московских беспорядков во время чумы. Тамбовское восстание 1920–1921 гг. – это выступление крестьян против аграрной политики большевиков. Ему уделяется повышенное внимание в историографии и уже есть «новое понимание Тамбовского восстания» и пересматривается «концепция самого характера народного восстания во время Гражданской войны»[24 - The Russian review. – 2009. – Vol. 68, N 2. – P. 347.].
Лейтмотив сборника: акцент на классовой борьбе, который ставился в марксистской литературе о восстаниях, по меньшей мере, преувеличен. И это особенно ясно тогда, когда каждое массовое выступление изучается «в его собственной культурной, экономической, социальной и политической среде» (149, с. 234).
В целом, в новейших исследованиях зарубежных историков проводится своего рода «реабилитация» дореволюционного крестьянства, которое теперь часто рассматривается ни «бунташным», ни чрезмерно эксплуатируемым и отсталым, а претерпевающим сложную эволюцию в социальном, экономическом и культурном отношении. Прервала эту эволюцию война, роковые последствия которой гибельно отозвались на судьбе крестьянства – большинства населения страны. Революция 1917 г. рассматривается в зарубежной литературе как «трагедия народа» (69).
Народные выступления освещаются и в сборниках, приуроченных к 100-й годовщине революции 1905 г. (202, 236). Хотя этот юбилей прошел в России почти незамеченным, прежде всего из-за царящей сейчас «атмосферы враждебности ко всем формам революционной деятельности»[25 - The Russian review. – 2006. – Vol. 65, N 2. – P. 332.], Центр восточноевропейских исследований в Кильском университете организовал ряд лекций, которые были изданы (202). Известные историки рассматривают революцию 1905 г. в регионах, ее социальные аспекты и восприятие ее современниками. Они полагают, что три существенных фактора характеризуют события 1905 г. в России: как переворот в государстве и в его юридической системе, усиление социальных массовых движений и появление идей обновления. В книге показана связь между Русско-японской войной, которая была империалистической, и революцией, ставшей «последствием социально-экономической модернизации».
По мнению авторов другого сборника, для России было несчастьем, что буржуазная революция, как можно было бы определить события 1905 г., произошла тогда, когда уже существовало мощное радикальное движение, стремившееся играть решающую роль в политике (236). Рабочий класс «решительно способствовал успеху революции 1905 г.»[26 - The Russian review. – 2008. – Vol. 67, N 4. – P. 710–711.]. В литературе отмечается и роль восстаний в армии и на флоте (27).
Непосредственно Русско-японской войне посвящено несколько сборников. В результате международных конференций и семинаров, которые начались в Хайфе в 2001 и закончились в Японии в мае 2005 г., были изданы два тома и специальный выпуск журнала «The Russian review» (2008. № 1). Цель этих многочисленных встреч состояла не только в том, чтобы отметить столетие Русско-японской войны, но и пересмотреть, переписать ее историю. В предисловии к первому тому Р. Ковнер заявляет, что авторы двух томов (всего 49 статей) разделяют общую мысль о Русско-японской войне как «действительно поворотной точке в новой истории», так как она далеко вышла за пределы Манчжурии и Восточной Азии, внесла свой вклад в череду событий, которые привели к исчезновению гегемонии европейских держав в результате Первой мировой войны. В западной историографии высказывается мнение, что сила этого сборника в статьях о военной разведке, культуре и влиянии войны на весь мир. Ковнер утверждает, что Русско-японская война не была главной причиной Первой мировой войны, а только ускорила ряд уже протекавших процессов (188, т. 2, с. 308). В целом же двухтомник и показывает, что «Русско-японская война мостила дорогу катастрофе, которой стала Первая мировая война»[27 - The Russian review. – 2009. – Vol. 68, N 2. – P. 341–342.].
По-новому Русско-японская война рассматривается и в немецком сборнике (125). Новое – это прежде всего исследование войны с использованием междисциплинарного подхода историков к событиям войны, выявившегося в 2004–2005 гг. на конференциях, посвященных столетию войны. Русско-японская война – больше уже не дело только классической, дипломатической и военной истории, но также и междисциплинарных культурных исследований. В фокусе внимания новых публикаций не только Япония и Россия, но и территории, на которые распространилась война, – Китай и Корея, и то влияние, какое она оказала на весь мир. В книге ставится вопрос о том, была ли Русско-японская война началом новой эры. Этот вопрос идет не так далеко, как тезис, что эта война фактически начала отсчет глобальных мировых войн, став «мировой войной ноль», о чем заявляли в другом сборнике Дж. Стейнберг и др. А в этой работе авторы призывают освободить Русско-японскую войну, особенно в азиатском регионе, от всякой тени Первой мировой войны[28 - The Russian review. – 2009. – Vol. 68, N 2. – P. 341–342.].
О том, какое значение имела Первая мировая война для судьбы России, ученые продолжают ломать копья. Несмотря на многие расхождения в оценках развития истории России в ее роковые годы, историографы по-прежнему делятся на «оптимистов» и «пессимистов». «Оптимисты» считают, что царизм мог мирно развиваться в процветающую капиталистическую демократию. Экономика переживала рост, зерна демократии прорастали в Государственной думе, общество все более становилось независимым от государства. Для «оптимистов» революции в феврале и октябре 1917 г. были результатом несчастливого стечения обстоятельств, проявившихся главным образом в ходе Первой мировой войны. В 1917 г. Россия вместо предстоявшего ей блестящего будущего окунулась в десятилетия бедствий.
«Пессимисты» же полагают, что уже до 1914 г. царизм находился в состоянии назревающего революционного кризиса, общество и режим разделала пропасть. Царя презирали. Правительство не имело никакой поддержки. Напряжение между царем и народом усиливали экономические и социальные изменения. Города были центрами недовольства, застрельщиками всеобщего натиска на самодержавие. Для «пессимистов» не столько важен был вопрос о том, стоял ли Николай II перед революцией, сколько вопрос о том, какого типа революция его сметет, дворцовый переворот, оппозиция в парламенте или социалистическая революция на улице (126, с. 1). Но «пессимисты» и «оптимисты» могут вполне мирно ужиться на страницах, например, сборника статей. Так, в одном из таких сборников, изданном в честь Р. Маккина, говорится, что его авторы (оптимисты и пессимисты) разделяют пессимизм Маккина относительно того, что «позднеимперская Россия могла эволюционировать в стабильную конституционную монархию» (126, с. 8).
По мнению Д. Муна, «самой впечатляющей чертой всех трех кризисов был не социальный конфликт, а разобщение внутри правящих элит и противоречия между потенциальными элитами» (155, с. 68). Существенный и, пожалуй, решающий фактор в падении Николая II и царского режима в феврале-марте 1917 г. – разброд, разъединение среди элиты. Именно генералы убедили Николая II отречься от престола перед лицом неминуемого военного поражения и восстания гарнизона Петрограда. Крах старого режима позволил недовольству, десятилетиями подавляемому, вылиться в социальную революцию. Главным в революционном кризисе 1917 г. и последующих событиях была борьба за власть между умеренными либералами и социалистами, белыми и большевиками. Последние победили и просто уничтожили социальную революцию (186, с. 68).
На одной из международных конференций справедливо говорилось о стабильном интересе историков к проблемному комплексу с условным названием «российский либерализм», чему действительно удивляться не приходится, так как он представляет собой один из ключей к раскрытию проблем модернизации России, тенденций и альтернатив развития, континуитета и разрыва в преемственности в ее истории XIX–XX вв. (15, с. 405). И было бы, конечно, странно, если бы новые веяния в западной историографии русской революции не коснулись бы его, тем более, что два вечных «почему» – почему рухнуло самодержавие и почему не удержалось Временное правительство и восторжествовали большевики – напрямую связаны с либералами. Они пришли на смену старому режиму и оказались «калифами на час» (на восемь месяцев), уступив, в свою очередь, власть самой радикальной политической партии. Отсюда и перманентный интерес к российскому либерализму и у современных зарубежных историков. Некоторые из их новаций, например концепт «социально-моральной среды» для изучения либеральной субкультуры применительно к кадетской партии, уже опробован отечественными специалистами (15, с. 406–407). Вместе с западными историками осваивается нашими учеными и «лингвистический поворот» – язык символов и символы языка в революции (72). О. Файджес исследует не только политические и экономические аспекты истории крестьянства, но также и ее культурные и символические составляющие, и все это при глубоком «погружении» в архивный материал. В результате он воссоздает «ясный портрет русского крестьянства в революции 1917 г. при Временном правительстве» (237, с. 74). Думается, однако, что при всем мастерстве «живописца» отсутствие диалога между крестьянством и Временным правительством, оказавшимся для власти губительным, выписано слишком старательно, чтобы убедить, что именно так все и было и именно язык стоил головы российскому либерализму.
То, что «язык» подвел либералов, показывает и М.К. Стокдэйл. Исследовательница утверждает, что пропаганда патриотизма (через печать, лекции и т.п.), призывы к неустанной практической работе во имя победы светлого будущего, которое непременно настанет после войны и в котором не будет места самодержавию, – эта страстная пропаганда либералов сыграла с ними злую шутку – они помогли накоплению ожиданий перемен в обществе, преждевременно реализованных Февральской революцией (15, с. 290).
Новизна исследовательского подхода здесь очевидна, но при этом все же не оставляет мысль, что что-то похожее уже было в литературе: либералы-де сами раскачивали лодку, в которой сидели, т.е. слышится все-таки в этом подходе шарканье Василия Алексеевича Маклакова, постфактум, в эмиграции, идущего пожурить Павла Николаевича Милюкова за излишний радикализм и бескомпромиссность, обернувшуюся для российского либерализма «красной бедой» 1917 г. Впрочем, М.К. Стокдэйл, написавшая книгу о П.Н. Милюкове, полагает, что в известном смысле он «никогда не был либералом» (218, с. 275).
Новизна проникла и в историю либеральных организаций – в изучение Всероссийского земского союза, Союза городов, Военно-промышленных комитетов и др. (6, 43, 64, 107, 111, 145 и др.). Земский союз характеризуется как форум для оппозиционных выступлений против существовавшего строя (111, с. 137).
П. Холквист, историк из Корнелльского университета, рассматривает деятельность общественных организаций через призму взаимоотношений общества и власти. Поляризация в обществе для него – непременный факт. Ее, однако, он понимает как нечто субтильное, легко приспособляемое под его общую схему видения войны и революции (реферат его книги см. в этом сборнике). В изложении П. Холквиста оппоненты самодержавия были все более склонны рассматривать сильное государство как политический идеал и как конкретный инструмент, с помощью которого можно покончить с отсталостью страны. Борьба шла не столько между «государством и обществом» вообще, сколько между самодержавием и образованным обществом по вопросу о том, как лучше использовать государство, чтобы изменить российскую действительность. Это государственничество было отличительной чертой русской политической культуры, и она более всего была присуща кадетам (107, с. 14–15). Возникшие в ходе войны общественные организации осуществляли и государственные функции по оказанию помощи армии. Но они стали и центрами либеральной оппозиции, остро критиковавшими власть за недостаточное использование государственных рычагов в урегулировании экономических проблем и прежде всего в снабжении населения продовольствием. Они ратовали за более жесткое государственное регулирование. К февралю 1917 г. либеральные бюрократы и общественные деятели «выдавили» частных торговцев зерном с рынка. Но когда режим рухнул, они сами столкнулись с проблемами, которые вызвали. Либеральные деятели использовали политику военного времени не для ведения войны, а для перестройки политической системы и общества. К осени 1917 г. политика приобрела милитаристский и мобилизационный характер, который был унаследован советским режимом (107, с. 100–101) и стал как бы прелюдией тоталитаризма.
Но вопрос о том, какую роль сыграли общественные организации в годы войны и революции, остается спорным, и в ходе дискуссии возникают новые взгляды на эти организации.
Как «достижение» в современной историографии рассматривается сборник статей под редакцией М. Конрой «Нарождающаяся демократия в позднеимператорской России» (64). Шесть из девяти его статей посвящены земствам.
Сборник не представляет какого-то общего мнения авторов, а, скорее, нацелен на сопоставление разных мнений о возможности мирной модернизации и демократизации России. Мнения его участников разделяются по двум вопросам. Во-первых, можно ли считать развитие земского движения после 1905 г. показателем развития общественных сил в целом? Во-вторых, «усиливало ли развитие прагматического земского движения управляемость страной в целом и тем самым способствовало ли мирной модернизации страны и выживанию режима в тотальной, мировой войне?» (64, с. 35, 58).
Т. Портер и У. Глисон на эти вопросы отвечают утвердительно, на последний – в статье, посвященной Всероссийскому земскому союзу («Демократизация земств во время Первой мировой войны») (64). По их мнению, история Земского союза показывает начало гражданского общества, которое могло привести к политическому и экономическому росту страны. К концу 1916 г. Земский и Городской союзы не только олицетворяли инициативу и гражданское сознание общества, но и представляли законные требования и чаяния российского либерализма (64, с. 235, 239). Правительство же было расколото между МВД и хозяйственными ведомствами, по-разному смотревшими на работу земств. Кризис управления возник из-за страха правительства перед ВЗС, полицейского вмешательства МВД в дела тотальной мобилизации ресурсов, а также инертности Государственной думы, которая не смогла осуществить реформу местных учреждений, ядром которой явилось бы введение волостных земств. Таким образом, Т. Портер и У. Глисон «придерживаются вполне классической точки зрения» (64, с. 35–36).
К. Мацузато в статье «Межрегиональные конфликты и крах царизма: Настоящие причины продовольственного кризиса в России осенью 1916 г.» выражает совершенно противоположную точку зрения (145, с. 243–300). Как пишет М. Конрой, К. Мацузато «отвергает теорию, что поляризация между правительством и обществом вызвала революции 1917 г.» (64, с. 20). По мнению К. Мацузато, правительство уже в начале войны сумело создать инфраструктуру для мобилизации ресурсов, используя земство. Но за это пришлось «платить», передавая земствам часть государственных полномочий, допустить их к регулированию железнодорожного транспорта. А беспорядок здесь стал причиной продовольственного кризиса, который был вызван местническим использованием регулирования железных дорог земскими заготовительными органами. «Если говорить коротко, – пишет К. Мацузато, – царизм пал из-за межрегиональных противоречий» (6, с. 146; 64, с. 22–23). Взяв «периферийную» тему, казалось бы, частный сюжет, японский исследователь показывает, что земства своим местничеством, своим хлебно-железнодорожным эгоизмом привели к политическому инфаркту столицу империи, а с ней и все романовское государство. Так оно расплачивалось, неосмотрительно «купившись» на легкость и быстроту, с какой можно было мобилизовать местные ресурсы на военные нужды, расплачивалось потерей традиционного контроля над местным самоуправлением. Это самоуправление фактически получило «на откуп» часть важных государственных функций «по хлебу и транспорту». В условиях разрухи, дороговизны и продовольственного кризиса земства, не усмиряемые властной государственной уздой, при недальновидной правительственной политике по закупке зерна дали волю всегда дремавшим в них местническим инстинктам, используя свои новые полномочия, чтобы удержать хлеб «для себя» в пределах своей губернии и использовать железную дорогу прежде всего в «собственных видах». В результате – продовольственный тромб, так сказать, «продогенная» (по аналогии с техногенной) катастрофа, приведшая к омертвению всего государственного организма. Но это произошло и потому, что престиж власти стремительно падал, и она не могла контролировать местнические тенденции земств, связанные с защитой ими своей экономики путем блокирования границ губерний (6, с. 36).
Таким образом, в зарубежной историографии выявился новый подход к освещению отношения земства к правительству не в рамках политической оппозиции, а как сотрудничества, хотя еще и незрелого и негативного по своему основному результату. Вместе с тем здесь затронута и проблема ослабления власти.
В литературе есть и традиционные версии краха старого режима: Россия упустила время реформ, характер и убеждения последнего монарха, противодействовавшего преобразованиям, как то считает, например, Ш. Галай (15, с. 282), разобщенность в элите, жесткая оппозиция либералов, неукорененность конституционализма в стране, тяготы войны (126, 185, 248 и др.). К этому добавляются и новые «штрихи». В годы войны, как считает У. Фуллер, дело Мясоедова и последующая «шпиономания» подорвали авторитет царской власти, стали чуть ли не важнейшей причиной падения старого режима (81). Даже «невинная» деятельность театральных работников, артистов в годы войны способствовала приближению краха царизма (111, с. 149).
П. Боброфф (31) предлагает читателям новую интерпретацию политики российского правительства в отношении Османской империи, связанной с проливами. Стремление министра иностранных дел Сазонова во что бы то ни стало добиться проливов для России, ослепило его, он потерял из виду главное – необходимость обеспечить безопасность режиму. Это была «его самая большая ошибка», способствовавшая падению режима[29 - The Slavic review. – 2008. – Vol. 67. N 2. – P. 495–496.].
Новации, и отмеченные, и те, о которых из-за сравнительно небольшого объема обзора в нем не упомянуто, много говорят о зарубежном россиеведении. В нем господствует «культурная история» при явном количественном преобладании англо-американских изданий. Но и германская «русистика», как, впрочем, и французская, в которой особенно заметны Э. Карер д’Анкосс и Ф.-Ж. Дрейфус, набирает силу. Порой немецкие работы по истории России противопоставляются англоязычным, так как первым будто бы свойственна «академическая серьезность немецкой учености», а вторым – коммерческие приоритеты[30 - The Russian review. – 2008. – Vol. 67, N 1. – P. 233–234.]. В Германии появилось немало серьезных исследований по российской тематике. На ученое сообщество произвело, например, большое впечатление то, что силами только ученых Гейдельбергского ун-та был издан сборник высокопрофессиональных статей (их 12) о Русско-японской войне[31 - The Russian review. – 2009. – Vol. 68, N 2. – P. 342–343.].
Немецкие ученые активно сотрудничают с историками других стран, в том числе и с российскими коллегами. Но не зря, видимо, постоянно раздаются голоса специалистов о необходимости развивать международные контакты историков. Ведь иногда, хотя и крайне редко, в исследованиях некоторых зарубежных ученых проявляются не лучшие черты, бытовавшие в период «холодной войны» (87)[32 - Slavic review. – 2007. – Vol. 66, N 4. – P. 731–732.]. Слышны еще и отголоски былых баталий между сторонниками тоталитарной модели и «ревизионистами» – социальными историками, критические замечания по адресу последних со стороны адептов «культурной истории», и все отчетливее – голоса тех, кто отвергает постмодернизм.
В свое время одной из причин перехода историков от социальной к культурной истории было их опасение, что история потеряет самостоятельность, растворится в социальных науках. Теперь опасность для нее как науки – со стороны нарративной структуры исторического познания, истолковываемого как лингвистическая структура, в которой факты – основа нарратива, – всего лишь языковые конструкции самого их исследователя.
«Технические» трудности в применении «новой культурной истории» в исследовательском процессе порой превращают в свою противоположность намерение историка познать прошлое, заговорив «на его языке». Вовсе нет гарантий, что дискурс не обратится в собственный «нарратив» исследователя, искажающий историческую действительность. Этот сбой легко может произойти, если чрезмерно довериться какому-либо одному дискурсу, не поверяя его другими.
А это – и путь к «мифоистории». Ужели история должна вернуться к тому, из чего вышла, – к мифологии? Частые обращения западных историков к вопросам о том, нужна «парадигма» или нет, какова роль теории в исторических исследованиях – не случайны. В сущности, постмодернизм отрицает возможность постижения прошлого.
В нем нет теоретической тверди, и потому надежды историков «новой культурной истории», приверженцев постмодернизма, на выработку новой теории не есть ли своего рода надежда на второе пришествие, надежда сколь спасительная, столь и бесплодная? И не потому ли так часто «второстепенные», далеко отстоящие от эпицентра событий сюжеты из российской истории становятся «главными» в ее объяснении?
Кроме того, «новая культурная история» содержит в себе, в силу ее релятивизма и безграничной тематики, некоторый соблазн для исследователя бросить в ней якорь, потому что это дает возможность улавливать ветер в свои паруса при любой перемене политических и идеологических ветров, которые еще в не столь отдаленные времена ощутимо сказывались на историках (212, с. 265), да и теперь еще дают о себе знать. Но это «ойкуменная» и, так сказать, более гипотетическая сторона «новой культурной истории». Существенным же в ней многие считают то, что она открывает широкие перспективы для изучения минувшего.
Как было отмечено на одной из международных конференций, в настоящее время в науке происходит расширение, глобализация исследований по истории России. И российская историография привлекает особое внимание ученых[33 - The Russian review. – 2006. – Vol. 65, N 2. – P. 321, 325.]. Они отмечают, например, что понятия «локальной истории» и «исторические школы» остаются неопределенными. Выявляется, по их мнению, и известная двойственность в отношении советской историографии: продолжаются дискуссии о ее месте в более широких рамках российской историографии. Для них очевиден наибольший интерес российских ученых к дореволюционной тематике. Зная, что историки позднеимперской России уделяют большое внимание отношениям между государством и обществом, они советуют коллегам применять новые методы для изучения российской политической культуры. Порой констатируется, что резкое изменение идеологического климата не освободило исторические исследования от влияния проблем настоящего и современной политики. Но все-таки историки по обеим сторонам бывшего железного занавеса находят общую основу для сотрудничества, которое имеет большой потенциал для углубленного понимания прошлого, настоящего и будущего России[34 - The Russian review. – 2009. – Vol. 68, N 1. – P. 171–172.].
Продолжается и пересмотр, переосмысление истории России в зарубежной науке. Может быть, это всерьез и надолго, а может быть и нет. Всё зависит от политического и идеологического климата, в котором живут и работают историки, и от тех процессов, которые протекают в самой науке[35 - См.: Шевырин В.М. Революции 1917 г.: Переосмысление в зарубежной историографии // 1917 год. Россия революционная. – М., 2009. – С. 56–59.]. Как бы то ни было, современное бодрое состояние россиеведения внушает оптимизм и в отношении его будущего.
Список литературы