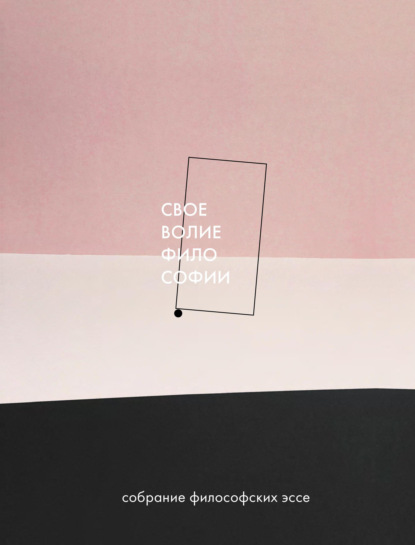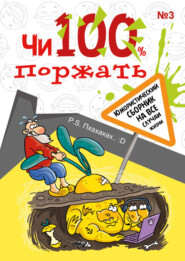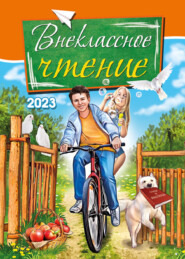По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Своеволие философии
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Самая частая трудность, с которой сталкиваются авторы этих мелких сочинений, – это постоянная потребность в новизне и перемене. Создатель естественнонаучной системы оставляет в покое свое воображение и пользуется только способностью суждения, способностью, которая менее всего утомляет. Даже тот, кто повествует о выдуманных приключениях, как только он определился с основными характерами и соединил между собой основные события, обнаружит, что события и эпизоды сами рождаются в его голове, каждый поворот открывает новые перспективы, и действие развивается само собою, почти без труда. Но тот, кто пытается развлечь своего читателя разрозненными сочинениями, обнаруживает, что утомительность задачи скорее возрастает, чем уменьшается с каждым новым опытом. Каждый день призывает его к новой теме, и он должен снова выбирать, лишенный всякого принципа, определяющего его выбор.
На самом деле, необходимость искать подходящий предмет и долго исследовать его возникает достаточно редко. Все разнообразие природы и искусства, любое общественное благо или несчастье, любая боль или удовольствие частной жизни, любая капризная вспышка, любая абсурдная ошибка или ухищрение аффектации могут дать материал тому, кто следует единственному правилу избегать однообразия. Но часто случается, что суждение устает от безграничной множественности, воображение переходит с одного замысла на другой, время проходит незаметно, пока не оказывается, что с сочинением нельзя тянуть дольше, и необходимость заставляет обратиться к тем мыслям, которые сейчас под рукой. Ум, радуясь, что в любом случае освободился от утомления неопределенности, рьяно принимается за работу, подбирает украшения и иллюстрации, и иногда завершает удачно и элегантно то, что в спокойном состоянии и имея досуг еще бы и не начал писать.
Редко замечают, что многое определяется случаем или какой-либо причиной, нам неподвластной, каким бы именем ее ни назвать, даже в тех действиях, где, как считается, особенно нужен /сознательный/ выбор. Не только эссеисту свойственно заканчивать утомительные размышления поспешными решениями и после долгих совещаний с разумом передавать решение вопроса на усмотрения каприза. Пусть тот, кто читает это эссе, вспомнит ряд эпизодов своей жизни и подумает о том, как он пришел к своему нынешнему состоянию. Он увидит, что из того, что ему пришлось пережить хорошего или плохого, большая часть произошла неожиданно, без всяких видимых подступов, что на каждое событие влияли причины, действовавшие без его вмешательства, и когда бы он ни претендовал на прерогативу предвидения, он был уязвлен новым сознанием своей недальновидности.
Деловые, честолюбивые, непостоянные, авантюрные люди, можно сказать, сознательно бросаются в объятия случая, добровольно отказываются от власти управлять собой; они ведут образ жизни, в котором мало что может быть предопределено предшествующими мерами, и неудивительно, что они пребывают между восторгом и унынием, надеждой и разочарованием.
Есть другие люди, которые, как кажется, идут по жизни с большей осторожностью, и не делают ни шага, пока не убедятся, что обезопасили себя от возможности свалиться в пропасть; ни удовольствие, ни выгода не могут соблазнить их сойти с проторенной дороги, они отказываются лезть наверх из опасения упасть, или бежать из опасения споткнуться, они медленно движутся вперед, не поддаваясь тем страстям, которые соблазняют и предают решительных и упрямых.
Тем не менее, даже робкое благоразумие этого здравомыслящего класса людей не позволяет им избежать влияния случая, трудно уловимой и коварной силы, которая вторгается в частную жизнь и встает на пути предосторожности. Никакой образ жизни не может быть настолько ограниченным и замкнутым, чтобы во многих действиях не приходилось руководствоваться случайным выбором. Каждый человек должен иметь общий план своих действий, исходя из своих размышлений, он должен принять решение, будет ли он добиваться богатства или предпочтет быть довольным имеющимся, станет ли он развивать частные или общественные добродетели, будет ли он трудиться ради общего блага человечества или ограничит свои благодеяния кругом своей семьи и подчиненных.
Этот вопрос долго занимал философские школы, но остается до сих пор нерешенным, и можно ли надеяться, что молодой человек, незнакомый с аргументами за и против, определит свою судьбу иначе как случайно?
Когда случай дает человеку партнершу для супружеской жизни, которую он предпочитает всем другим женщинам, не имея никаких доказательств того, что она обладает особыми достоинствами, случай должен руководить им дальше и при воспитании своих детей, ибо кто же когда был способен убедить себя доводами, что он избрал для своего сына именно тот способ обучения, который наиболее подходит для его склада ума и который наиболее легким путем приведет его к мудрости и добродетели?
Кто бы ни взялся расспрашивать, какими мотивами человек руководствовался в этих важных вопросах, найдет, что они были такими, о каких гордость вряд ли позволит ему признаться; какое-то внезапно вспыхнувшее желание, какое-то смутное понятие о преимуществе, какое-то мелкое соперничество, какой-то неточный вывод или пример, вызвавший уважение. Таковы часто непосредственные причины наших решений, ведь необходимо действовать, но невозможно ни предугадать последствия наших действий, ни обсудить все доводы за и против, которые видят любознательность и заботливость.
Так как жизнь сама по себе изменчива, все, что имеет жизнь в своей основе, лишено стабильности. Но это еще малая часть наших затруднений. Мы отправляемся в плавание по бурному морю в поисках такого порта, в котором мы надеемся обрести отдых, но не уверены, что нас примут. Нам грозит опасность не только утонуть в пути, но и сбиться с курса, или приняв метеоры за звезды, или из-за перемены ветра, или из-за неопытности лоцмана. И все же иногда случается, что встречные ветры приносят нас к более безопасному берегу, что метеоры отводят нас от водоворотов, что небрежность или ошибка приводят к нашему спасению от несчастий, в которые прямой курс непременно бы вверг нас. А из тех, кто поспешными решениями вовлек себя в несчастье без вины, как бы они себя ни укоряли, мало кто может быть уверенным, что другие меры были бы более успешными.
В этом состоянии всеобщей неуверенности, когда тысячи опасностей витают над нами, когда никто не может сказать, не является ли благо, которое он преследует, замаскированным злом, и принесет ли следующий шаг безопасность или погибель, ничто не может дать нам разумного спокойствия, кроме убеждения в том, что, как бы мы ни развлекали себя своими неидеальными понятиями, ничто в реальности не определяется случаем, но что вселенная находится под постоянным присмотром Того, кто создал ее, что наше существование в руках всемогущего Добра, и то, что кажется нам случайностью, в конечном счете направляется на цели благие и милосердные, и что по большому счету ничто не может повредить тому, кто не лишает себя права на Божественную милость.
Георг Лукач
О сущности и форме эссе: письмо Лео Попперу[14 - Венгр.: “Az esszе lеnyegеrol еs formаjаrоl. Levеla kisеrletrol”, нем. „?ber Wesen und Form des Essays. Ein Brief an Leo Popper”. Текст был впервые опубликован в начале 1910 г. на венгерском языке в составе сборника эссе Лукача “A lеlek еs a formаk”; в 1911 г. вышла из печати немецкая версия в немецкоязычном сборнике “Seele und Formen“, посвященном памяти покончившей с собой возлюбленной и музы Лукача – художницы Ирмы Зайдлер. Венгерское и немецкое издания несколько отличаются по структуре и составу. Идея сборника эссе родилась весной 1909 г. во время переписки Лукача с близким другом, венгерским художником, музыкантом и историком искусств Лео Поппером. В венгерской версии «О сущности и форме эссе» имело подзаголовок «Письмо об опыте»; в версии немецкой, переведенной, судя по всему, кем-то из друзей Лукача, подзаголовок был изменен на «Письмо Лео Попперу». Данное эссе было написано Лукачем последним (значительная часть текстов из сборника уже публиковалась между 1907–1910 гг. в журналах), но в обоих изданиях выполняло функцию теоретического введения, а также задавало своего рода образец того, как надо составлять эссе. «О сущности и форме» создавалось как письмо к другу и представляет собой продолжение незаконченной дискуссии с Поппером о форме, начатой еще в переписке в октябре 1909 г. Адресат играет в данном тексте роль собеседника, но скорее соглашается с высказываниями Лукача, чем ставит их под сомнение. В литературоведческих исследованиях «О сущности и форме» равно как и создание всего сборника эссе рассматривают в контексте тогдашнего увлечения, но при этом довольно противоречивого отношения Лукача к теории искусства и эстетике ранних немецких романтиков.Публикуется по изд.: Лукач Г. Душа и формы. Эссе/Пер. с нем. и предисл. С.Н. Земляного, послесл. A.C. Стыкалина. М.: Логос-Альтера; Ecce homo, 2006.С. 45–64.]
Мой друг! Эссе, которые предопределены для этой книги, лежат предо мной. И я спрашиваю себя: позволительно ли издавать подобные работы? Может ли из них возникнуть новое единство, некая книга? Ибо для нас теперь суть дела состоит не в том, что именно данные эссе способны предложить в качестве исследований по «истории литературы»; но она заключается лишь в том, содержится ли в них нечто, благодаря чему они становятся новой, своеобычной формой. И в том, является ли этот принцип в каждом из эссе одним и тем же. Что такое помянутое единство – если оно вообще имеет место? Я вовсе не пытаюсь его сформулировать, ведь тут идет речь не обо мне и не о моей книге. Более важный, более общий вопрос стоит перед нами: вопрос о возможности подобного единства. В какой мере оформлены действительно великие произведения, которые относятся к этой категории? В какой мере эта их форма является самостоятельной? В какой мере характер созерцания и его формообразование (ihr Gestalten) изымают [эссеистское][15 - В круглых скобках ( ) в тексте приводятся немецкие термины Лукача, не имеющие взаимно однозначных эквивалентов в русском философском словаре; в квадратных скобках [ ] даются вставки переводчика, полезные для удобопонятности текста. – Прим. пер.] произведение из области наук и помещают его подле искусства, не смазывая их границ? В какой мере они дают произведению силу к новому понятийному упорядочению жизни и, тем не менее, удерживают его вдалеке от ледяного окончательного совершенства философии? Но это есть единственно возможная глубокая апология таких произведений, правда, – одновременно также их глубочайшая критика. Ведь с тем критерием, который будет здесь установлен, в первую очередь и будут соизмерены эссеистские произведения. А определение данной цели обнаружит в первую очередь, в какой дали таковая от них находится.
Итак: критика, эссе – называй их, как Ты хочешь, – в качестве художественного произведения, рода искусства. Я знаю, что этот вопрос наводит на Тебя скуку, что Ты чувствуешь: все аргументы и контраргументы, с ним связанные, уже давно амортизированы. Ибо Уайльд и Керр лишь сделали общедоступной истину, известную уже немецкому романтизму, – истину, чей конечный смысл греки и римляне совершенно бессознательно воспринимали как самоочевидный: критика является искусством, а не наукой. Тем не менее, я полагаю, – и лишь поэтому рискую обременить Тебя данными заметками, – что все эти споры едва ли затронули сущность настоящего вопроса: вопроса о том, что такое эссе, и каковы его преднамеренная цель, средства и пути выражения. Я полагаю, что здесь чересчур односторонне подчеркивался момент «хорошего письма» (das “Gutgeschriebensein”); что [с нажимом проводился тезис, будто] эссе может быть стилистически равноценным поэтическому творению, а потому тут неправомерно говорить о ценностных различиях. Может быть. Но что это означает? Коль скоро мы рассматриваем также и критику в качестве художественного произведения, мы еще вообще ничего не говорим о ее сущности. «То, что хорошо написано, является художественным произведением»: являются ли хорошо написанные анонс и текущая новость также поэзией? Здесь мне видится то, что столь претит Тебе в подобной трактовке критики: анархия; отрицание формы с тем, чтобы мнящий себя суверенным интеллект мог свободно играть свои игры с возможностями всякого свойства. Но когда я тут толкую об эссе как о некоторой художественной форме, я делаю это во имя порядка (стало быть, сугубо символически и не специфически); я делаю это, лишь исходя из ощущения, что эссе имеет форму, которая с неумолимой строгостью закона отделяет его от всех других художественных форм. Я пытаюсь изолировать эссе настолько резко, насколько это вообще возможно, именно посредством того, что я называю его теперь художественной формой.
Поэтому речь здесь идет не о сходствах эссе с поэтическими творениями, а о том, что их разделяет. Всякое их сходство тут есть лишь фон, на котором с тем большей отчетливостью выделяется их различие. О сходствах мы также хотим упомянуть затем, чтобы для нас теперь наличествовали только истинные эссе, а не те полезные, но неправомерно причисляемые к эссе произведения, которые никогда не умеют дать нам нечто большее, нежели поучения, сведения и «взаимосвязи». Собственно, почему мы читаем эссе? Многие – ради поучения; но немало и тех, кого в эссе притягивает что-то совсем иное. Их не трудно разделить: не правда ли, мы сегодня видим и оцениваем “tragеdie classique” совершенно по-другому, чем Лессинг в «Гамбургской драматургии». Диковинными и почти непонятными кажутся нам греки Винкельмана; наверное, скоро мы станем подобным же образом воспринимать Ренессанс Буркхардта. И, тем не менее, мы их читаем: почему? Имеют место, однако, и такие [литературно] критические произведения, которые аналогично естественнонаучной гипотезе, аналогично новой машинной конструкции теряют всю свою ценность в тот момент, когда появляется новая, лучшая гипотеза или конструкция. Но если вдруг кто-либо возьмется, – на что я надеюсь и уповаю, – написать новую «Драматургию», выступающую за Корнеля и против Шекспира, то какой ущерб это может нанести «Гамбургской драматургии» Лессинга? Разве способны Буркхардт и Патер, Роде и Ницше как-либо повлиять на действенность греческих мечтаний Винкельмана?
«О, если бы критика была наукой», – пишет Керр. – «Но неуловимое в ней слишком сильно. В лучшем случае критика является искусством». Но даже если бы критика представляла собой науку (нельзя считать невероятным, что критика способна ею стать): разве это могло что-либо изменить в нашей проблеме? Здесь дело не в эрзаце, а в чем-то принципиально новом, в чем-то таком, чего не затронет полное или приблизительное достижение научных целей. В науке на нас воздействуют содержания, в искусстве – формы; наука презентует нам факты и их взаимосвязи, а искусство – души и судьбы. Тут пути расходятся; тут не бывает эрзацев и переходов. И пусть даже в примитивные, еще не претерпевшие дифференциации эпохи наука и искусство (равно как религия, этика и политика) существуют в нераздельности и единстве, но как только наука отпочковывается и становится автономной, все предварительное теряет свою ценность. Только то, что разрешило все свои содержания в форме и тем самым стало чистым искусством, уже не может больше стать излишним. Но тогда его былая научность предается полному забвению и теряет всякое значение. Стало быть, имеется в наличии искусствознание; но есть еще один, совсем иной способ изъявления человеческих темпераментов, чьим выразительным средством является, по большей части, писательство об искусстве. Всего лишь по большей части, говорю я; ведь существует множество произведений, которые проистекли из подобных же чувствований, не будучи в каком-либо соприкосновении с литературой или искусством. Произведений, где поднимаются те же самые вопросы жизни, что и в любом из текстов, которые числят себя по ведомству [художественной] критики. Вот только эти вопросы адресованы непосредственно самой жизни; они не нуждаются в опосредствовании литературой или искусством. И как раз произведениям величайших эссеистов присущ данный характер: диалогам Платона и текстам мистиков, опытам Монтеня, имагинарным дневникам и новеллам Кьеркегора.
Бесконечный ряд неуловимых тонких переходов ведет отсюда к поэзии (zur Dichtung). Подумай о последней сцене в «Геракле» Еврипида: трагедия уже близится к концу, когда появляется Тезей и узнает все, что произошло, узнает о страшной мести Геры Гераклу. И тут начинается разговор между печальным Гераклом и его другом; звучат вопросы, родственные сократическим диалогам, но вопрошающие являются более косными и менее человечными, а их вопросы – более понятийными; они в большей мере перескакивают через непосредственное переживание, чем в платоновских диалогах. Подумай о последнем проходе в «Михаэле Крамере», об «Исповеданиях прекрасной души», о Данте, об «Everyman», о Беньяне – должен ли я приводить Тебе еще и последующие примеры?
Ты, очевидно, скажешь: «Концовка «Геракла» не драматична, а Беньян…». Наверное, наверное: но из-за чего? «Геракл» не драматичен, так как естественным следствием всякого драматического стиля является то, что все происходящее во внутреннем мире (im Innern) проецируется в деяния, движения и жесты людей, то есть делается зримым и чувственно досягаемым. Здесь Ты видишь, как месть Геры приближается к Гераклу. Ты видишь Геракла в состоянии святого упоения победой, покуда месть не настигает его. Ты видишь его неистовые жесты в безумии, в которое его ввергла Гера, и его дикое отчаянье после бури, когда перед ним предстает то, что он натворил. Но до всего последующего Ты не видишь ровно ничего. Появляется Тесей – и Ты напрасно пытаешься иначе, нежели понятийным порядком, определить то, что сейчас происходит: что ты слышишь и видишь, более не есть подлинное средство выражения события; это лишь безразличная в своей внутреннейшей сути окказиональность, что нечто подобное вообще случается. Ты видишь только одно: Тесей и Геракл вместе покидают сцену. Прежде раздавались вопросы: каковы на самом деле, взаправду боги? В каких богов нам надлежало бы верить и в каких нет? Что такое жизнь, и каким образом пристало лучше всего переносить ее страдания? Конкретное переживание (das konkrete Erlebnis), которое пробуждали эти вопросы, исчезает в бесконечной дали. И коль скоро ответы снова возвращаются в мир фактов, они уже больше не являются ответами на вопросы какие подняла живая жизнь; на вопросы о том, так что же эти люди здесь и теперь, в этой определенной жизненной ситуации должны делать, и чему они должны попускать. Эти ответы взирают на любой факт чужим взглядом, ибо они исходят от жизни как таковой и от богов как таковых (von dem Leben und von den G?ttern); и им едва ли внятны боль Геракла и ее причина, месть Геры. Я знаю: драма адресует свои вопросы жизни как таковой, а источником ответа и там является судьба как таковая; и в конечном счете и вопросы, и ответы также и здесь завязаны на определенную вещь (an eine bestimmte Sache). Тем не менее, подлинный драматург (поскольку он является подлинным поэтом, настоящим поборником поэтического принципа) станет глядеть на некую жизнь с такой щедростью и такой интенсивностью, что она почти незаметно обратится жизнью как таковой. Но тут все лишено драматичности, ибо тут действует другой принцип; ведь та жизнь, которая здесь ставит вопросы, теряет всякую телесность, как только раздается первое слово вопроса.
Итак, имеют место два типа душевных действительностей: жизнь как таковая (das Leben) и просто жизнь (das Leben); обе имеют равную действительность, но они никогда не могут быть действительными одновременно. В каждом переживании каждого отдельно взятого человека содержатся оба элемента, пусть даже с всегда различной силой и глубиной; также в воспоминании наличествует то один, то другой; однако разом мы можем воспринять их только в какой-то форме. С тех пор как существует жизнь, и люди хотят постигнуть и упорядочить жизнь, всегда в их переживаниях бывала эта двойственность (diese Zweiheit). Разве что поединок за первичность и превосходство по большей части происходил на арене философии, и всякий раз раздавались другие боевые кличи; также потому [поединок оставался] для большинства людей непознанным и несомненным. Яснее всего, сдается, вопрос был поставлен в средние века, когда все мыслящие люди разделились на два лагеря. Один из них утверждал относительно универсалий, понятий (платоновских идей, если Тебе угодно), что они суть единственные истинные действительности; в то время как другой признавал их лишь как слова, как обобщающие имена единственно истинных отдельных вещей.
Такая двойственность разделяет также средства выражения; тут противостоят друг другу образ и «значение». Первый принцип присущ созданию образов, второй – полаганию значений; для одного существуют только вещи, для другого – только их взаимосвязи, только понятия и ценности. Поэзия сама по себе не ведает ни о чем, что находилось бы по ту сторону вещей; всякая вещь для нее есть нечто серьезное и сингулярное и несравненное. Поэтому поэзия также не знает никаких вопросов; не чистым вещам адресуют вопросы, а лишь их взаимосвязям; ибо – как в сказке – здесь из любого вопроса вновь получается вещь, подобная той, что пробудила ее к жизни. Герой стоит на перекрестке дорог или посреди битвы, но перекресток дорог и битва не суть судьбы, в отношении которых имеются вопросы и ответы; они попросту и буквально являются битвами и перекрестками дорог. И герой трубит в свой горн, взывающий к чуду, и чудо случается – вещь, которая по-новому упорядочивает вещи. В действительно глубокой критике, однако, не бывает жизни вещей, не бывает образов, а бывает лишь прозрачность (Transparenz), лишь нечто такое, что ни один образ не сумеет выразить полноценно. «Безобразность всех образов» является целью всех мистиков; издевательски презрительно Сократ говорит Федру о поэтах, которые никогда не могли достойно воспеть истинную жизнь души и вряд ли когда-либо воспоют. Занебесную область, где живут бессмертные души, говорит Сократ, «занимает бесцветная, без очертаний, неосязаемая сущность, подлинно существующая, зримая лишь кормчему души – уму».
Ты, наверное, захочешь возразить: мой поэт – это пустая абстракция, равно как и мой критик. Ты прав: оба они являются абстракциями, но, наверное, все-таки не совсем пустыми. Они являются абстракциями, ибо даже Сократ вынужден говорить в метафорах о своем мире без очертаний (ohne Gestalt) и по ту сторону всех образов, и даже термин «безобразность» немецких мистиков есть метафора. Не бывает также поэзии без упорядочения вещей. Мэтью Арнолд однажды назвал ее “Criticism of Life”. Она изображает финальные взаимосвязи между человеком и судьбой и миром и, конечно же, проистекает из подобной глубочайшей концепции, даже если она зачастую и не знает о своем происхождении. И пусть она зачастую отрешается от всякой постановки вопроса и концепции, – не является ли отрицание всяких вопросов также постановкой вопроса, а их сознательное отклонение – некоей концепцией? Пойдем дальше: разделение между образом и значением также есть абстракция, ибо значение всегда находится в оболочке образов, а отсвет сияния того, что потусторонне образам, просвечивает в каждом образе. Всякий образ – от мира сего; и лик его излучает радость существования. Но он вспоминает и напоминает нам о чем-то, что было когда-то, о некоем где-то, о своей родине, о том единственном, что важно и значимо для души в самой ее основе. Да, будучи взятыми в своей нагой чистоте, они суть лишь абстракции, два этих экстремума человеческого чувствования [образ и значение], но только с помощью таких абстракций я способен обозначить оба полюса литературного выражения, две его крайних возможности. И тексты тех, кто самым решительным образом отворачивается от образов, кто наиболее пылко стремится к тому, что позади них, – это произведения критиков, платоников и мистиков.
Но тем самым я хотел бы пометить уже здесь, почему этот род чувствования требует для себя художественной формы, почему любое из их, критиков etc., высказываний в других формах, в поэзии всегда будет помехой. Ты однажды уже высказал великое требование по отношению ко всем формообразованиям; может быть, требование единственно всеобщее, но не ведающее пощады и исключений: в произведении все должно быть сформовано из одного материала, так, чтобы каждую из его частей можно было наглядно упорядочить при взгляде из одной точки. И поскольку все повинное письму стремится как к единству, так и к множественности, постольку стилевая проблема всего и вся такова: равновесие в многообразии вещей, богатое структурирование однородной массы. Что жизнеспособно в одной художественной форме, то мертво в другой: это и есть практическое, осязаемое доказательство внутреннего разделения форм. Помнишь, как Ты объяснял мне жизненность людей на некоторых сильно стилизованных фресках? Ты сказал: фрески помещены между колоннами; и даже если жесты людей скованы, как у марионеток, а их лица не более чем маски, но, тем не менее, все это более жизненно, чем колонны, которые обрамляют картины, с которыми они образуют декоративное единство. Чуть более жизненно, ибо должно сохранить единство; но все-таки более жизненно, чтобы возникла иллюзия. Но здесь проблема равновесия ставится следующим образом: мир и потусторонность, образ и прозрачность, идея и эманация находятся на чашах весов, которые должны стать вровень. Чем глубже проникает вопрос (просто сравни трагедию со сказкой), тем линеарнее образы; тем меньше плоскостей, на которых теснится все и вся; тем бледнее и матовей становятся цвета; тем проще – богатство и разнообразие мира; тем больше походят на маски выражения человеческих лиц. Но есть еще переживания, для проявления которых также самый простой и умеренный жест – это уже чересчур много. И одновременно – слишком мало. Наличествуют вопросы, чей голос звучит так тихо, что для них отзвук самого беззвучного события стал бы грубым шумом, а не музыкальным аккомпанементом. Существуют судьбические отношения, которые настолько являются отношениями судеб самих по себе, что все человеческое лишь нарушило бы их абстрактную чистоту и высоту. Тут речь не о тонкости и глубине; это – ценностные категории, стало быть, они имеют значимость только внутри формы. Мы говорим о фундаментальных принципах, которые отделяют формы друг от друга; о матерьяле, из которого все построено; о точке зрения, о миросозерцании, которые придают всему единство. Буду краток: если сравнить различные формы поэзии с преломленным через призму солнечным светом, то произведения эссеистов уподобились бы ультрафиолетовым лучам.
Итак, существуют переживания, которые не могут быть выражены никаким жестом и которые, тем не менее, взыскуют выражения. Из вышеизложенного Ты уже знаешь, какие переживания я имею в виду, и какой характер они имеют. Таковы интеллектуальность, категориальность как сентиментальное переживание, как непосредственная действительность, как спонтанный принцип существования; мировоззрение в своей неприкрытой чистоте как душевное событие, как движущая сила жизни. Непосредственно поставленный вопрос: что такое жизнь, человек и судьба? Но лишь как вопрос; ибо и тут ответ не дает «решения», наподобие решений науки или – в горних высях – решений философии. Напротив, как в поэзии всякого рода, ответ [в эссе] – это символ и судьба и трагизм. Когда человек переживает нечто такое, то все внешнее в нем ожидает в окаменелой неподвижности разрешения, которое принесет борьба невидимых, недоступных чувствам сил. Любой жест, которым человек желает выразить что-то из этого, сделает ложным его переживание, если только этот жест не будет иронически подчеркивать свою собственную неадекватность и таким образом тотчас же себя уничтожать (aufheben). Человек, который переживает такое, не выражает ничего внешнего: как может поэзия создать его образ? Всякое письмо (Schreiben) изображает мир в символе какого-то судьбического отношения; повсюду проблема судьбы определяет проблему формы. Это единство, это сосуществование являются настолько тесными, что один элемент никогда не выступает без другого, а разделение [между ними] возможно здесь только в абстракции. Стало быть, то разъединение, которое я пытаюсь тут предпринять, по-видимому, является практически лишь различием акцентировки: поэзия получает от судьбы свой профиль, свою форму; форма проявляется здесь всегда только как судьба; в произведениях эссеистов форма становится судьбой, судьбоносным принципом. А это различие означает следующее: судьба изымает вещи из мира вещей, акцентирует весомые и исключает несущественные; а формы ограничивают матерьял, который в противном случае, подобно воздуху, расточился бы во вселенной. Судьба, таким образом, приходит оттуда, откуда приходит все прочее, как вещь среди вещей; в то время как форма – рассматриваемая как нечто готовое, то есть извне – определяет границы сущностно чуждому. Поскольку судьба, упорядочивающая вещи, есть плоть от их плоти и кровь от их крови, постольку в произведениях эссеистов нет судьбы. Ибо судьба, обнаженная от свой однократности и случайности, является воздушно имматериальной точно так же, как всякий бесплотный матерьял этих произведений; она способна дать им форму в столь малой степени, в какой они сами лишены всякой склонности и возможности конденсации в форму.
Поэтому такие произведения говорят о формах. Критиком является тот, кто распознает судьбическое в формах, чье сильнейшее переживание есть то душевное содержание, которое формы таят в себе косвенно и неосознанно. Форма – это его великое переживание; как непосредственное переживание она является образным, действительно живым началом в его произведениях. Эту форму, возникшую из символического рассмотрения жизненных символов, жизни сообщает сила такого переживания. Она становится мировоззрением, точкой зрения, позицией по отношению к жизни, из которой она возникла, возможностью ее перестроить и создать заново. Стало быть, судьбический момент для критика – тот, когда вещи становятся формами; то мгновение, когда все чувства, имманентные и трансцендентные форме, приобретают форму, сливаются и сгущаются в форму. Это мистическое мгновение слияния внешнего и внутреннего, души и формы. Мгновение настолько же мистическое, насколько мистичен судьбический момент трагедии, когда встречаются герой и судьба, он же – момент новеллы, когда встречаются случай и космическая необходимость, он же – момент лирики, когда встречаются душа и фон, – тот судьбический момент, когда они встречаются и срастаются в новое, не разделимое ни в прошлом, ни в будущем единство. Форма является действительностью в произведениях критика; она его голос, каким он адресует свои вопросы жизни: в этом состоит настоящая, глубочайшая причина, почему литература и искусство являются типичными естественными объектами критики. Ибо тут конечная цель поэзии может превратиться в исходный пункт и начало; ибо тут форма, даже в своей абстрактной категориальности, кажется чем-то надежно и осязаемо действительным. Но это лишь типичный матерьял эссе, но отнюдь не единственный. Ведь эссеист нуждается в форме лишь в качестве переживания, он нуждается только в той живой душевной действительности, которая в ней содержится. Однако такую действительность можно отыскать в любом непосредственном, чувственном проявлении жизни, можно вычитать из него и в него вчитать. Благодаря подобной схеме возможно переживать и формировать самое жизнь. И лишь поскольку литература, искусство и философия открыто и прямо устремляются к формам, в то время как в самой жизни они суть идеальное требование людей и переживаний известного сорта, постольку по отношению в оформленному в сравнении с прожитым критику необходима меньшая интенсивность способностей к переживанию; постольку действительность, какую открывает узрение формы (die Formvision), кажется здесь менее проблематичной, нежели там. Но так дело обстоит только при первом и поверхностном рассмотрении, ведь форма жизни не более абстрактна, чем форма стихотворения. Также и в жизни форма становится ощутимой только посредством абстракции, а ее правда также и здесь не является более могущественной, чем сила, с которой она переживается. Плоским было бы различение поэтических произведений в зависимости от того, черпают ли они свое содержание из жизни или откуда-то еще. Ведь формотворческая сила поэзии так или иначе ломает и развеивает все прежнее, уже оформленное, в ее руках все становится неоформленным сырым матерьялом. Столь же плоским мне представляется такое разделение и здесь, в жизни. Ибо оба вида миросозерцания суть лишь позиции по отношению к вещам. И каждый из них применим повсюду, хотя верно и то, что для каждой из разновидностей миросозерцания наличествуют такие вещи, которые с некоей естественной самоочевидностью подпадают под данную точку зрения, и другие, что могут быть принуждены к этому только посредством яростной борьбы и глубочайших переживаний.
Здесь, как и в любой подлинно существенной взаимосвязи, естественное воздействие матерьяла соприкасается с непосредственной утилитарностью: переживания, для выражения коих возникли произведения эссеистов, большинству людей становятся внятными только при виде картин или чтении поэтических произведений; они едва ли обладают силой, способной привести в движение самое жизнь. Поэтому большинство людей предпочитает верить, что тексты эссеистов написаны только ради того, чтобы объяснять книги и картины, облегчать их понимание. И все-таки указанная взаимосвязь является глубокой и необходимой. Именно нераздельное и органичное в этом смешении случайного и необходимого бытия составляет исток того юмора и той иронии, которые мы можем найти в произведениях каждого поистине великого эссеиста. Того своеобразного юмора, который является настолько сильным, что о нем уже больше почти не подобает вести речь; ибо кто его не воспринимает спонтанно каждое мгновение, тому все равно не поможет никакое точное указание на него. Под иронией я подразумеваю, что критик всегда говорит о конечных вопросах жизни, но всегда – таким тоном, как если бы он толковал лишь о книгах и картинах, лишь о несущественных и прелестных орнаментациях большой жизни. Но и тут не касался бы самого заветного в душе, а лишь красивой и бесполезной поверхности. Кажется, будто любое эссе находится в максимальном удалении от жизни; и разрыв между ними, по-видимому, тем значительней, чем более жгучим и болезненным является чувство фактической близости их подлинных сущностей. Наверное, великий сир де Монтень ощущал нечто в этом роде, когда он давал своим произведениям красивое и меткое наименование “Essays”. Ибо безыскусная скромность этого слова есть высокомерная куртуазность. Эссеист охлаждает собственные гордые надежды на приближение к последней истине, как ему иногда мерещится: он-де способен предложить только объяснения поэтических произведений и, в лучшем случае, – своих собственных понятий. Но иронически он смиряется с этой мелочью – вечной мелочью глубочайшей мыслительной работы над жизнью, и с иронической скромностью он это еще и подчеркивает. У Платона интеллектуальность обрамлена мелкими жизненными реальностями. Эриксимах чиханьем спасает Аристофана от икоты, прежде чем тот обретает способность начать свои глубокомысленные гимны Эросу. А Гиппофалес с боязливым вниманием наблюдает за Сократом, когда он допрашивает возлюбленного Лисия. С детской зловредностью маленький Лисий призывает Сократа точно так же помучить своего друга Менексена, как он мучил его. Грубые воспитатели разрывают нити этого диалога нежно-переливчатой глубины и тащат мальчиков за собой домой. Но наибольший смех вызывает Сократ: «Сократ и оба мальчика захотели стать друзьями, но были даже не в состоянии сказать, что, собственно, значит друг». Однако и в гигантском научном аппарате некоторых новых эссеистов (подумай лишь о Вейнингере) я вижу сходную иронию. И только по-иному артикулированное выражение таковой наличествует в тонкой и сдержанной манере письма, которая была свойственна Дильтею. В любом произведении любого крупного эссеиста мы всегда сможем найти эту же самую иронию, правда, каждый раз в другой форме. Единственно средневековые мистики были напрочь лишены иронии: ведь я не должен растолковывать Тебе, почему?
Таким образом, критик, эссеист говорит по большей части о картинах, книгах и об идеях. Каково же его отношение к воссозданному? Повсеместно принято считать: критик-де должен высказать истину о вещах, а поэт не связан ни с какой истиной в своей позиции относительно вещей. Мы не собираемся здесь ни задаваться вопросом Пилата, ни выяснять, не вынуждается также и поэт к внутренней правдивости, и может ли истина некоего критика быть сильнее и больше, чем эта правдивость. Нет, ибо я вижу здесь фактически одно различие, только оно также и тут на своих абстрактных полюсах является совершенно чистым, резким и не имеющим никаких переходов. Когда я писал о Касснере, я уже упоминал это различие: эссе всегда имеет дело с чем-то уже оформленным или, по крайней мере, с чем-то уже некогда бывшем; от его сущности неотъемлемо то, что эссе не изымает новые вещи из пустого ничто, а просто по-новому упорядочивает вещи, которые некогда уже были жизненными. И поскольку эссе их лишь заново упорядочивает, а не формирует новое из бесформенного нечто, постольку эссе стеснено также и вещами и должно всегда высказывать «истину» о них, находить выражение для их сущности. Вероятно, указанное различие можно наиболее кратко сформулировать следующим образом: поэзия заимствует из жизни (и искусства) свои мотивы; для эссе искусство (и жизнь) служит в качестве модели; наверное, тем самым различие уже маркировано: парадоксальность эссе почти не разнится от парадоксальности портрета. Но видишь ли Ты причину этого? Не правда ли, относительно ландшафта Ты никогда не спрашиваешь, являются ли эта гора или эта река в действительности такими, какими они нарисованы на картине; но перед любым портретом всегда непроизвольно возникает вопрос о сходстве. Итак, поразмысли немного над этой проблемой сходства, бессмысленная и поверхностная постановка которой приводит в отчаяние художников. Ты стоишь перед портретом Веласкеса и говоришь: «Как похоже!» И Ты чувствуешь, что Ты действительно нечто сказал о картине. Похоже? На кого? Естественно, ни на кого. Ведь Тебе невдомек, кто на ней изображен; наверное, Ты никогда не сможешь об этом узнать. Но даже если дело обстоит так, это едва ли Тебя интересует. И все-таки Ты чувствуешь: портрет похож. В других картинах действие оказывают просто краски и линии, и у Тебя не возникает подобного чувства. По-настоящему значительные портреты, стало быть, наряду со всеми прочими чувственными впечатлениями дают нам еще и это: жизнь человека, который некогда воистину жил. И они вызывают у нас чувство, что его жизнь была именно такой, какой ее показывают линии и краски картины. И лишь потому, что мы видим: художник трудно боролся за этот идеал выражения; лишь потому, что видимость и лозунг такой борьбы есть не что иное, как битва за сходство, – только поэтому мы так называем суггестию некоей жизни, хотя на свете нет никого, с кем могла бы сходствовать картина. Ибо даже когда мы знакомы с изображенным человеком, чей портрет должен быть обозначен как «похожий» или «непохожий», – не является ли абстракцией утверждение о каком-то произвольном моменте или выражении: это его сущность? И если мы даже знаем тысячи подобных моментов, то что мы ведаем о несоизмеримо большей части его жизни, когда мы его не видим? Что мы ведаем о внутренних светах знакомых, что – об отсветах от них, падающих на других? Видишь ли, примерно так я представляю себе «истину» эссе. И тут идет борьба за истину, за воплощение жизни, которые некто вычитал из человека, эпохи, формы; но только от интенсивности работы и видения зависит то, извлечем ли мы из написанного суггестию этой одной жизни. Ведь здесь имеет место большое различие: поэзия дает нам жизненную иллюзию того, что она изображает; но никогда нельзя помыслить себе кого-то или нечто, с чем можно было соизмерить воссозданное. Герой эссе уже в какое-то время жил, стало быть, его жизнь должна быть воссоздана; но эта жизнь точно так же находится внутри произведения, как все прочее в поэзии. Все эти предпосылки деятельной силы и значимости увиденного эссе черпает из себя. То есть невозможно, чтобы два эссе противоречили друг другу: ведь каждое из них создает другой мир, и даже когда оно выходит за его рамки, дабы достичь более высокой степени всеобщности, по своему тону, цвету, акцентировке оно все-таки всегда остается в сотворенном мире; стало быть, эссе покидает сотворенный им мир только в несобственном смысле. Также неверно, что здесь наличествует объективный, внешний критерий жизненности и подлинности. Что мы якобы способны соизмерить с «настоящим» Гете истину Гете, нарисованного Гриммом, Дильтеем или Шлегелем. Это неверно потому, что многие Гете – различные между собой и глубоко отличные от нашего – уже разбудили в нас твердую жизненную веру; разочарованно распознаем мы наши собственные лики в других, чье слабое дыхание не способно сообщить им самовластную силу жизни. Правильно, что эссе стремится к истине: но подобно Савлу, который вышел из дома, чтобы разыскать ослиц своего отца, а нашел Царство Божие, эссеист, действительно способный искать истину, в конце пути найдет цель, которой он не домогался, – жизнь.
Иллюзия истины! Не забудь, как трудно и медленно отказывалась поэзия от данного идеала – это продолжалось отнюдь не так долго, и весьма сомнительным является то, что исчезновение действительно было попросту полезным. Весьма сомнительно, что человеку надлежит хотеть того, чего он должен достичь, что ему надлежит шагать к своей цели простыми прямыми путями. Подумай о рыцарском эпосе средневековья, о греческих трагедиях, о Джотто, и Ты узнаешь, что я здесь имею в виду. Не об обычной правде здесь надо вести речь, не о правде натурализма, которую стоило бы лучше называть повседневностью и тривиальностью, но об истине мифа – истине, чья сила сквозь столетия сохраняет жизнь древним мифам и легендам. Подлинно мифологические поэты просто искали истинный смысл своих тем, чью прагматическую действительность они не могли и не хотели подрывать. Они рассматривали эти мифы как священные и таинственные иероглифы, а их расшифровку считали своей миссией. Но не полагаешь ли Ты, что каждый мир может иметь свою собственную мифологию? Уже Фридрих Шлегель сказал, что не Германн и Водан были национальными богами немцев, а наука и искусство. Это, конечно, неверно в отношении всей жизни немцев; но тем более метко характеризует Шлегель одну часть жизни каждого народа и каждого времени, а именно – ту ее часть, о которой мы теперь не прерываясь собеседуем. Также и эта жизнь имеет свои золотые века и потерянные парадизы; мы находим там богатую жизнь, полную чудесных приключений, не лишенную также загадочных предчувствий темных грехов; поднимаются солнечные герои и ведут свои жесткие распри с силами тьмы; и здесь тоже умные слова мудрых волшебников, манящие мелодии прекрасных сирен ведут к погибели всякого, кто дал слабину; и здесь имеют место смертный грех и искупление. Тут в наличии все сражения жизни – только все здесь из другого материала, как в другой жизни.
Мы требуем, чтобы поэты и критики давали нам символы жизни и придавали еще живым мифам и легендам форму наших вопросов. Не правда ли, есть тонкая и захватывающая ирония в том, что великий критик мечтательно вписывает нашу тоску в раннюю флорентийскую живопись или в греческие скульптуры и тем самым черпает из них для нас нечто такое, чего мы в других случаях напрасно домогались повсюду, а затем рассуждает о новых результатах научного исследования, о новых методах и новых фактах? Факты всегда были налицо, и всегда в них уже все содержалось, но каждая эпоха нуждается в других греках, другом средневековье и другом Ренессансе. Каждая эпоха будет создавать для себя ей необходимое, и только следующие за ней преемники верят в то, что мечты отцов были «ложью», которую нужно перебороть собственными новыми «истинами». Но история воздействия поэзии также протекает подобным образом; и в критике тоже ныне живущие едва ли посягают на продолжающееся существование мечтаний дедов, равно как и мечтаний тех, кто умер ранее них. Посему могут мирно сожительствовать друг с другом самые разные «концепции» Ренессанса, точно так же, как новая Федра, или Зигфрид, или Тристан, сотворенные новым поэтом, всегда оставляют в неприкосновенности их образы, созданные предшественниками.
Разумеется, есть искусствознание, и оно должно быть. И как раз величайшие представители эссеизма менее всего могли от него отречься: что они создавали, должно было также представлять собой науку, коль скоро их видение жизни однажды преступало пределы науки. Зачастую его свободный полет связывают неприкосновенные факты сухого матерьяла. Зачастую оно теряет всякую научную ценность, так как оно все-таки является видением и наличествует прежде фактов, с которыми оно, поэтому, обращается свободно и своевольно. Форма эссе до сих пор все еще не прошла путь обретения самостоятельности, который давно пробежала его сестра, поэзия: путь развития, началом которого было ее примитивное, недифференцированное единство с наукой, моралью и искусством. Но это начало было столь мощным, столь величественным, что позднейшее развитие никогда по-настоящему не достигало его уровня и смогло лишь в лучшем случае пару раз к нему приблизиться. Разумеется, я имею в виду Платона, величайшего эссеиста, какой когда-либо жил и писал, который все получал непосредственно от разыгрывающейся перед ним жизни, не нуждаясь ни в каком посредствующем медиуме. Который смог сомкнуть с живой жизнью свои вопросы – самые глубокие из всех когда-либо поставленных. Величайший мастер эссеистской формы был также самым счастливым из всех творцов: в непосредственной близости к нему жил человек, чья сущность и судьба явились для этой формы парадигматическими сущностью и судьбой. Наверное, такая парадигматичность проявилась бы и в самых сухих записках о нем, а не только благодаря своему чудесному художественному выражению: настолько сильным является тут согласие этой жизни и этой формы. Как бы то ни было, Платон повстречал Сократа и был вправе использовать его судьбу в качестве рычага для своих вопросов к жизни о судьбе. Ведь жизнь Сократа является типичной для формы эссе – типичной в такой высокой мере, какой никакая другая жизнь не является для любого из поэтических жанров. За одним единственным исключением – трагедий Эдипа. Сократ всегда жил [в огне] последних вопросов, всякая иная жизненная действительность была для него столь же мало жизненно важной (lebenhaft), как и его вопросы – для обыкновенных людей. Понятия, в которые он вогнал всю жизнь целиком, он переживал с самой непосредственной витальной энергией. Все прочее было для него подобием этой единственно истинной действительности, годным лишь в качестве средства выражения таких переживаний. Глубочайшая, сокровеннейшая тоска звучит в этой жизни, исполненной самых яростных битв. Но тоска есть это просто самое тоска, это форма, в которой она проявляется; попытка постичь сущность тоски и концептуально ее зафиксировать. А битвы суть только словесные споры, которые затеваются для того, чтобы более определенно очертить пару понятий. Однако тоска заполняет жизнь без остатка, а битвы ведутся буквально не на жизнь, а на смерть. Но несмотря ни на что, эта тоска, что, по-видимому, заполняет жизнь, не есть существенное в жизни, а помянутые битвы не на жизнь, а на смерть, не способны выразить ни жизнь, ни смерть. Если бы такое было возможно, то смерть Сократа стала бы мученичеством или трагедией, поддавалась бы, таким образом, эпическому или драматургическому изображению. И Платон в точности знал, почему он сжег трагедию, которую написал в юности. Ибо трагическую жизнь венчает только финал; лишь финал впервые придает всему значение, смысл и форму. И как раз финал здесь всегда является произвольным и ироническим: в каждом платоновском диалоге – и во всей жизни Сократа. Некий вопрос так поставлен и так углублен, что из него получается вопрос всех вопросов, но тогда все остается открытым; извне, из реальности, которая не находится во взаимосвязи ни с вопросом, ни с тем, что как возможность ответа встречает его новым вопросом, – из этой реальности приходит нечто, дабы все прервать. Такое прерывание не есть финал; оно проистекает отнюдь не изнутри (aus dem Innern), но, тем не менее, это – самый глубокий финал, ибо изнутри невозможно никакое завершение. Для Сократа любое событие было лишь поводом для прояснения понятий, его защита перед лицом обвинителей – только доведением до абсурда слабых логиков. А его смерть? Смерть сюда не относится, ее не схватить с помощью понятий; она прерывает великий диалог, единственно истинную действительность – прерывает столь же брутально и внешне, как тот грубый воспитатель, прервавший разговор Сократа с Лисием. Подобное прерывание, однако, возможно рассматривать только юмористически; оно имеет чересчур мало общего с тем, что оно прерывает. Но оно также является глубоким символом жизни, юмористическим еще более в силу того, что сущностное всегда прерывается чем-то в этом роде и всегда – аналогичным образом.
Греки воспринимали каждую из наличных у них форм как действительность, как нечто живое, а не в качестве абстракции. Поэтому уже Алкивиад ясно видел (а Ницше много столетий спустя вновь остро подчеркнул), что Сократ был человеком нового сорта, глубоко отличным по своей труднопостижимой сущности от всех греков, которые жили до него. Но Сократ также – в том же самом диалоге – сформулировал вечный идеал человека своего сорта, чего никак не могли постичь ни те, кто предается целиком человеческим эмоциям, ни те, кто является поэтом по своей глубочайшей сути: а именно, что трагизм и комизм всецело зависят от избранной точки зрения. Критик имеет здесь выраженным свое сокровенное чувство жизни: приоритет точки зрения, понятия перед чувством. Сократ сформулировал самую глубокую антигреческую мысль. Ты видишь: даже Платон был «критиком», пусть даже такая критика для него, как все прочее, представляет собой лишь нечто случайное и только ироническое средство выражения. Для критиков последующих эпох это станет содержанием их произведений. Они толкуют только о поэзии и искусстве и не встречают Сократа, чья судьба послужила бы им трамплином для прыжка в окончательное (zum Letzten). Но уже Сократ осудил таких критиков. «Потому что, – сказал он Протагору, – разговоры о поэзии всего более похожи на пирушки невзыскательных людей с улицы. Они ведь не способны, по своей необразованности, общаться за вином друг с другом собственными силами… Но где за вином сойдутся люди достойные и образованные, там общаются, довольствуясь самими собою, без этих пустяков… И собрания, подобные нашему, когда сходятся такие люди, какими нас признает толпа, ничуть не нуждаются в чужом голосе, ни даже в поэтах».
На наше счастье это было сказано: ведь современное эссе также говорит не о книгах и поэтах. Но это его не спасает, а делает еще более проблематичным. Оно стоит чересчур высоко; слишком многим ему нужно пренебречь и слишком многое связать, дабы суметь быть изображением или объяснением некоторого произведения. Каждое эссе рядом со своим названием пишет невидимыми буквами слова: «В связи с …». Стало быть, для преданного служения оно стало чересчур богатым и самостоятельным, но и чересчур духовным и многообразным, чтобы исходя из себя самого приобрести образ. Не стало ли эссе еще более проблематичным, удаленным от жизненной ценности, нежели в том случае, если бы оно честно реферировало книги?
Когда нечто однажды стало проблематичным (а эссеистский способ мысли и его продукция не стали таковыми, но всегда ими были), тогда исцеление могут принести лишь крайнее обострение сомнительности, радикальное стремление дойти до конца при постановке любой проблемы. Современное эссе потеряло тот жизненный задний план, который придавал Платону и мистикам их силу; и ему не дана также наивная вера в ценность книги и в то, что надо сказать по этому поводу. Проблематичность положения обострилась почти до необходимой фривольности в мышлении и выражении; у большинства критиков она также стала жизненной настроенностью. Вследствие этого, однако, оказалось, что спасение является необходимым и потому – возможным и потому становится действительным. Теперь эссеист должен осмыслить и найти самого себя, должен строить Свое из Своего. Эссеист говорит о какой-то картине или книге, но тотчас ее оставляет: почему? Мне кажется, потому, что идея этой картины и этой книги приобрела в нем непреоборимую мощь; потому, что вследствие этого он позабыл обо всем второстепенном и конкретном в них, использовал их лишь как начало, как трамплин. Поэзия как таковая является для него чем-то более ранним и великим, большим и важным, чем все поэтические произведения: такова древняя жизненная настроенность литературных критиков; они просто сумели в наши времена ее осознать. Критик послан в мир для того, чтобы, высказываясь о великом и малом, отчетливо выставить на свет и возвестить данное априори, чтобы судить о всяком отдельном явлении сообразно с увиденными и обретенными тут критериями ценностей. Идея существует прежде, чем все ее выражения, она является для себя самой (f?r sich) душевной ценностью, ориентиром и образующим принципом жизни: постольку такая критика всегда будет говорить о наиживейшей жизни. Идея есть критерий всего сущего: поэтому критик, который открывает «на примере» чего-то сотворенного его идею, будет писать единственно истинные и глубокие критические тексты: только великое, подлинное способно жить вблизи идеи. Коль скоро высказано это волшебное слово, распадется все дряхлое, мелкое и незаконченное – оно теряет свою узурпированную мудрость, свою ложную претензию на бытие. Его даже не нужно «критиковать»: для суда над ним достаточно одной атмосферы идеи.
Но здесь сама экзистенциальная возможность (die Existenzm?glichkeit) эссеиста по-настоящему и впервые становится проблематичной до самых глубоких оснований: только благодаря упорядочивающей силе идеи он спасает себя от релятивного и несущественного. Но кто даст ему это право судить беспорядок? На грани правды было бы утверждение: эссеист присваивает такое право, изнутри себя он создает свои критериальные ценности. Но это «на грани», эта кривая категория невзыскательного и самодовольного познания, как не что иное, отделены от правды бездонной пропастью. Ибо на самом деле в эссеисте и сотворяются те критерии, сообразно которым он выносит свое суждение; но не он пробуждает их к жизни и деянию; эссеисту вручает их тот великий, кто определяет ценности в эстетике, кто всегда на подходе, тот недостижимый, кто единственно призван к эстетическому суду. Эссеист – это Шопенгауэр, который пишет работу «Парерга», ожидая прибытия своей (или кого-то другого) книги «Мир как воля и представление»; эссеист – это Иоанн Креститель, уходящий в пустыню, дабы проповедовать о Том, Кто некогда придет, и у Кого он не достоин развязать сандалии. А если Он не придет: не останется ли Креститель без полномочий? А если Он все-таки появится: не станет ли Креститель лишним вследствие этого пришествия? Не стал ли Креститель совершенно проблематичным из-за этой попытки своей легитимации? Он принадлежит к типу предтечи в чистом виде, и весьма сомнительно, что такой предтеча, будучи предоставленным самому себе, то есть будучи взятым независимо от судьбы его провозвестия, может претендовать на ценность и значимость. Стойкость предтечи по отношению к отрицателям его исполнения в великой, спасительной системе очень легко ему дается: всякая истинная тоска всегда играючи преодолевает тех, кто тягостно застревает в грубой данности фактов и переживаний; самого наличия тоски достаточно для того, чтобы одержать эту победу. Ведь она разоблачает все мнимо позитивное и непосредственное, раскрывает их как мелкое томление и общедоступную финальность, указывает в направлении меры и порядка, к каковым бессознательно стремятся даже те, кто трусливо и тщеславно отрицает бытие меры и порядка, поскольку оно мнится им недостижимым. Гордо и спокойно должно эссе противопоставить свою фрагментарность мелочной завершенности, присущей научной строгости и импрессионистической свежести, но бессильными станут его чистейшее исполнение, его сильнейшее достижение, как только придет великая эстетика. Ибо любое из его формообразований есть только применение критерия, который, наконец-то, стал непреложным; [и когда такой критерий становится непреложным,] тогда эссе предстает как нечто сугубо предварительное и случайное; его результаты уже невозможно легитимировать изнутри себя перед лицом возможности системы. Здесь эссе поистине и целиком кажется лишь предтечей, и ему здесь невозможно было бы приписать никакой самостоятельной ценности. Но эта тоска по ценности и форме, по мере, порядку и цели не просто имеет концовку, которой нужно достичь, после чего эссе самоликвидируется и становится самонадеянной тавтологией. Всякий истинный финал есть правдивый финал: конец некоторого пути. А путь и конец пути хотя и не составляют единства и не стоят рядом как равные величины, но они все-таки ко-экзистентны: конец немыслим и не реализуем без вечно возобновляемого прохождения пути; он – не стояние, а прибытие; не успокоение, а восхождение на вершину. Кажется, что таким образом эссе легитимируется в качестве необходимого средства для реализации последней цели, в качестве предпоследней ступени в этой иерархии. Но это – лишь ценность его достижения, а факт его существования имеет еще и другую, самостоятельную ценность. Ведь помянутая тоска нашла бы удовлетворение в найденной системе ценностей и, тем самым, была бы снята. Но она не является чем-то таким, что лишь дожидается исполнения, а есть душевный факт со своей собственной ценностью и своим наличным бытием: это – изначальная и глубокая позиция по отношению к жизни в целом, это – последняя, не подлежащая снятию категория возможностей переживания. Стало быть, она нуждается не просто в исполнении, которое как раз стало бы ее упразднением, но в формообразовании, которое искупает и спасает ее, ее подлиннейшее и отныне неделимое существо, превращая в вечную ценность. Это формообразование осуществляет эссе. Подумай о примере «Парерг»! Не только хронологическим различием является то, стоят ли они перед системой или после нее: такая временная, историческая разность есть лишь символ расхождения в характере «Парерг». «Парерги», стоящие перед системой, создают изнутри себя свои предпосылки; движимые тоской по системе, они создают целый мир, дабы – на внешний взгляд – оформить какой-то пример, какое-то указание. Имманентно и несказанно они содержат в себе систему в ее сращенности с живой жизнью. Таким образом, они всегда будут стоять перед системой; даже если бы система уже была осуществлена, ни одна из «Парерг» не стала бы ее применением, но осталась бы всегда новым творением, осталась бы жизненностью в настоящем переживании. Это «применение» сотворяет как того, кто судит, так и само суждение; оно охватывает целый мир, дабы поднять до вечности некогда бывшее в его однократности. Эссе – это суд, но не приговор есть то, что в нем существенно, что определяет ценности (как в системе), а процесс вынесения приговора.
Только теперь мы вправе написать заново начальные слова: эссе – это род искусства, своеобычное полное оформление своеобычной полной жизни. Только теперь они звучат не диссонансно, не двусмысленно, не выдают затруднительной ситуации, когда эссе называют художественным произведением, но при этом беспрестанно подчеркивают в нем отличное от художества: в отношении жизни эссе делает тот же самый жест, что и в отношении художественного произведения. Но только жест, суверенность этой позиции могут быть теми же самыми, в противном случае они не соприкасаются между собой.
Лишь об этой возможности эссе я хотел поговорить с Тобой, о сущности и форме этих «интеллектуальных стихотворений», как старший из Шлегелей назвал эссе Гемстергюйса. Здесь не место размышлять или судить о том, привело или сможет ли привести эссе к завершенности то самоуразумение эссеистов, которое происходит уже довольно долгое время. Только о возможности шла речь, только о вопросе, действительно ли является путем тот путь, которым пытается идти данная книга. Предметом обсуждения не является и то, кто этим путем уже прошел, и как он это сделал. И менее всего – как далеко ушла по этому пути данная книга. Ее самая острая и самая полная критика заключена в интуиции, из которой она возникла.
Флоренция, октябрь 1910 года
Теодор Адорно
Эссе как форма[16 - Манифест Т. Адорно “Der Essay als Form” впервые опубликован в Noten zur Literatur I в 1958 г. Перевод с немецкого выполнен О.В. Кильдюшовым и И.А. Михайловым по изданию: Adorno T. Der Essay als Form // Adorno T. Gesammelte Schriften. Bd. 11: Noten zur Literatur. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1990. 3. Auf. S. 8–33.]
Посвящается Ютте Бергер
Предназначен видеть освещенное, но не свет
Гете. Пандора
Достаточно часто звучали констатации и сожаления о том, что эссе в Германии пользуется дурной славой продукта смешения [литературных форм], что у данной формы отсутствует серьезная традиция и что отчетливо выраженные в ней притязания лишь изредка получают воплощение. «Форма эссе до сих пор все еще не прошла путь обретения самостоятельности, который давно пробежала его сестра, поэзия: путь развития, началом которого было ее примитивное, недифференцированное единство с наукой, моралью и искусством»[17 - Georg von Lukаcs. Die Seele und die Formen. Berlin, 1911. S. 29 (Лукач Г. Душа и формы / Пер. с нем. С. Земляного. М.: LogosaItеra, 2006. С. 59).]. И на привычное для страны предубеждение не влияет ни недовольство этим положением, ни неудовлетворенность реакцией на него, отгораживающей искусство как заповедник иррациональности, приравнивающей познание к организованной науке и стремящейся исключить как нечистое все, что не укладывается в эту альтернативу. Даже сегодня достаточно похвалить кого-нибудь в качестве «писателя», чтобы можно было исключить его из академической сферы. Несмотря на все весомые прозрения Зиммеля, молодого Лукача, Каснера и Беньямина относительно эссе как спекуляции по поводу специфических, культурно предзаданных предметов[18 - Lukаcs a. a. O., S. 23: «[…] эссе всегда говорит о чем-то уже оформленном, в лучшем случае – о чем-то уже некогда бывшем. Таким образом, для природы эссе свойственно, что оно не извлекает новые вещи из пустого ничто, но лишь заново упорядочивает те, что некогда уже жили. Но поскольку оно упорядочивает из вновь, а не создает новое их бесформенного, эссе зависит от вещей, оно всегда должно высказывать «истину» о них, находить выражение для их сущности» (Лукач Г. Душа и формы. С. 56 (перевод изменен. – И.М.)).], академический цех терпит в качестве философии лишь то, что облачено в мантию всеобщего, устойчивого и на сегодня максимально изначального, а конкретные духовные образования затрагивает лишь в той мере, в какой они позволяют увидеть всеобщие категории или, по крайней мере, продемонстрировать частное. Упорство, с какой эта схема сохраняется, было бы столь же загадочным, как и ее аффективность, если бы она не подпитывалась более сильными мотивами, нежели болезненная память о том, насколько не хватает культурности той культуре, которая исторически почти не знает homme de lettres. В Германии эссе вызывает противодействие, поскольку напоминает о свободе духа, которая после неудачи осторожного просвещения лейбницевских времен вплоть до сегодняшних дней, в условиях формальной свободы, не смогла как следует развиться, но всегда была готова объявить своим подлинным стремлением подчинение каким-либо инстанциям. Однако эссе не позволяет отнести себя к той или иной сфере. Вместо научных достижений или художественных творений, усилия в нем направлены на передачу детской беззаботности, которая безо всякого смущения воспламеняется от того, что уже сделано другими. В эссе рефлексируется любимое и ненавистное – вместо того, чтобы изображать дух как творение из ничто согласно модели безграничной трудовой морали. Для него важны счастье и игра. Эссе начинается не с Адама и Евы, а с того, что хочется сказать. Оно говорит то, что кажется уместным, и обрывается там, где чувствуется необходимость завершения, а не там, где больше нечего сказать; поэтому его относят к шалостям. Его понятия не выстраиваются от Первого и не округляются к Последнему. Его интерпретации не являются филологически затвердевшими и проясненными, а в принципе суть «сверхинтерпретации» – согласно автоматическому вердикту того бдительного ума, который нанимается к глупости в качестве палача духа. Стремления субъекта проникнуть в то, что скрывается за фасадом объективности, клеймятся как праздность – из страха перед негативностью вообще. Говорят, что все намного проще. Тому, кто интерпретирует, а не просто принимает и упорядочивает, ставят клеймо человека, который бессильно мудрствует своим заблудшим разумом, погружаясь в то, что не требует никаких интерпретаций. Или человек фактов, или витающий в облаках – такова альтернатива. Но если только мирятся с террористическим запретом мыслить шире, чем подразумевалось в данном конкретном случае, то уже соглашаются с ложной интенцией, которая сама собой проявляется относительно людей и вещей. Понимание в этом случае не более чем вышелушивание того, что хотел сказать автор по тому или иному поводу. Или же разгадывание индивидуальных психологических импульсов, которые проявляются в данном феномене. Но поскольку невозможно установить то, что некто думал и чувствовал там-то и тогда-то, то мы не узнали бы ничего существенного благодаря таким прозрениям. Авторские импульсы затухают в объективном содержании, которое ими затрагивается. Однако для того, чтобы раскрыть объективную полноту значений, закапсулированных в каждом духовном феномене, от воспринимающего требуется именно та спонтанность субъективной фантазии, которая преследуется во имя объективной дисциплины. Что вычленяется в процессе интерпретации, то одновременно и вкладывается. Критериями этого является согласованность интерпретации с текстом и с самой собой, а также ее способность дать слово всем элементам предмета. Благодаря этому эссе схоже с той эстетической самостоятельностью, которую с легкостью осуждают как простое заимствование у искусства, от которого оно одновременно отличается благодаря своим средствам – понятиям – и своим притязаниям на истину чисто эстетической видимости. Это упустил Лукач, когда в письме к Лео Попперу, предваряющем «Душу и формы», назвал эссе художественной формой (Kunstform)[19 - Ср. Lukаcs a. a. O., S. 5 и далее.]. Однако не лучше и позитивистская максима, согласно которой написанное об искусстве само никоим образом не может притязать на художественность изображения, т. е. на автономию формы. Общая позитивистская тенденция, жестко противопоставляющая любой возможный предмет исследования субъекту, как во всех прочих моментах, так и в этом сохраняется в простом разделении формы и содержания: при всей схожести с предметом, вряд ли возможно говорить об эстетическом не-эстетически, не становясь при этом банальным и a priori не отдаляясь от предмета. Содержание, однажды зафиксированное по образцу протокольного предложения, согласно позитивистской привычке должно быть индифферентным по отношению к своему отображению, которое обусловлено конвенционально, а не самим предметом. Любая активность со стороны отображения с точки зрения инстинкта научного пуризма угрожает как объективности, которая должна сохраняться после удаления субъекта, так и добротности предмета, которая сохраняется тем лучше, чем меньше полагается на поддержку со стороны формы, хотя в нормальном виде последняя заключается именно в том, чтобы передать предмет в чистом виде без каких-либо добавлений. В своей аллергии против форм как простых акциденций позитивистский дух сближается с догматическим. Безответственно неряшливое слово мнит, будто оно ответственно подходит к делу, и рефлексия над духовным становится привилегией бездуховного.
Все эти порождения зависти не просто неистинны. Если эссе презрительно отказывается сначала выводить культурные формы из того, что лежит в их основе, оно слишком рьяно переплетается с культурной индустрией с ее знаменитостями, успехом и престижем сообразных рынку продуктов. Биографические романы и всё, что в писательстве опирается на родственные им посылки, суть не простое вырождение, но постоянное искушение со стороны формы, чья подозрительность к ложной глубине никак не гарантирует от скатывания в профессиональную поверхностность. Эта тенденция заметна уже у Сент-Бёва, от которого, видимо, берет свое начало жанр современного эссе. Далее в продуктах, подобных «Силуэтам» Герберта Ойленберга – этом прообразе более поздней немецкой низкопробной культурной литературы, – а также в фильмах про Рембрандта, Тулуз-Лотрека и Священное писание духовные образования нейтрализуются до товаров, и в недавней интеллектуальной истории это неотвратимо охватило все, что в Восточном блоке стыдливо называют «наследием». Наиболее заметен этот процесс, возможно, у Стефана Цвейга, которому в молодости удались несколько заслуживающих внимания эссе, а в своей книге о Бальзаке он в конечном счете скатился в психологию творческой личности. Подобное писательство не относится критически к абстрактным понятиям, бессмысленным фактам, набившим оскомину клише, но имплицитно предполагает, а потому с еще большей готовностью принимает все это. Отходы понимающей психологии соединяются с такими расхожими категориями мировоззрения филистера от образования, как личность и иррациональное. Подобные эссе путают себя с тем самым фельетоном, с которым враги формы путают ее. Оторванная от дисциплины академической несвободы, духовная свобода сама становится несвободной, идя навстречу общественно предзаданным потребностям покупателей. Безответственное – что, само по себе, является моментом всякой истины, которая не расходует себя в ответственности перед существующим – ответствует в таком случае перед потребностями устоявшегося сознания; плохие эссе являются не менее конформистскими, нежели плохие диссертации. Между тем, при ответственном подходе учитываются не только авторитеты и органы, но и сама суть дела.
Однако форма не виновата в том, что плохие эссе рассказывают о личностях, вместо того чтобы раскрывать предмет. Разделение науки и искусства необратимо. Его не замечает только наивный фабрикант от литературы, считающий себя как минимум гениальным организатором и отбраковывающий при этом отличные произведения искусства как негодные. Процессы опредмечивания мира в поступательном процессе демифологизации привели к разделению науки и искусства; сознание, для которого созерцание и понятие, образ и знак были единым – если таковое вообще когда-либо существовало, – нельзя возродить по мановению волшебной палочки, да и попытка его восстановить привела бы обратно к хаосу. Подобное сознание можно было бы мыслить лишь как завершение опосредующего процесса, как утопию, которую представляли себе под видом интеллектуального созерцания философы-идеалисты со времен Канта; но оно оказывалось несостоятельным всякий раз, как к нему обращалось актуальное познание. Когда философия воображает себе, что с помощью заимствований из поэзии она может преодолеть опредмечивающее мышление и всю его историю, – говоря привычной терминологией, антитезу субъекта и объекта, – и даже надеется, что в слепленной из Парменида и Юнгникеля поэзии говорит само бытие, именно тогда она сближается с пустопорожним культурным трёпом. Стилизованными под изначальность крестьянскими башмаками эта философия отказывает в уважении ответственности понятийного мышления, под которой она подписалась, используя понятия в высказываниях и суждениях. Что же касается ее эстетической компоненты, то она заимствована из вторых рук и представляет собой ослабленные образовательные реминисценции из Гёльдерлина, экспрессионизма или стиля модерн, поскольку никакое мышление не может так слепо и безгранично довериться языку, как это изображает идея изначального говорения. Из насилия, которое образ и понятие поочередно применяют здесь друг к другу, возникает жаргон подлинности, в котором слова дрожат от пафоса, умалчивая при этом, откуда этот пафос. Амбициозное трансцендирование языка за пределы смысла выливается в смысловую пустоту. Ее с легкостью отлавливает позитивизм, на который эта философия смотрит свысока, но она только способствует ему своей пустотой, которую он критикует, что считают его игровой фишкой. В условиях подобных запретов язык, если он в науках вообще еще осмеливается поднять голову, все больше походит на художественное ремесло, а эстетическую верность наилучшим образом – негативно – сохраняет тот исследователь, который дистанцируется от языка вообще и вместо того, чтобы унизить слово до простого описания своих цифр, предпочитает форму таблицы, полностью соответствующей опредмечиванию сознания, находя тем самым нечто вроде формы без апологетических заимствований из искусства. Конечно, искусство с самого начала настолько тесно вплетено в главенствующую тенденцию Просвещения, что со времен античности использовало научные результаты в своей технике. Однако количество переходит в качество. Если в произведении искусства абсолютизируется техника, если конструкция становится тотальной, переплавляя все, что ее мотивирует и ей противостоит – само выражение, т. е. если искусство претендует на то, чтобы непосредственно быть наукой и действительно соответствовать ее меркам, то тем самым оно санкционирует дохудожественное копание в материале, настолько же чуждое смыслу, как и обсуждаемое на философских семинарах «бытие», и братается с опредмечиванием, протестовать против которого – пусть слабо и столь же опредмеченно – вплоть до сегодняшнего дня было функцией нефункционального, т. е. искусства.
Но даже если искусство и наука отделились друг от друга в ходе истории, их противоположность все же не следует гипостазировать. Отвращение к анахронистическому смешению отнюдь не сакрализует культуру, организованную из сегментов, которые при всей своей необходимости тем не менее институционально подтверждают отказ от целостной истины. Идеалы чистоты, – общие как для всего предприятия направленной на вечные ценности истинной философии, так и для полностью и насквозь заорганизованной науки, а также беспонятийно-созерцательного искусства, – носят черты репрессивного порядка. Духу отказывают в подтверждении полномочий, чтобы он не вышел за пределы не только культурно утвержденных границ, но и самой официальной культуры. При этом предполагается, что любое познание потенциально может перерасти в науку. Теории познания, разделяющие донаучное и научное сознание, всегда понимали это различие лишь градуально. Однако то, что дело ограничивалось в основном заверениями в реализуемости этого, тогда как подлинно живое сознание не превращалось в научное, указывает на трудность самого перехода, т. е. на качественные различия. Уже простое размышление о жизни сознания могло бы показать, насколько мало вся сциентистская сеть вылавливает знаний, которые являются чем-то большим, нежели ни к чему не обязывающими догадками. Труды Марселя Пруста, у которого, как и у Бергсона, нет недостатка в научно-позитивистских элементах, есть единственная попытка сообщить необходимые знания о человеке и социальных связях, которые наука не может просто так превзойти, не ослабляя свои притязания на объективность и не уступая расплывчатой правдоподобности. Мерой подобной объективности является не верификация выдвинутых тезисов посредством повторных проверок, но индивидуальный опыт, основанный на надежде и отсутствии иллюзий. Связанные с ним наблюдения приобретают рельефность посредством воспоминаний, которые подтверждают или опровергают его. Однако его индивидуально сформировавшееся единство, в котором тем не менее проявляется целое, нельзя разделить, а затем заново собрать из отдельных личностей или аппарата вроде психологии и социологии. Под давлением позитивистского духа и его чаяний, латентно повсеместно присутствующих даже у художника, Пруст страстно желал посредством скопированной у наук техники, своего рода руководства по проведению экспериментов, то ли спасти, то ли восстановить то, что во времена буржуазного индивидуализма, – когда индивидуальное сознание еще доверяло самому себе, а не заранее пугалось цензуры организованных форм, – считалось знанием опытного человека вроде вымершего ныне homme de lettres, которому Пруст поклоняется как высшему типу дилетанта. Однако никому не пришло бы в голову отбросить свидетельства зрелого человека как неважные, случайные и иррациональные на том основании, что они принадлежат лишь ему и потому с трудом поддаются научной генерализации. Но те его находки, что ускользают от научных сетей, совершенно определенно теряются для самой науки. Науке о духе не удается то, что она обещает духу: раскрыть его образования изнутри. Молодой писатель, который пожелает в университете узнать, что такое произведение искусства, языковая форма, эстетическое качество или хотя бы эстетическая техника, чаще всего беспорядочно нахватается сведений, поставляемых той или иной ныне расхожей философией. Если он обратится к философской эстетике, его завалят абстрактными постулатами, никак не связанными ни с феноменами, которые он стремится понять, ни с содержанием, с которым он соприкасается. За все это несет ответственность не только разделение труда внутри kosmos noetikos на искусство и науку; демаркационные линии между ними невозможно устранить одной доброй волей или всеобъемлющим планированием. Скорее, здесь виновен тот дух, что был раз и навсегда смоделирован для господства над природой и для материального производства; теперь он предается воспоминаниям об уже пройденной стадии, некогда сулившей будущее, и отправляется в трансцендентное по отношению к затвердевшим производственным отношениям; тем самым блокируются его собственные специализированные процедуры, направленные именно на специфические для него предметы.
Что касается научной процедуры и ее философского обоснования как метода, то, по идее, в эссе сделаны необходимые выводы из критики системы. Даже эмпиристские учения, отдающие предпочтение незавершенному, неантиципируемому опыту, а не твердому понятийному порядку, остаются систематическими в той мере, в какой они более или менее постоянно затрагивают условия познания и развивают их в максимально неразрывной взаимосвязи. Со времен Бэкона – который сам являлся эссеистом – эмпиризм был «методом» не в меньшей степени, чем рационализм. Сомнение в их безусловной правоте осуществлялось в самой процедуре мышления почти исключительно посредством эссе. В нем присутствует осознание нетождественного, хотя и без прямого упоминания; оно радикально в своем нерадикализме, в воздержанности от всякого сведения к одному принципу, в акцентировании частичного по отношению к тотальному, в фрагментарности. «Наверное, великий сир де Монтень ощущал нечто в этом роде, когда он давал своим произведениям красивое и меткое наименование “Essays”. Ибо безыскусная скромность этого слова есть высокомерная куртуазность. Эссеист охлаждает собственные гордые надежды на приближение к последней истине, как ему иногда мерещится: он-де способен предложить только объяснения поэтических произведений и, в лучшем случае, – своих собственных понятий. Но иронически он смиряется с этой мелочью – вечной мелочью глубочайшей мыслительной работы над жизнью, и с иронической скромностью он это еще и подчеркивает»[20 - Lukаcs, a. a. O., S. 21. (С. 55.)]. Эссе не отменяет правил игры организованной науки и теории, если – как гласит постулат Спинозы – порядок вещей тождественен порядку идей. Поскольку тотальный порядок понятий не тождественен сущему, эссе не нацелено на замкнутые, дедуктивные или индуктивные, построения. Оно восстает прежде всего против укоренившейся со времен Платона доктрины, будто меняющееся и эфемерное недостойно философии; оно выступает против той старой несправедливости в отношении преходящего, которое осуждается самим своим понятием. Эссе страшится насильственной догмы о том, что результат абстракции – инвариантное с точки зрения времени понятие, которым схватывается индивидуальное – обладает онтологической значимостью. Ложное утверждение, будто ordo idearum есть ordo rerum, основывается на том, что опосредованное выдается за непосредственное. Как невозможно мыслить фактическое без помощи понятий, – поскольку мыслить всегда означало понимать, – так же невозможно помыслить себе абсолютно чистое понятие без всякой соотнесенности с фактичностью. Даже якобы лишенные привязки к пространству и времени продукты фантазии всегда указывают на индивидуальное существование, пусть и в измененной форме. Поэтому эссе не боится ложной глубокомысленности, будто истина и история несовместимы друг с другом. Если у истины действительно есть временное ядро, то все содержание истории становится ее неотъемлемым моментом; апостериори становится конкретным априори, как это в самой общей форме требовали Фихте и его последователи. Соотнесенность с опытом, которой в эссе придается столько же субстанциальности, как в традиционной теории обычным категориям, есть соотнесенность со всей историей; исключительно индивидуальный опыт, с которого сознание начинает как самого близкого ему, сам опосредован опытом, охватывающим историческое человечество; утверждение, что историческое опосредовано, тогда как личное есть непосредственное – это всего лишь самообман индивидуалистического общества и идеология. Поэтому пренебрежительное отношение к исторически произведенному как предмету теории пересматривается в эссе. Уже невозможно спасти различение между первой философией и предполагающей и опирающейся на нее простой философией культуры, которое теоретически рационализировало табу в отношении эссе. Утрачивают свой авторитет способы функционирования духа, в которых в качестве канонического почитается разведение временного и вневременного. Более высокие уровни абстракции не придают мысли ни высшей святости, ни метафизического содержания; скорее, последнее улетучивается при дальнейшем абстрагировании, и кое-что из утраченного пытается возместить эссе. Привычное возражение против эссе – что оно фрагментарно и случайно – само постулирует данность тотальности, а тем самым и тождество субъекта и объекта, что выглядит как притязание на власть над всем. Но эссе стремится не искать и дистиллировать вечное в преходящем, а скорее увековечить преходящее. Его слабость свидетельствует о той самой нетождественности, которую оно должно выразить; а также об избыточности намерений относительно предмета и тем самым об утопии деления мира на вечное и преходящее. В эмпатическом эссе находит свое завершение мысль о традиционной идее истины.
Тем самым одновременно эссе отказывается от традиционного понятия метода. Глубина мысли определяется тем, как она проникает в определенный предмет, а не тем, как она сводит его к другому предмету. Эссе обращается с этим полемически, обсуждая то, что в рамках существующих правил игры считается производным, не отслеживая полностью само его выведение. Оно свободно мыслит в качестве целостного все, что встречается в произвольно выбранном предмете. Эссе не устраивает капризов по ту сторону от исторических опосредований, в которых откладывается все общественное, а ищет историческое содержание истины. Оно не спрашивает о первичном в противовес обобществленному обществу. А последнее – именно потому, что не терпит ничего, что не было сформировано им – меньше всего может терпеть то, что напоминает о его собственной вездесущности; поэтому оно обязательно ссылается в качестве идеологического дополнения на природу, от которой ничего не оставляет сама его практика. Эссе без слов уничтожает иллюзию, что мысль способна из того, что является thesei, культурой, прорваться в то, что есть physei, по своей природе. Занятое фиксированным, даже производным и сформированным, эссе чтит природу, подтверждая тем самым, что та больше не распространяется на человека. Его александрийство есть ответ на веру в то, что одно наличие сирени и соловья уже означает продолжение жизни – если универсальная сеть еще позволяет им где-то выжить. Эссе покидает военную дорогу к истокам, ведущую лишь к максимально производному, к бытию, к идеологии удвоения того, что и так есть. При этом в нем не исчезает полностью идея непосредственности, постулирующая весь смысл опосредования. Все уровни опосредованного становятся в эссе непосредственными, как только начинается рефлексия.
Отказываясь от первичных данностей, эссе также отказывается от определения своих понятий. Их глубокая критика была осуществлена философией в самых разных аспектах – Кантом, Гегелем, Ницше. Но наука никогда не принимала подобную критику на свой счет. В то время как начавшееся с Канта движение против схоластических пережитков в современном мышлении вместо словесных определений начинает понимать понятия в контексте процесса их появления, отдельные науки настаивают на докритическом понимании определения, пытаясь обеспечить себе полную безопасность; в этом неопозитивисты, называющие научный метод философией, сходятся со схоластикой. Эссе включает антисистематический импульс в собственную процедуру, вводя понятия так же неопределенно и «непосредственно», как они воспринимаются. Они уточняются через соотношение друг с другом. При этом эссе опирается на сами понятия. Потому что будет простым суеверием подготовительной науки считать, что сами по себе понятия являются неопределенными и определяются только посредством дефиниций. Представление о понятии как tabula rasa необходимо науке для укрепления притязаний на господство; но это – притязания со стороны власти, которая распространяется лишь на письменный стол. На самом деле все понятия имплицитно уже конкретизированы посредством языка, в который они включены. С такими значениями работает эссе, развивая их, а по сути – сам язык. Эссе стремится помочь языку в его отношениях с понятиями, рефлексивно воспринимая их в том виде, как они уже неосознанно названы в языке. Это напоминает процедуру анализа значения в феноменологии, только там соотнесенность понятий с языком превращена в фетиш. К этому эссе относится так же скептически, как и к определению понятий. Оно, даже не оправдываясь, соглашается с тем упреком в свой адрес, что не учитывает все сомнения, неизбежно связанные с понимаемым под этими понятиями. Ибо эссе показывает, что требование строгих определений давно приводит к тому, что путем манипуляции с фиксируемыми значениями из предметов удаляется то раздражающее и опасное, что живет в понятиях. Однако это не означает ни того, что эссе обходится без общих понятий, – ведь даже язык, отказывающийся превращать понятие в фетиш, не может отказаться от своего собственного понятия, – ни того, что эссе обходится с ними произвольно. Поэтому для него отображение важнее, чем различающие метод и предмет процедуры, равнодушные к самому отображению опредмеченных содержаний. Своею точностью это «как» выражения должно спасти то, чем жертвуют при отказе от детальной прорисовки; при этом сам предмет не отдается на откуп некогда установленным значениям понятий. В этом Беньямин был непревзойденным мастером. Однако такой точности не достичь при атомизме понятий. Поэтому не в меньшей, а в большей степени, чем процедура поиска дефиниций, эссе принуждает свои понятия взаимодействовать в процессе духовного опыта. В нем не образуется континуума операций, мысль не развивается одномерно, но различные моменты переплетаются как ковер. От плотности этого переплетения зависит продуктивность мысли. Собственно, мыслящий вообще не мыслит, а превращает себя в арену духовного опыта, не расчленяя его на фрагменты. Отсюда получало свои импульсы и традиционное мышление, но оно самой своей формой устраняет воспоминание об этом. Однако, выбирая духовный опыт в качестве модели, эссе не имитирует его в рефлексивной форме; оно опосредует его через собственную понятийную организацию; если угодно, оно действует методично неметодично (methodisch unmethodisch). То, как в эссе осваиваются понятия, лучше всего сравнить с поведением человека, который в чужой стране вынужден сразу говорить на ее языке вместо того, чтобы по-школьному складывать его из различных элементов. Ему придется читать без словаря. Если ему встретится одно и то же слово тридцать раз, но в постоянно меняющейся взаимосвязи, то он будет уверен в его смысле гораздо больше, чем после изучения всех перечисленных в словаре значений. Ведь, как правило, там они, с одной стороны, слишком ограничены по сравнению с изменениями в зависимости от контекста, а с другой – слишком расплывчаты по сравнению с отличительными нюансами, задаваемыми контекстом в каждом конкретном случае. Однако в той же мере, в какой подобное обучение подвержено ошибкам, подвержено им и эссе как форма; за свою чувствительность к открытому духовному опыту оно вынуждено платить недостаточной определенностью, чего норма устоявшегося мышления боится, как смерти. Эссе не столько пренебрегает несомненной уверенностью, сколько отказывается считать ее своим идеалом. Его истинность в движении вперед, куда оно подгоняет себя самого, а не в кладоискательской одержимости поиском фундамента. Свет его понятия проистекает от сокрытого для него самого terminus ad quem, а не от terminus a quo, и этим сам его метод выражает утопическую интенцию. Все его понятия следует представлять таким образом, что они поддерживают друг друга, что каждый из них артикулируется в зависимости от конфигураций с другими. В эссе дискретно противопоставляемые элементы складываются в читаемое целое; в нем нет строительных лесов и конструкций. Однако конфигурация элементов кристаллизуется благодаря их движению. Последнее есть силовое поле – подобно тому, как в оптике эссе каждое духовное образование вынуждено превращается в силовое поле.
Эссе мягко бросает вызов идеалу clara et distincta perceptio и несомненной определенности. В целом его можно интерпретировать как возражение против четырех правил, которые декартовское «Рассуждение о методе» устанавливает при возникновении новой западной науки и ее теории. Второе из этих правил, требующее делить проблемы «на столько частей, сколько потребуется, чтобы лучше их разрешить»[21 - Descartes. Philosophische Werke, ed. Buchenau. Leipzig 1922. Bd. I, S. 15. (Рус. пер.: Декарт Р. Соч.: в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1989. С. 260.)], содержит набросок элементарного анализа, с помощью которого традиционная теория приравнивает друг к другу схемы понятийного порядка и структуру бытия. Однако предмет эссе, т. е. артефакты, не годятся для элементарного анализа и могут конструироваться исключительно из своей специфической идеи; не случайно в этом отношении Кант рассматривал произведения искусства и организмы схожим образом, хотя одновременно он так же беспристрастно различал их – вопреки всему романтическому обскурантизму. Целостность так же не следует гипостазировать как нечто первичное, как и продукт анализа, т. е. элементы. В отношении обоих эссе ориентируется на идею такого взаимодействия, в котором строго отвергается как вопрос о составных частях, так и вопрос об основополагающем. Моменты не развиваются исключительно из целого или из его противоположности. Эссе – это и монада, и не монада; его моменты понятийного рода выходят за рамки специфического предмета, в котором они собраны. Однако эссе не следует туда, где они получают легитимацию вне специфического предмета: иначе оно окажется в дурной бесконечности. Скорее эссе приближается к hic et nunc предмета настолько близко, пока не распадается на те моменты, в которых оно живет, а не просто является предметом.