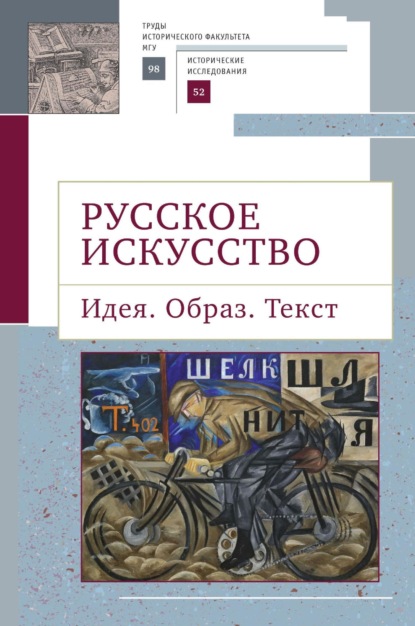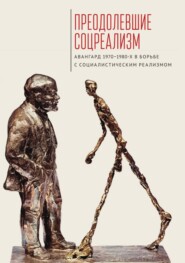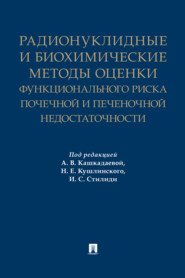По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Русское искусство. Идея. Образ. Текст
Автор
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Все эти слагаемые создают безусловный «шедевр», автор которого должен был испытывать удовлетворение от своей книжной и иконографической учености. Характерно, что мы снова имеем дело с произведением клирика, который, судя по содержанию надписи, изготовил оклад, чтобы дать Евангелие вкладом по своей душе, но еще не знал, куда оно попадет. По-видимому, рукопись была вложена в Кирилло-Белозерский монастырь: в его описи 1601 г. упоминается «Евангелье соборное в полдесть, писменое, а на нем оклад серебрен, Господь Саваоф в силах небесных, около его деисус с празники, попово данье Федорово»[143 - Опись строений и имущества Кирилло-Белозерского монастыря 1601 года. Комментированное издание / Сост. З. В. Дмитриева и М. Н. Шаромазов. СПб., 1998. С. 122.]. Учитывая редкость иконографии оклада и географическую близость Вологды к Кирилло-Белозерскому монастырю, можно думать, что речь идет об одном и том же человеке и об одном и том же Евангелии (менее вероятно – о двух аналогичных кодексах).
Итак, использование тайнописи может коррелировать не только с принадлежностью мастера к клиру, но и с ситуацией, в которой мастер выступает как содонатор или даже как самостоятельный вкладчик. Так обстояло дело с вологодским Евангелием. Судя по отсутствию в надписях других имен, вкладчиками были и иконописцы, написавшие «Благовещение» 1592 г. из Ухтострова и иконы Огненного восхождения пророка Илии из Пяльмы и Водлозера. Нельзя исключить, что определенную свободу мастеру давал коллективный или корпоративный заказ (эта ситуация просматривается в надписи на алтарной двери 1607 г. из Кирилло-Белозерского монастыря; более отчетливо она выражена в «летописце» Людогощенского креста 1359 г.). Так или иначе, Евангелие попа Федора заставляет задуматься еще об одном способе авторского самовыражения. Он заключается в том, что мастер по собственной инициативе создает незаурядное произведение, имеющее вкладную надпись, не обязательно тайнописную. Лучший наряду с Евангелием 1577 г. памятник такого рода – икона, исполненная в 1567/1568 г. вологодским иконописцем Дионисием Дмитриевым Гринковым и вложенная им в городской Ильинский монастырь (ныне – Вологодский музей)[144 - Иконы Вологды, 2007. Кат. 91. С. 587–606.]. Если бы это был просто образ Воскресения с пространным циклом евангельских сюжетов, он, несомненно, выделялся бы на фоне остальных вологодских икон. Однако его программа более сложна: по каким-то причинам она включает еще десять композиций – как сравнительно традиционных, так и относительно новых, особенно для провинции. Это, как и обильный орнамент, вырезанный по левкасу, в сочетании с вкладной надписью иконописца превращает икону в манифест его мастерства и иконографической осведомленности[145 - Сходное впечатление производят и два упомянутых выше произведения с тайнописными надписями – Людогощенский крест с его сложнейшей формой, множеством образов святых и бесконечным орнаментом и дверь 1607 г. из Кирилло-Белозерского монастыря с многосоставной программой. В обоих случаях мастера были исполнителями коллективного заказа и, возможно, именно поэтому позволили себе показать свои способности.]. Симптоматично, что вкладной «летописец» на нижнем поле вологодской иконы также вырезан по левкасу. Вряд ли это сделано только потому, что поля образа украшены выполненным в той же технике узором. По-видимому, Дионисий Дмитриев Гринков хотел как можно дольше сохранить память о своем авторстве[146 - Желание обезопасить вкладную надпись на иконе от записывания, повреждения или уничтожения заметно по целому ряду памятников XVI–XVII вв. См. подробнее: Преображенский, 2013. С. 22–23.]. Тем же желанием руководствовался Митя Усов, написавший в 1564/1565 г. многочастную икону Воздвижения Креста, Покрова Богоматери и избранных святых из села Полянки близ Ростова (ГТГ)[147 - Антонова В. И., Мнева Н. Е. Государственная Третьяковская галерея. Каталог древнерусской живописи XI – начала XVIII вв. Опыт историко-художественной классификации. М., 1963. Т. 2. Кат. 399. С. 52–53. Табл. 14; Словарь русских иконописцев, 2009. С. 678.]. Согласно надписи, вырезанной на обороте, «Митя иконик Иванов сын Усова», «княже Юрьев иконик Ивановичя Ростовского Темкина» «поставил» эту икону «своего рукоделия от собя» вместе с «крестом воздвизалным венцы на золоте». Митя Усов был откровенно провинциальным иконописцем, однако сделанная им надпись производит впечатление, особенно на провинциалов. Вклад Мити Усова состоял из нескольких предметов «своего рукоделия», а сам иконописец имел какое-то отношение к представителю древнего княжеского рода. Замысел вкладного образа и акцент, сделанный на этих дополнительных обстоятельствах, сопоставимы с программой вкладных произведений современников Мити Усова – вологжан Дионисия Гринкова и попа Федора.
Вполне вероятно, что сходным образом поступали и другие, в том числе столичные иконописцы XVI–XVII вв., когда им приходилось выступать в роли вкладчиков или исполнителей почетного заказа. Однако в их распоряжении были и другие способы, позволявшие заявить о себе. Суть одного из них заключалась в создании вкладной или близкой ей по содержанию надписи, включающей изобразительный элемент или располагающейся на одной из деталей композиции. Последний вариант, основывавшийся на символическом восприятии изображаемых предметов (меча, чаши, подножия и т. д.) был довольно широко распространен не только в западноевропейском искусстве XIIXV вв., но и в искусстве стран византийского мира, особенно – в палеологовскую эпоху[148 - Kalopissi-Verti, 1994; ????????-?????, 2000; Todic, 2001.]. В русских землях в XIV в. были известны надписи на подножии престола Спасителя, и несколько из них включают имена художников, выражавших таким путем свое желание преодолеть порог между дольним и горним мирами. Эти надписи, в иконографическом и содержательном отношении напоминавшие тексты на итальянских алтарных образах, в XV–XVI вв. вышли из употребления, но о них вспомнили иконописцы последней трети XVII столетия[149 - Преображенский А. С. «Подножие ног Его». О вотивных надписях на русских иконах Спаса на престоле XIV века // Искусствознание. Журнал по истории и теории искусства. Вып. 1–2/07. М., 2007. С. 25–53; Он же. Ктиторские портреты средневековой Руси. XI – начало XVI века. М., 2012. С. 200– 203, 264, 357; Он же. Вкладные надписи на новгородских иконах Спаса на престоле XIV века: аналогии и прототипы // Новгород и Новгородская земля. Искусство и реставрация. Вып. 4. Великий Новгород, 2011. С. 116–141. Примеры надписей на подножии Христа в позднем XVII в.: Антонова, Мнева, 1963. Т. 2. Кат. 896. С. 394–395. Табл. 137; Русский исторический портрет, 2004. Кат. 11; Иконы Владимира и Суздаля / Древнерусская живопись в музеях России. Изд. 2, испр. и доп. М., 2008. Кат. 94.]. Однако в эпоху позднего Средневековья встречаются и надписи иного типа. Они не совмещаются с изображенными предметами, но включают изобразительный мотив, идеограмму, отсылающую читателя к личности иконописца. Один из таких редких, но показательных текстов помещен на обороте житийной иконы Николая Чудотворца из села Коростынь Новгородской области (Новгородский музей)[150 - См. предварительную публикацию еще не отреставрированной иконы: Комарова Ю. Б. Икона «Св. Никола Зарайский с житием» 1647 г. мастера Федора Иванова // Ежегодник Новгородского государственного объединенного музея-заповедника. 2004. Великий Новгород, 2005. С. 43–47.]. Он сообщает о том, что икону исполнил Федор Иванов, отождествляемый с одним из ведущих новгородских иконописцев середины XVII в., написавшим, в частности, образ Успения из местного ряда иконостаса Софийского собора. Надпись «Лета 715[5] (1647) года написан сий образ Никола Чюдотворец начата … июля а коншена бысть … августа. Труды раба Божи… Федора Иванова. Аминь» не упоминает вкладчика, позволяя думать, что создание иконы было актом личного благочестия мастера. В любом случае строка, сообщающая о его трудах, отделена от «летописной» части текста изображением руки, держащей перо (кисть?). Это идеограмма, иллюстрирующая словосочетание «труды раба Божия».
Еще одна известная нам идеограмма такого рода не связана напрямую с понятием «труд». Тем не менее она тоже антропоморфна и сопровождает надпись, где присутствует имя иконописца (он же, вероятно, был и вкладчиком иконы). Этот текст, сообщающий об эпидемии, которая, очевидно, и стала поводом к созданию образа, находится на обороте пока не расчищенной иконы Богоматери Умиление из псковской церкви Николы в Любятове (Псковский музей)[151 - Родникова И. С. Новое о псковских иконописцах XVII века // Псков. Научно-практический, историко-краеведческий журнал. № 39. 2013. С. 117–120. Илл. с. 126–127. Публикация оклада: Родникова И. С. Художественное серебро XVI – начала XIX века из собрания Псковского музея-заповедника. М., 2013. Кат. 272. С. 343–345. По мнению И. С. Родниковой, икона попала в церковь Николы в Любятове из псковского Троицкого собора.]. Он выглядит следующим образом:
Надпись завершается включенным в строку профильным маскароном. Нет оснований считать его условным автопортретом мастера, но синтаксическая связь этого антропоморфного изображения с высказыванием от лица иконописца вполне очевидна.
И. С. Родникова, недавно опубликовавшая икону, сочла маскарон-«автопортрет», начертания букв надписи, некоторые особенности живописи (напомним, еще не раскрытой) и серебряный оклад начала XVIII в. доказательствами сравнительно позднего происхождения памятника. Она предположила, что иконописец Якуш Филистов написал образ по случаю морового поветрия 1710 г. и в память об аналогичном событии 1552 г. Однако надпись, безусловно, датируется ровно тем временем, о котором в ней идет речь[152 - Благодарю А. А. Турилова за палеографическую консультацию.]. К 1552 г., скорее всего, относится и авторская живопись, какой бы ни была ее сохранность. Возможно, Якуш Филистов – одно лицо с Якушко или, менее вероятно, с Яковом, т. е. с одним из тех псковских мастеров, которые после пожара 1547 г. работали для Московского Кремля и создали знаменитую «Четырех-частную» икону Благовещенского собора[153 - Словарь русских иконописцев, 2009. С. 779–780.]. Так или иначе, «личина», подчеркивающая личный характер надписи и создающая иллюзию присутствия мастера-вкладчика, появилась на век раньше десницы новгородца Федора Иванова.
Две иконы с включенными в вотивные надписи изобразительными мотивами кажутся изолированными, случайно появившимися памятниками. Вместе с тем очевидна их связь с традицией «портретирования» мастеров, довольно развитой на средневековом Западе. Маскарон псковской иконы напоминает об изображениях ремесленников, представленных за работой или с инструментами. Рука с пером на образе из Новгородского музея тяготеет к последней категории изображений, примером которых являются фигуры Риквина и Вайсмута на Магдебургских вратах новгородского Софийского собора середины XII в.[154 - Преображенский, 2012. С. 202–203.] Мотив руки мастера с орудием труда известен и в восточнохристианском мире; один из самых известных случаев его использования – изображение «десницы зодчего Арсукисдзе» с угольником на северном фасаде собора Свети-Цховели в Мцхете (1010–1029)[155 - Khoshtaria, Natsvlishvili, Tumanishvili, 2012. P. 111. Fig. 82.]. Однако русские «идеограммы», скорее всего, ориентированы именно на западную практику. Признавая их уникальность, следует отметить, что появление этих мотивов будет не столь неожиданным, если поместить их в контекст тайнописных надписей с именами иконописцев. В сущности, это явления одного порядка, хотя маскарон и изображение руки с пером или кистью в большей степени связаны с миром визуальных форм, чем с миром книжности. Здесь не требуется разгадывание шифра, но изобразительный мотив выделяет фигуру иконописца как представителя определенного ремесла, обладающего профессиональной идентичностью и устанавливающего контакт со зрителем. Кроме того, он приобретает значение сигнатуры, дополняющей текст вотивного характера.
В XVI–XVII вв. выделение личности мастера было возможно и на чисто словесном уровне. Определенные термины, включаемые в надписи, могли не только определять профессию, обычно не называвшуюся в более ранних текстах, но и обозначать ее с помощью особых понятий, которые указывали на древние корни ремесла, его «греческие» истоки и одновременно – высоту его задач. Прежде всего это слово «зограф» или «изограф». Насколько нам известно, до конца XV – начала XVI в. в русских надписях с именами иконописцев оно не встречается. В этом отношении переломным памятником является знаменитое Евангелие 1507 г., иллюминированное Феодосием, сыном Дионисия (РНБ, Погод. 133), с записью писца, в которой сам он – исполнитель «черного писма» – упомянут как «еис антропос каллиграфос Никон»[156 - Ссылку на публикации записи см. в прим. 2 на с. 47.]. Феодосий в этом же тексте именуется «Феодосие зограф сын Дионисиев зографов». Феодосий не был автором записи, которую, несомненно, наполнил грецизмами писец – представитель среды московских интеллектуалов. Однако можно думать, что это произошло с ведома «зографа», который мог знать и о включенном в запись тайнописном фрагменте. Евангелие 1507 г. позволяет понять, как книжные приемы конструирования образа автора становились достоянием иконописцев. Почти тогда же слово «зограф» или «изограф», сменяя традиционный термин «иконник», появляется в надписях, исполненных лично иконописцами или размещенных на их произведениях по инициативе заказчика. Характерно, что наиболее ранние тексты такого рода находятся в рукописях. Таков Синаксарь 1480-х гг. (РНБ, Кир.-Бел. 56/1295), переписанный в Кирилло-Белозерском монастыре Ефремом – возможно, иноком этой обители. В записи писец называет себя «Ефремишко изугараф»[157 - Словарь русских иконописцев, 2009. С. 659.], уравновешивая уменьшительную форму имени указанием на свою вторую профессию и ее греческим обозначением. Известна подписная гравированная заставка работы «изографа Феодосия», которую ранее приписывали сыну Дионисия, но теперь относят к позднему XVI столетию[158 - Турилов А. А. Заметки дилетанта на полях «Словаря русских иконописцев XIXVII веков» // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2007. № 2 (28). Июнь. С. 124; Словарь русских иконописцев, 2009. С. 808.]. Запись псковского «зографа» Василия – автора Повести о прихожении Стефана Батория на град Псков – уже упоминалась в этой статье[159 - См. прим. 1 на с. 81.].
Еще один «зограф» в 1591/1592 г. написал житийную икону преподобного Александра Свирского, вложенную в Свирский монастырь дьяком Семеном Емельяновым. Сведения об этом содержатся во вкладной надписи на металлической пластине, которую в 1655 г. укрепили на окладе новой житийной иконы свирского преподобного (ныне в ГРМ)[160 - Соловьева И. Д. Икона «Александр Свирский в житии» в собрании Русского музея (к проблеме атрибуции) // Древнерусское искусство. Новые атрибуции. Сборник статей / ГРМ. СПб., 1994. С. 39–46; Она же. Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь. Художественное наследие и историческая летопись. СПб., 2008. С. 102–105, 197–198. Кат. 5; Словарь русских иконописцев, 2009. С. 199–200; Святые земли Русской. [Каталог выставки. ГРМ]. СПб., 2010. Кат. 236. С. 174–175. Икона 1591/1592 г., судя по всему, сохранилась; по сведениям И. Д. Соловьевой, она находится в Лодейнопольском краеведческом музее. Высказывалось предположение, что сохранившаяся пластина с «летописцем» находилась на «поставной свече», также вложенной дьяком Семеном Емельяновым и имевшей соответствующую надпись (Соловьева, 1994. С. 43–44; Соловьева, 2008. С. 103). Однако эта версия выглядит маловероятной, т. к. в тексте на пластине говорится именно о поставлении иконы, а сама пластина, судя по ее форме, должна была размещаться на поле образа, а не на криволинейной поверхности «поставной свечи».]. Согласно надписи образ написал «зограф ермонах Партениос Андреин Духовский, с ним же Василь сын Иоанн Холст». Иконописец – возможно, монах новгородского Духова монастыря или выходец из этой обители – стилизует собственное имя, придавая ему греческую форму («Партениос» вместо Парфений[161 - Мы исходим из того, что Партениос – это имя, а Андреин – отчество иконописца.]), по-гречески же именует себя «зографом» и, наконец, использует редко употреблявшееся в это время на Руси слово «ермонах» (иеромонах), а не «священноинок»[162 - Известен «ермонах изограф Серапион», будто бы написавший в 1446/1447 г. икону Спаса Нерукотворного, которая находилась на воротах крепости Великого Устюга (Словарь русских иконописцев, 2009. С. 603). Вполне вероятно, что несохранившаяся икона действительно была создана в это время и на ней была надпись с именем иконописца. Однако приведенная формулировка вряд ли может быть отнесена к XV в. Скорее всего, текст был изменен и «украшен» при одном из поновлений.]. Маловероятно, что мастер сам выполнил надпись на металлической пластине, но эти формулировки сложно приписать кому-то иному (например, заказчику). Это несомненный словесный «автопортрет», исполненный очередным иконописцем-клириком. Других случаев столь последовательной эллинизации образа иконописца в надписях на русских иконах, насколько нам известно, нет. Однако традицию именовать себя изографами продолжили некоторые русские иконописцы XVII столетия. Кроме того, с надписью, упоминающей «зографа ермонаха Партениоса», перекликаются два текста с именем монаха-иконописца Давида Сираха. Это надпись на иконе Богоматери Владимирской 1570 г. из Троице-Сергиевой лавры (Сергиево-Посадский музей), в которой иконописец именует себя просто Давидом Сирахом, и более интересный «летописец» написанной в 1577 г. иконы митрополита Алексия из Солотчинского монастыря близ Рязани (Рязанский художественный музей)[163 - Николаева Т. В. Древнерусская живопись Загорского музея. М., 1977. Кат. 165. С. 110; Филатов С. В. Две иконы Давида Сираха // ПКНО. 1981. Л., 1983. С. 222–229; Словарь русских иконописцев, 2009. С. 621.]. В этой надписи сказано, что образ написал «Давида старец росеенин Сирах». Каково происхождение этого прозвища и почему во второй надписи появилось слово «росеенин», неясно. Однако можно думать, что использование этого прозвища, и особенно слова «росеенин», представляющего собой видоизмененный грецизм, есть явление того же порядка, что и надпись с именем «Партениоса» Духовского. Обе сохранившиеся иконы Давида Сираха создавались, по всей видимости, как его личные вклады, и скорее всего, поэтому иконописец позволил себе выделить свое имя.
В 1534 г. новгородский архиепископ Макарий вложил в место своего пострига – Пафнутьев Боровский монастырь – роскошное лицевое Евангелие в серебряном окладе (ГИМ, Муз. 3878). В начале рукописи был помещен пространный «летописец», несомненно, написанный под диктовку самого вкладчика[164 - См. полные и фрагментарные публикации текста: Георгиевский В. Т. Евангелие 1532 г. новгородского архиепископа Макария, хранящееся в Пафнутьево-Боровском монастыре // Светильник. Религиозное искусство в прошлом и настоящем. 1915. № 1. С. 11–13; Янин В. Л. «Летописчик» Евангелия 1534 г. // Археографический ежегодник за 1979 г. М., 1981. С. 49–55; Декоративно-прикладное искусство, 1996. Кат. 59. С. 330, 332.]. Этот текст говорит о Евангелии как о «бесценном бисере», имеющем цену «по человеческому обычаю». Цена складывалась не только из стоимости материалов, но и из расходов на оплату труда мастеров. В записи указано, сколько «сребрениц» было дано «доброписцу чернописному, сиречь книжному», «живописцу иконному», «златописцу ж заставочному писцу и статейному писцу», «златокузньцем же и среброкузньцем и сканному мастеру». Имен этих высокооплачиваемых ремесленников «летописец» не называет. Однако парадоксальным образом в записи отражается не только «средневековое» отношение к мастерам, но и признание высокого уровня их мастерства и роли в создании выдающегося произведения. Сам необычайно длинный и велеречивый вкладной текст, не по размеру названный «малым летописчиком», говорит о заказчике в третьем лице, но дает понять, что он является автором и общего замысла Евангелия, и записи. Подобное высказывание донатора, редкое для русского Средневековья, не рвет с традиционными условностями, но показывает, что проблема авторского самосознания имеет отношение и к мастерам, и к их заказчикам. Это еще один уникальный казус, который в комплексе с другими столь же редкими случаями свидетельствует о системности эволюционных процессов, пришедшихся на XVI столетие.
Возвращаясь к надписям с дополнительными графическими и изобразительными элементами, создающими стилизованный «автопортрет» мастера, следует подчеркнуть, что на Руси эта традиция укоренилась при активном участии носителей книжной культуры с ее более свободными нравами. Тем не менее кажется существенным, что это укоренение произошло в определенную эпоху. Надписи, включающие элементы тайнописи, изобразительные мотивы и «ученую» терминологию, как уже было отмечено, в основном создавались иконописцами и ювелирами, обладавшими квалификацией книжников. Однако существование таких надписей позволяет предположить, что современники и коллеги этих мастеров, не столь вовлеченные в мир книжной премудрости, также испытывали желание выделиться и реализовывали его в собственно художественной и иконографической сферах.
Раздел II
Вхождение в Новое время: национальная рефлексия на европейские тренды
Глава 1. Гении мест: локальная научная школа в общероссийском контексте
Изучение и преподавание истории русского искусства Нового времени, в частности – XVIII века, имеет в Московском университете глубокую традицию[165 - Подробнее см.: История искусства в Московском университете. 1857–2007 / Отв. ред. В. С. Турчин, И. И. Тучков. М., 2009.]. Ключевое место в этом процессе на протяжении 1960-х – первой половины 2010-х годов занимала профессор Ольга Сергеевна Евангулова[166 - Евангулова Ольга Сергеевна (1933–2016), доктор искусствоведения, профессор. В 1956 г. окончила исторический факультет МГУ со специализацией по кафедре истории русского и советского искусства (сейчас – кафедра истории отечественного искусства). С 1956 по 1959 г. работала научным сотрудником Государственного музея архитектуры им. А. В. Щусева. На кафедре истории отечественного искусства работала по завершении обучения в очной аспирантуре с сентября 1963 г. последовательно в качестве ассистента, старшего преподавателя, доцента и профессора до октября 2016 г. Сфера научных интересов: История и историография русского искусства Нового времени (XVIII – начало XIX в.). В 1995 г. за цикл трудов, посвященных истории русского искусства XVIII в., удостоена премии имени М. В. Ломоносова I степени (МГУ). Читала один из основных курсов «Русское искусство XVIII века», а также ряд спецкурсов, тематика которых менялась раз в четыре – пять лет. Вела семинар «Русское искусство XVIII – начала ХХ века», а также спецсеминар «Проблемы русского искусства XVIII века», на базе которого сформировалась одна из авторитетнейших школ изучения русского искусства Нового времени. В апреле 2017 г. на историческом факультете МГУ в рамках Федорово-Давыдовских чтений прошла научная конференция памяти профессора О. С. Евангуловой, организованная и проведенная силами ее учеников.].
Ольга Сергеевна Евангулова
(1933–2016)
Педагогическая направленность мысли у О. С. Евангуловой проступает уже в детстве. По свидетельствам родителей и ее воспоминаниям, еще до школы у нее был свой «спецсеминар» в составе любимых кукол и игрушек. Позже стало ясно, что нелюбящей арифметику школьнице уготована гуманитарная стезя. Естественным был и выбор специальности. Отец – Сергей Павлович Евангулов – был известным скульптором-миниатюристом. В гостеприимном доме, вернее – комнате в коммуналке на Старой Басманной, бывали не только художники, но и историки искусства, преподававшие в Московском университете: А. А. Федоров-Давыдов, М. А. Ильин, В. М. Василенко. Так что рассмотрение вариантов для поступления, среди которых был и связанный со Строгановкой[167 - В то время – Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское).], завершилось выбором верного пути. Учеба в МГУ продолжалась с 1951 по 1956 г.
Была своя альтернатива и в университете: заниматься античным искусством или русской архитектурой Нового времени. Однако после поездки на раскопки в Причерноморье интерес к древностям стал более умеренным. Зато в качестве будущего предмета занятий повысился авторитет отечественного творческого наследия эпохи классицизма. Знатоком и специалистом в области архитектуры этого периода на кафедре был М. А. Ильин. Написанная под его руководством дипломная работа О. С. Евангуловой «Здание Ремесленного заведения Московского Воспитательного дома», впоследствии опубликованная в виде статьи[168 - Евангулова О. С. К истории здания Ремесленного заведения Воспитательного дома // Памятники культуры. Исследования и реставрация. Сборник научно-методического совета по охране памятников культуры АН СССР. Вып. II. 1960. С. 110–138.], обозначила и круг последующих занятий, и место работы – Республиканский музей русской архитектуры им. А. В. Щусева (сейчас – Государственный музей архитектуры им. А. В. Щусева). Музейная повседневность сочеталась с научными занятиями. Здесь же работал однокурсник и муж, И. В. Рязанцев[169 - Рязанцев Игорь Васильевич (1932–2014), доктор искусствоведения, академик РАХ, зав. отделом НИИ РАХ, кандидатскую диссертацию на тему «Основные черты архитектуры раннего классицизма в России» защитил в 1968 г. Подробнее о нем см.: Карев А. А. Игорь Васильевич Рязанцев – историк искусства //Русское искусство Нового времени. Исследования и материалы / НИИ РАХ. Вып. 16. М., 2015. С. 9–22.], а также известные сейчас специалисты и ученые Н. А. Евсина, Л. В. Тыдман, В. Э. Хазанова. Начатые тогда диссертации до сих пор вызывают резонанс в научном сообществе.
Далее началась аспирантская пора (1959–1962) под присмотром и руководством профессора А. А. Федорова-Давыдова. Выбор темы объективно научно актуальной субъективно базировался на детских впечатлениях и привязанности к родным местам. Поэтому в диссертации (защищена в 1963), впоследствии ставшей книгой «Дворцово-парковые ансамбли Москвы первой половины XVIII века», одно из центральных мест занимает архитектурная история Лефортова[170 - Евангулова О. С. Дворцово-парковые ансамбли Москвы первой половины XVIII века. М.: МГУ, 1969.].
Это было время увлекательнейшей, наполненной радостью разыскания работы с письменными и изобразительными источниками в библиотеках, архивах и музейных фондах. Здесь сформировалось устойчивое на протяжении всей научной деятельности уважение к документу и соответственно – к историко-художественному факту, знание которого стало впоследствии одним из главных предъявляемых ученикам требований. Отсюда возникла практика хронологических таблиц, которые с энтузиазмом чертили впоследствии как студенты, готовящиеся к экзамену по русскому искусству XVIII в., так и дипломники и аспиранты.
Насыщенная конкретным материалом и по тем временам хорошо иллюстрированная книга, снабженная приложениями с публикацией описей и других документов первой половины столетия, имела широкий резонанс. Особый интерес она представляла и представляет для москвоведов. Между тем в ней были положения, которые до сих пор не всеми еще воспринимаются как своего рода открытия в изучении особенностей художественного процесса в России Нового времени. Так, например, анализ яузских усадеб, таких как лефортовская и головинская, показал, что при изучении истоков петербургской императорской резидентальной культуры необходимо иметь в виду и московский опыт конца XVII – начала XVIII в., что сложившаяся в это время архитектурная ситуация на Яузе – своеобразная модель парадного фасада империи на невских берегах. Заслуживает внимания и тот факт, что ряд приемов, принципов и правил, которые затем будут применяться в Петергофе, Царском Селе, а в какой-то степени и в Зимнем дворце, выработался у Ф.-Б. Растрелли именно в Москве при строительстве Летнего Анненгофа. Например, соотношение высоты здания к ширине главного фасада как 1 к 17. Показана была и известная преемственность между барочным лефортовским ансамблем 1742 г. и готической резиденцией Екатерины II Царицыно по линии панорамности и живописности.
Занятия наукой естественным образом были связаны с тематикой первых дипломников молодого преподавателя, заступившего на пост ассистента кафедры русского и советского искусства МГУ в сентябре 1963 г.
Архитектурная тематика преобладала и в открывшемся в 1965 г. спецсеминаре «Проблемы русского искусства XVIII века», который существует по настоящее время. В эти же годы формируется взаимодействие между основным курсом, семинаром, спецкурсом и спецсеминаром. О концепции и общем характере первых вариантов основного курса сказать довольно сложно. Упомяну лишь замечание заведующего кафедрой А. А. Федорова-Давыдова: «Я вижу, что искусство XVIII века находится в надежных руках».
Думается, что основной учебный курс в своей основе не особенно изменился к тому времени, когда мы его слушали в 1973–1974 учебном году. Оставляя в стороне меняющуюся часть, связанную с новыми открытиями атрибуционного и концептуального характера, отмечу основной крен лекционного цикла. Он, прежде всего, заключался в том, чтобы показать действие законов искусства Нового времени в России. Другой важный аспект – специфика культуры XVIII столетия, включая язык, поведение человека, его костюм, отношение к природе и предметному миру. Этот человек в лице художника, заказчика, модели портрета или зрителя и похож и не похож на нас в силу целого ряда причин, в том числе и социального характера. Понимание этих особенностей требует не только специальных знаний, но и известного почти художественного воображения.
С точки зрения прагматически настроенного студента лекции были настолько сбалансированы между фактологией и общей проблематикой, что к экзамену можно было готовиться по одним конспектам, подкрепляя чтение просмотром иллюстраций. Однако было на экзамене особое требование, пренебрегая которым легко можно было получить неудовлетворительную отметку. Это касалось рисования архитектурных планов. Причем при неудаче следовал утешающий рассказ о том, что в свое время Ольга Сергеевна сама пострадала на экзамене у А. А. Федорова-Давыдова за неудачный рисунок плана Адмиралтейства в Петербурге начала XIX в.
Что же касается специализации, то к концу 1960-х гг. сложилась довольно действенная система «взращивания» дипломников и аспирантов. Сначала изъявившие желание заниматься русским искусством XVIII столетия должны были прослушать спецкурс по историографии. Затем они становились полноценными участниками историографического спецсеминара, где в соответствии с избранными в этот период темами отрабатывалась та или иная проблематика. Чаще всего обсуждались вопросы перехода от Средних веков к Новому времени, проблемы стиля, жанрового состава русского искусства, его национальной специфики и т. д. Разумеется, в связи с историографией затрагивались и методологические проблемы, обсуждались действенность и применимость того или иного подхода. Так, например, специально был приглашен на семинар В. И. Плужников, чтобы приоткрыть тайны типологической классификации русской архитектуры[171 - Например, см.: Плужников В. И. Типология объемных композиций в культовом зодчестве конца XVII – начала XX в. на территории Брянской области // Памятники русской архитектуры и монументального искусства. М., 1983. С. 157–199.]. Плодотворным оказалось и присутствие нескольких поколений на семинаре: студентов, аспирантов, соискателей и даже защитившихся кандидатов. Помимо квалифицированного участия в обсуждении той или иной темы или доклада они выполняли важную функцию – быть близким примером для подражания. И пример этот был чаще всего заразительным. Распространенной практикой были выезды-выходы по памятникам, посещение фондов музеев, реставрационных мастерских и экспертных отделов. Так студенты знакомились с возможным будущим местом работы, а музейные работники – с будущими коллегами.
Существовала, конечно, не прямая, но вполне ощутимая связь между тематикой дипломных и кандидатских работ и научными занятиями самого руководителя семинара. Практически и как исследователь, и как научный руководитель Ольга Сергеевна до последних дней не оставляла без внимания архитектуру. Однако уже в 1970-е гг. все больше стал проявляться интерес к изобразительному искусству, и в частности – к портрету. Вряд ли случайно первая диссертация, рожденная и выпестованная в спецсеминаре, была посвящена классификации портрета в России[172 - Яблонская Т. В. Классификация портретного жанра в России XVIII века: к проблеме национальной специфики. Дисс. … канд. искусствоведения. М., 1978.], а следующая монография О. С. Евангуловой, выпущенная издательством Московского университета в 1987 г., носила название «Изобразительное искусство в России первой четверти XVIII века»[173 - Евангулова О. С. Изобразительное искусство в России первой четверти XVIII века. Проблемы становления художественных принципов Нового времени. М.: МГУ, 1987.]. Она и защищалась в качестве докторской диссертации (1989).
Однако прошедшее между двумя монографиями двадцатилетие не было однообразным и бедным на научные выступления и издания. Кроме участия в общих трудах, таких как «История искусства народов СССР»[174 - Евангулова О. С. Русская архитектура первой половины XVIII века // История искусства народов СССР. Т 4. М.: Изобразительное искусство, 1976. С. 14–42.] или учебник для студентов исторических факультетов[175 - Евангулова О. С. Русское искусство XVIII века // История русского и советского искусства. Учебное пособие для исторических ф-тов госуниверситетов / Под ред. Д. В. Сарабьянова. М., 1979 (переизд. 1989).], создания альбома «Ленинград в изобразительном искусстве» вместе с И. В. Рязанцевым[176 - The Neva Simphony. Leningrad in Works of Graphic and Painting / Compiled by V. Pushkariov. Introduced by O. Yevangulova and I. Riazantsev. Leningrad: Aurora Art Publishers, 1975.], выпуска ряда статей в авторитетных сборниках, было событие, выходящее, как представляется, по значимости за рамки текущей педагогической и научной работы. Впрочем, и с той и с другой оно было тесно связано. Речь идет о Всесоюзной научной конференции молодых специалистов «Русская художественная культура XVIII века и иностранные мастера», прошедшей в Третьяковской галерее в 1982 г. Несмотря на всесоюзный статус и соответственно присутствие таких уже тогда известных исследователей из Ленинграда, как С. О. Андросов и В. Ю. Матвеев, это был, посуществу, смотр сил спецсеминара с демонстрацией позиции по одному из важнейших вопросов отечественной культуры. Программный характер имело и выступление Ольги Сергеевны «Русское искусство XVIII века и проблема «россики»[177 - Евангулова О. С. Русское искусство XVIII века и проблема «россики» // ГТГ. Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции молодых специалистов «Русская художественная культура XVIII века и иностранные мастера» в ГТГ. М., 1982. С. 3–6.]. Положения этого выступления на материале портрета позже были опубликованы в журнале «Искусство»[178 - Евангулова О. С. Русский портрет XVIII века и проблема «россики» // Искусство. № 12. 1986. С. 56–61.].
Это был важный этап в реабилитации корпуса иностранных мастеров в России, в определении их объективной роли в русской культуре. Осознание естественности присутствия иностранных действующих лиц на сцене национальной художественной культуры вылилось в спецсеминаре в целый ряд дипломных, а затем и диссертационных работ. Однако говорить о закрытии этого вопроса еще рано, поскольку «повезло» только одному из иностранцев – портретисту Г. Х. Грооту. О нем вышла монография Л. А. Маркиной[179 - Маркина Л. А. Портретист Георг Христоф Гроот и немецкие живописцы в России середины XVIII века. М., 1999.], недавно была устроена персональная выставка в Русском музее[180 - См.: Георг Христоф Гроот и елизаветинское время / Государственный Русский музей / Науч. ред. Г. Голодовский. СПб., 2016.], а затем – и совместная с братом-зверописцем[181 - Братья Гроот. Портретист и живописец / ГМЗ «Царицыно». 01.06.2017– 27.09.2017. Куратор проекта – Л. А. Маркина.].
Показательно, что именно в этот период был создан и неоднократно прочитан спецкурс «Художественные контакты России и Запада в XVIII веке».
Другая важная сфера, которая обсуждалась в спецсеминаре в 1970– 1980-е гг. – портрет. Его многогранная проблематика, так или иначе, затрагивалась в связи с вопросами заказа, присутствия иностранцев, взаимоотношения стиля и жанра, взаимодействия разных видов искусства, проявления индивидуальности автора и модели, психологической стороны дела и т. д. Именно в это время был сделан этапный доклад «Портрет петровского времени и проблема сходства»[182 - См.: Евангулова О. С. Портрет петровского времени и проблема сходства // Вестник Московского университета. История. 1979. № 5. С. 69–82.]. Был объявлен и неоднократно прочитан спецкурс «Модели русских портретистов XVIII – начала XIX в.». Портретная проблематика становится на долгое время одной из самых популярных при выборе дипломных тем, что также нашло продолжение на уровне кандидатских и докторских диссертаций.
Возвращаясь к докторской работе самого руководителя семинара, важно иметь в виду такую деталь, как подзаголовок: «Проблемы становления художественных принципов Нового времени». Иными словами, искусство петровского времени рассматривается в ней как своеобразная модель-образец художественной культуры России, по крайней мере, XVIII – начала XIX в. Разные стороны этой модели рассматривались и ранее, в том числе и самим автором. Однако впервые в одном ансамбле фигурируют вопросы восприятия искусства современниками, коллекционирования, заказа, проблемы бытования художественных произведений, жанровая структура и характер стилевого состояния искусства петровского времени. Заключение представляет собой самостоятельный историко-теоретический очерк, в котором как раз и прослеживается дальнейшая судьба основных проблем художественной культуры петровского времени. Апеллируя к культурологическим опытам известных структуралистов Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского, Ольга Сергеевна выстраивает выделенные ими антиномии русской культуры в два «столбика» и рассматривает их во временной динамике:
«…церковное – светское
русское – общеевропейское
средневековое – новое»[183 - Евангулова О. С. Изобразительное искусство в России первой четверти XVIII века. С. 262.].
Особое внимание обращает на себя вторая строчка: «русское – общеевропейское». Смысл ее до сих пор воспринимается студентами и соответствующим образом настроенными специалистами не без труда. Как справедливо показано в книге, начиная с Петровской эпохи при такой постановке вопроса нельзя говорить об антиномии. Скорее мы здесь имеем дело с сопоставлением частного и общего, что применимо при исследовании любой национальной художественной школы Нового времени. Не случайно это один из самых цитируемых трудов Ольги Сергеевны. В нем в концентрированном виде заложена способная к развитию проблематика, что действительно получило продолжение в ее статьях и книгах, а также в работах ее учеников и коллег.
Один из примеров – следующая по времени книга «Портретная живопись в России второй половины XVIII века», вышедшая в издательстве МГУ в 1994 г.[184 - Евангулова О. С., Карев А. А. Портретная живопись в России второй половины XVIII века. М.: МГУ, 1994.] Замысел целиком принадлежит Ольге Сергеевне. Ее соавтор является лишь исполнителем этого замысла в нескольких главах. Ей хотелось видеть новую по сравнению с изданиями 1950–1960-х гг. характеристику творчества наиболее значимых мастеров русской портретной живописи эпохи ее расцвета. Однако вынужденная в те годы тяга издательств к коммерческому успеху не оставила возможности полностью реализовать первоначальный замысел.
Особая сфера интересов – «Художественная культура русской усадьбы XVIII–XIX вв.». Именно так назывался спецкурс, который Ольга Сергеевна читала с небольшими перерывами почти два десятилетия подряд. Это было время тесного сотрудничества с возобновленным Обществом изучения русской усадьбы (ОИРУ), что выразилось, прежде всего, в участии в конференциях и публикациях в сборниках «Русская усадьба». Главным образом на основе этого опыта в 2003 г. вышла книга «Художественная „Вселенная“ русской усадьбы»[185 - Евангулова О. С. Художественная «Вселенная» русской усадьбы. М.: Прогресс-Традиция, 2003.]. Совместно с художником были найдены адекватный замыслу образ обложки и формат книги, который объективно оказался близким формату книг XVIII в. для более или менее широкого чтения. В издании была дана картина усадебного бытия в виде 9 глав, в каждой из которых обсуждалась одна из сторон усадебного художественного мира: «домашние упражнения», «домашняя история», тема природы, времена и народы в художественной структуре усадьбы и другие. Порой авторское начало умышленно стушевывалось, чтобы дать слово современникам Золотого века усадьбы. Вместе с тем во всем ощущалась авторская эмоция. Говоря языком сентиментализма, проблематика усадьбы была отобрана и рассмотрена «сердцем, отверстым на прелести природы» (И. И. Хемницер). По сути, это облеченный в строго научные одежды гимн счастливому усадебному бытию, привлекательный образ которого дан в контраст нравственно ущербному, враждебному натуре человека городу. Здесь в наибольшей степени почти напрямую отразились взгляды автора монографии на окружающую действительность, неприятие целого ряда проявлений урбанизма. Например, метро, как и самолет, считались ненатуральным транспортом. В зрелом возрасте категорически не хотелось жить в Москве из-за того, что дом напоминал муравейник, что опять же считалось ненатуральным. Зато был очень любим провинциальный Рыбинск, где была настоящая большая река и до сих пор стоит дом, построенный дедушкой – вольнопрактикующим врачом Н. Чиркиным, где она родилась и куда в летнее время постоянно ездила ребенком[186 - Жили, правда, не в самом каменном доме, который был построен как раз накануне революции и потому подвергся характерному для этого времени уплотнению, а в деревянном флигеле.]. Иными словами, художественная «вселенная» русской усадьбы – не только образ отечественной Аркадии, но и желанный мир, научное описание которого носит почти исповедальный характер. Вряд ли случайно именно эта книга посвящена памяти родителей.
В последнее десятилетие в своих трудах Ольга Сергеевна больше внимания уделяла человеку в его отношении к искусству, чем самому искусству. Вопросы его восприятия, так или иначе отраженного в художественном, деловом, научном и ином слове, обсуждаются в книге «Русское художественное сознание XVIII века и искусство западноевропейских школ», вышедшей в 2007 г.[187 - Евангулова О. С. Русское художественное сознание XVIII века и искусство западноевропейских школ. М.: Памятники исторической мысли, 2007.] Большая часть глав этой книги была опубликована в виде статей в сборнике Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств «Русское искусство Нового времени. Исследования и материалы». Это была среда коллег-единомышленников, включая учеников разных поколений. В монографии анализ разнообразных, порой очень редких и малоизученных источников был нацелен не только на выявление интересов к той или иной национальной европейской школе с ее специфическими качествами, но и на раскрытие темы самоидентификации российской художественной культуры в общеевропейском контексте. Показательно, что это единственная монография Ольги Сергеевны, которая имеет эпиграф. Строка из Наказа Екатерины II: «Россия есть Европейская держава» – определяет пафос не только данной книги, но практически всех трудов, включая лекции и спецкурсы, семинары и спецсеминар.
Последняя вышедшая при жизни монография «Московская архитектура и ее создатели (первая половина XVIII века)»[188 - Евангулова О. С. Московская архитектура и ее создатели (первая половина XVIII века). М.: Прогресс-Традиция, 2014.] уже самим названием указывает на связь с первой книгой; дополняя ее, она обещает новые возможности в исследовании локальной архитектурной школы. Основной акцент сделан на создателях. Причем здесь имеется в виду взаимодействие заказчика и мастера. И первому как инициатору уделяется гораздо больше внимания, чем второму, видимо, чтобы в какой-то мере уравновесить существующую в литературе традицию. Портрет «соавтора» архитектора дается на фоне или в обрамлении сведений о постройке, часто почерпнутых из почти забытой старой литературы или непосредственно из архивных источников, что также роднит последнюю книгу с первой. Два очерка, завершающих книгу, можно рассматривать как методологически значимое обращение к читателю, призыв к бинарному восприятию приведенных документальных свидетельств. С одной стороны, чуть ли не за каждым заказом стоит прагматическое указание на образец, следование которому столь же значимо, сколь и самое незначительное от него отклонение. С другой стороны, весь видимый созданный Творцом и его подражателями мир воспринимался человеком XVIII столетия иносказательно и в неразрывной совокупности с эмблемами и символами, что доказывают сны Петра I, Екатерины I и Василия И. Баженова.
Антропологический крен ощущается и в педагогической работе – в том, например, как вела в последние годы Ольга Сергеевна спецкурс «Основы типологии иконографии и атрибуции произведений русского искусства XVIII века», в чем ей активно помогала сотрудник НИИ РАХ Е. А. Тюхменева. За исходный пункт брались человек, его одежда, предметное окружение, жилище, средства передвижения и т. д. Исходя из этого давались типология и иконография произведения, его место в общем художественном процессе. Большое значение в ходе занятий имел непосредственный контакт студента с вещью, которая в виде чашки XVIII в., марочницы XIX столетия, столового ножа начала ХХ в. приносилась в аудиторию, где становилась объектом пристального исследования, по крайней мере, при помощи двух чувств: зрения и осязания.
Конечно, требуется время, чтобы сколько-нибудь полно осмыслить научную и более чем пятидесятилетнюю педагогическую работу О. С. Евангуловой. Отдельного внимания требуют такие сферы, как научные контакты с Санкт-Петербургским университетом[189 - Евангулова О. С. К вопросу об особенностях художественного процесса в России XVIII века // Отечественное и зарубежное искусство / ЛГУ. Межвузовский сборник. Вып. 3. Л., 1986. С. 3–11; Императрица Елизавета Петровна и подмосковная старина // М. В. Ломоносов и елизаветинское время /СПбГУ. Сборник научных статей по материалам конференции «М. В. Ломоносов и елизаветинское время». СПб, 2011. С. 13–26.], где долгое время школу по изучению русского искусства XVIII века возглавляет Татьяна Валериановна Ильина, и Государственным Эрмитажем[190 - О. С. Евангулова регулярно участвовала в конференции «Петровское время в лицах», традиционно проходившей в Меншиковском дворце – филиале Государственного Эрмитажа. Впервые изложенные здесь материалы публиковались в эрмитажных сборниках, а затем, как правило, ложились в основу очередной монографии. Среди примеров разных лет см.: Евангулова О. С. Петровские традиции в скульптуре яузских садов // СПб. Гос. Эрмитаж. Содержание докладов научной конференции «Петровское время в лицах». 2002. С. 35–39; Она же. Об эволюции восприятия западноевропейского искусства в России петровского времени // СПб. Гос. Эрмитаж. Петровское время в лицах – 2004. С. 131–139; Она же. Сны Петра и Екатерины и особенности образного мышления их времени // Петровское время в лицах – 2007. Труды Государственного Эрмитажа. XXXVIII. 2007. С. 90–93.]. Особый интерес представляют соавторские научные труды с И. В. Рязанцевым, посвященные архитектуре и садовой скульптуре Москвы[191 - Евангулова О. С., Рязанцев И. В. У Красных ворот (к истории архитектурного ансамбля) // Русский город / Под ред. В. Л. Янина; Сост. Л. И. Насонкина. М.: МГУ, 1990. Вып. 9. С. 91–121; Они же. Особенности образной структуры садовой пластики дворцовых ансамблей на Яузе в XVIII веке // Русское искусство Нового времени. Исследования и материалы. М.: НИИ РАХ, 2004. Вып. 8. С. 33–47.], усадебной тематике[192 - Евангулова О. С., Рязанцев И. В.Современник А. С. Пушкина о церкви-мавзолее в «селе П…» // Русская усадьба. 2000. Вып. 6. С. 107–121; Они же. Барышниковы и искусство в их усадьбах (по семейным запискам) // Русская усадьба. 2001. № 7. С. 377–388.], коллекционированию и заказу петровского времени[193 - Евангулова О. С., Рязанцев И. В. О деятельности князя М. П. Гагарина, связанной с искусством // Петровское время в лицах – 2006. Труды Государственного Эрмитажа. XXXII. 2006. С. 123–129. 0,5 п. л. (в соавторстве с И. В. Рязанцевым).], а также судьбе традиционной ветви искусства в новых условиях[194 - Евангулова О. С., Рязанцев И. В. О традиционном направлении в русской архитектурной графике первой половины XVIII века // Русское искусство Нового времени. Исследования и материалы. М.: НИИ РАХ, 2013. Вып. 15. С. 6–19.].
В ближайших планах педагога и ученого была подготовка к изданию сборника очерков по историографии, один из которых – «Судьба проблемы реализма в отечественной литературе о русском искусстве XVIII века» – был опубликован в 2006 г.[195 - Евангулова О. С. Судьба проблемы реализма в отечественной литературе о русском искусстве XVIII века // «Золотой осьмнадцатый…» Русское искусство XVIII в. в современном отечественном искусствознании. СПб.: СПГУ, 2006. С. 63–68.]
Глава 2. Просвещенческая топография живописного и графического пространства
Из всего разнообразия вариантов трактовки иллюзорного пространства как места действия в искусстве России эпохи Просвещения есть смысл выбрать бытовой жанр, где сошлись интересы нескольких «родов» живописи и графики, включающих сцены в интерьере и ландшафте. Состояние этого жанра в XVIII веке имеет свою специфику, что отразилось в его названиях и названии соответствующего класса Императорской Академии художеств. Одно время этот род живописи именовался «домашними упражнениями». После закрытия класса в 1793 г. бытовой жанр теоретически стал «отраслью живописи исторической» и его назвали «историческим домашним родом»[196 - Брук Я. В. У истоков русского жанра. XVIII век. М., 1990. С. 183.]. Практически же его функции были переданы портретному классу, программы которого существенно не отличались от «домашнего»[197 - Моисеева С. В. «…К лучшим успехам и славе Академии»: Живописные классы Санкт-Петербургской Академии художеств XVIII – первой половины XIX века. СПб., 2014. С. 98.]. При этом в академической иерархии жанров он прочно «обосновался» на третьей по важности позиции, после исторического большего рода и перспективы[198 - Краткое руководство к познанию рисования и живописи историческаго рода, основанное на умозрении и опытах. Сочинено для учащихся художником И. У. СПб., 1793. С. 36–37 (далее – Краткое руководство).].
Уже в XVIII веке прекрасно понимали специфику объекта изображения для разных жанров, в том числе и для «домашней истории». «В историческом домашнем роде, – писал И. Ф. Урванов, – употребительные предметы суть люди, и внутренняя архитектура сельских и городских домов со всеми украшениями. Сей род назван историческим домашним потому, что художники в оном упражняющиеся, нам представляют одни только повседневно в домах случающияся дела или забавы…»[199 - Краткое руководство. С. 37–38.] Между тем немаловажное значение имел не только выбор «употребительных предметов», но и характер трактовки пространства – как в стилистическом, так и смысловом отношении.
При обращении к теме жанра[200 - Историографию см.: Брук Я. В. Указ. соч. С. 7–8.], как правило, исследователи лишь отчасти касаются этого вопроса. А он важен еще и потому, что позволяет показать особенности бытового жанра в соотношении с традициями других «родов» живописи в трактовке иллюзорного пространства. И не только живописи.
Показательно, что сохранившиеся близкие программам и заданиям в академическом классе «домашних упражнений» произведения были созданы живописцами, которые специализировались в других областях.
Так, автор хрестоматийного полотна «Юный живописец» (между 1765 и 1768, ГТГ) И. И. Фирсов в основном работал в сфере сценографии[201 - Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. Живопись XVIII века. 2-е изд., доп. и перераб. М., 2015. С. 261.]. Картину написал, будучи екатерининским пенсионером во Франции, где посещал класс Королевской Академии живописи и скульптуры и пользовался советами Ж. М. Вьена. В известной степени полотно отражает характер стилистики парижского мэтра. Оно классически ясно построено. Однако характер обращения к миру детства здесь вполне в духе рокайля, как известно, открывшего эту сферу. Все средства, в том числе и изысканный неброский колорит, и уплощающее объем освещение, и в меру подвижный мазок мобилизованы для создания камерной атмосферы уютных интерьерных занятий, не менее любимых рокайльными мастерами (Ж.-Б. Шарденом и Пер-роно, например), чем мифологическая эротика и игривые пасторали. Впрочем, непритязательная тишина, достигнутая по сюжету успокаивающим непоседливую натурщицу назидательным жестом взрослой воспитательницы, вряд ли обманывала зрителя своей исчерпанностью. Бедность начинающего маэстро, обозначенная разорванным рукавом его одежды (вполне возможно, представлен ученик, а не владелец мастерской), не мешает ему находиться в позиции аллегории живописи, окруженной соответствующими атрибутами. Вряд ли в этом отношении случайно сходство поз фигуры Аллегории живописи на полотне А. Матвеева (1725, ГРМ) и фирсовского юного мастера. Кажется вполне содержательным не только с точки зрения обстановки художественной мастерской и ряд изображений в левой части композиции. Взгляд зрителя в глубину пространства интерьера фиксирует, как вехи, профильный силуэт лица живописца, изображение девочки на полотне, попутно отметив ее сходство с натурой, хотя отнюдь не полностью, поскольку поза на портрете явно вымышлена. Далее зритель, несомненно, заметит скульптурный бюст девушки, затем ближе к стене – неодетый манекен и, наконец, непосредственно за ним – висящую на стене картину с играющей на струнном инструменте женщиной. Рядом висит лесной пейзаж. Имея в виду многозначность жеста воспитательницы, его можно прочитать не только как назидательный, но одновременно и указывающий на этот изобразительный ряд. Последний, в свою очередь, вполне может играть роль примера из жизни персоны в разные возрастные сезоны: девочка – девушка – женщина. Игра на музыкальном инструменте в данном контексте воспринимается как предупреждение, ибо обозначает любовную игру и намекает скорее на порок, чем на добродетель[202 - Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве / Пер. с англ. и вступ. ст. А. Майкапара. М., 1999. С. 379.]. Изображение же леса как символа необузданно природного начала[203 - Керлот Х. Э. Словарь символов. М., 1994. С. 289.] опять же не только продолжает эту тему, но и напрямую, поскольку находится непосредственно над девочкой, связывает ее неусидчивость с перспективой плачевных результатов в дальнейшей жизни. Вряд ли лишенный одежды манекен в своей значимости противоречит подобным отрицательным примерам. Положительным же образцом выступает живописное полотно, на котором бойкая непоседа превращается в идеальный образ милого послушного существа. Собственно, живописная метаморфоза и является, скорее всего, одной из важнейших тем картины. А то, что она создается руками «юной живописи», делает ее своего рода поучительным мастер-классом не только для малышки, но и для зрителя. Таким образом, на первый взгляд лишенная откровенной назидательности в духе Греза картина И. Фирсова при ближайшем рассмотрении оказывается исполненной моральностью, столь ценимой Д. Дидро. А картина в картине предстает, пусть и несколько прямолинейно и незамысловато, примером легкого, но необходимого исправления натуры подражающим ей искусством.
И. И. Фирсов. Юный живописец. Между 1765 и 1768. Х., м. ГТГ