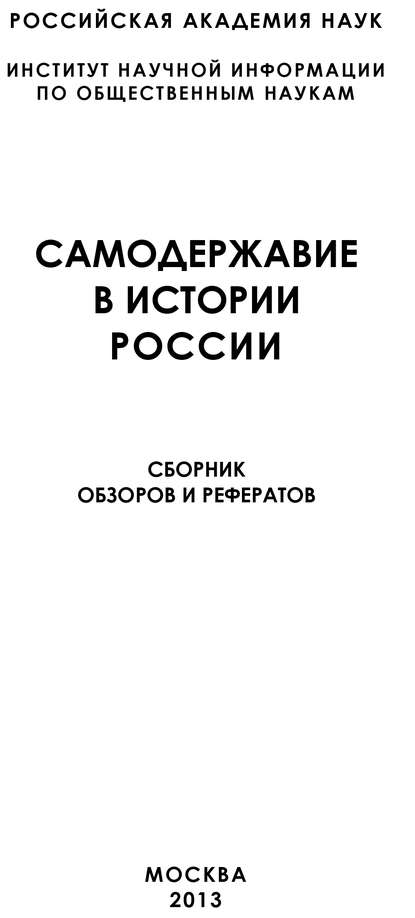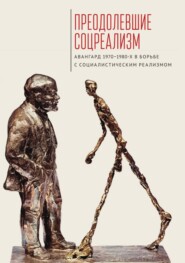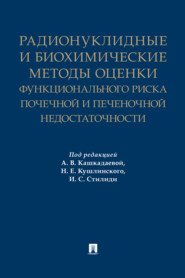По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Самодержавие в истории России
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На протяжении своего царствования Иван с большим или меньшим успехом преследовал определенные политические цели. Одна из них заключалась в том, чтобы ослабить влияние и сократить вотчины удельных князей, причем такую политику проводил уже Василий III. Было ясно также, что сохраняется традиционное согласие между царем и аристократией, заинтересованной в объединении разрозненных княжеств и областей. Не вызывает сомнения тот факт, что, хотя выпады Ивана не носили систематического характера и были продиктованы его личной ненавистью и недоверием к отдельным князьям и боярам, они резко сократили возможную угрозу его власти со стороны немногих оставшихся могущественных Рюриковичей. Путем постоянной перетасовки земель, которые то причислялись к опричнине, то выводились из нее, Иван препятствовал формированию местных союзов между аристократией и ее потенциальными вооруженными сторонниками.
Политика централизации не означала, что Иван пытался учредить органы централизованного управления, подконтрольные центральному правительству и бюрократии: для этого недоставало грамотных кадров, а также правовых основ, необходимых для их подготовки. Эта политика, полагает автор, заключалась в «повсеместном насаждении представления о едином высшем и безоговорочном законодательном авторитете, наделяющем своих агентов функциями отправления правосудия, сбора поступлений и обороны, часто с использованием системы поруки» (с. 500). В этом собирании земель Иван был более удачлив, чем многие его современники в Европе. В России был один свод законов (Судебник 1550 г.), общая денежная единица, одна вера, единый набор мер и весов и общее военное командование. За 34 года царствования Ивану удалось в несколько раз расширить территорию, принадлежащую России, присоединив Казань и Астрахань и отодвинув границы заселенных и защищенных земель на юге. После присоединения Ерма-ком Сибирского ханства государство взяло в свои руки планомерное освоение западносибирских земель.
За 27 лет почти непрерывных войн русское войско подверглось реформированию, а его снабжение постоянно улучшалось, хотя это стоило напряжения сил всего населения. Автор отмечает быстрое разрастание сети укрепленных городов и крепостей, составивших обустроенные рубежи обороны от разбойничьих набегов крымцев. Однако для оплаты войн, опричнины, строительства укреплений на юге требовались немалые средства, и поборы росли. Посошные сборы на мирные цели в период с 1505 по 1584 г. выросли в денежном выражении с 2,16 до 6 руб., а на военные цели еще более. Известно, что вступив на престол, царь застал центральные и северо-восточные области России в цветущем состоянии, а оставил их в последние годы правления на грани полного разорения (с. 502). Причинами этого наряду с бедствиями обычными (войны, стихийные бедствия, голод и мор, крымские набеги, поборы) были и нововведения: рост поместной системы, лишавшей крестьян земли, изменение системы оплаты службы помещиков, переведенных с государственного жалования на самостоятельную эксплуатацию земель, обязанность выставлять вооруженных конных холопов на военную службу и опричное разорение. Все это за 25 лет довело страну до крайности, так что у нее не было ни людей, ни средств для продолжения Ливонской войны. Количество заброшенных хозяйств достигало в ряде случаев 90%. Жители бежали на Север, на восток, в Сибирь, на юг. Уделом оставшихся было закрепощение.
Произвол и жестокость царствования Ивана в сочетании с разрушительной практикой опричнины могли только отдалить торжество государственной идеи и государственных учреждений. Поскольку Иван олицетворял государство, существование независимых политических или общественных учреждений было исключено. В этом отношении абсолютная власть царей отличалась от абсолютной власти западных правителей, так как монарх в католической Европе был связан законами, ограничивавшими его сферу действия, поэтому там могли зарождаться независимые институты.
И. де Мадариага, касаясь вопроса о таком учреждении как земский собор, адресует российским историкам упрек во внесении путаницы в вопрос о наличии в России XVI в. политических институтов. Дело в том, считает историк, что они используют понятия, не совсем соответствующие тем социальным явлениям, которые пытаются описать. Так, нередко говорится (Р.Г. Скрынников и др.) о существовании в России XVI столетия «аристократических корпораций»; можно подумать, продолжает И. де Мадариага, что речь идет об ассоциациях, координировавших действия юридически оформленных структур. В России таких организаций не было, поэтому они и не могли быть представленными в политических учреждениях. Земский собор не был избирательным органом и созывался от случая к случаю, пока перед страной не встала проблема пресечения династии, в связи с чем возникла необходимость выработки политической процедуры, чтобы узаконить порядок престолонаследия. Последняя оказалась пригодной, чтобы в условиях Смутного времени обеспечить прецедент для деятельности будущего Собора 1613 г. Столь же ошибочно считать представительным учреждением Боярскую думу (ее даже называли парламентом), поскольку ее задачей было не представительство интересов сословий, а рекомендации царю.
Царствование Ивана было периодом политического экспериментирования в России. Вначале царь пытался найти средства политического диалога с народом, созывая по тем или иным поводам разного рода совещания, то подражающие церковным соборам, то восходящие к вечевым традициям. Некоторые административные и юридические полномочия были передоверены представителям провинциальной элиты. Эпоха экспериментов закончилась опричниной и деспотизмом. Таким образом, правление Ивана помешало развитию политических учреждений в России и затормозило их рост. Способ проведения внешней политики также тормозил вступление России на равных в систему европейских государств. Неприятие умственных и духовных достижений эпохи Ренессанса и Реформации, отказ от изучения латыни и европейских языков ставили проведение международных переговоров в зависимость от посредников. Правда, наличие переводчиков с немецкого облегчало взаимоотношения со Священной Римской империей, что отчасти сближало ее с европейской культурой. В качестве наследия времен Византии сохранялись контакты с Востоком и татарским миром, а также с Османской империей и Балканами. Центральным вопросом внешней политики Ивана было признание его царского титула, причем его понимание было ограниченным и ориентированным на Запад, на обретение равного с западным императором статуса и не подразумевало главенства над другими народами. Это чисто династическое понимание, основанное на переходе власти по наследству, Иван использовал как доказательство принадлежности ему Ливонии как части вотчины, унаследованной от Рюрика, который, в свою очередь, был «потомком Пруса».
Долгие годы упорного противостояния на Балтике, с 1558 по 1582 г., и террор, свирепствовавший внутри страны, отняли у России духовную и умственную энергию, необходимую для широкого взаимодействия с развивающейся западной культурой и технологией. Последним ударом, который Иван нанес стране, было разрушение династии, причем в эпоху, когда династическая преемственность была главным залогом стабильности и благополучия страны. В результате устранения его двоюродного брата Владимира и случайного убийства своего бездетного старшего сына на престол вступил младший сын Федор, что несколько отсрочило катастрофу, но после того, как он умер бездетным, в 1598 г. впервые состоялось избрание нового царя. Вместе с выборным царем на арене появились самозванцы.
Обращаясь к вопросам менталитета, автор поднимает трудный вопрос о причинах кровожадности Ивана и о причинах народного долготерпения. Многочисленные послания царя, наставления, записанные речи дают богатый материал для анализа, который не следует воспринимать некритически. Почти не вызывает сомнения то, что сам царь не записывал их, а диктовал (что было в обычае той эпохи). Склад ума, выражения, набор пространных цитат из Библии и др. церковных источников убеждают, что это «не подделки XVII в.». Основополагающим в понимании Иваном его роли как царя является представление о том, что на нем лежит забота о вечном спасении рода, за которое он должен ответить в Судный день, по-русски именуемый более впечатляюще Страшным судом. Именно эта сторона деятельности царя волновала народ, который был склонен воспринимать царский суд как суд Божий. Соответственно опричнину И. де Мадариага считает уже «не средством проведения определенной политики (например, централизации) и борьбы против чего-то и кого-то; она была средством борьбы за что-то. Царь претендовал не столько на лавры военачальника, сколько на роль духовного лидера, соединявшего в себе божественное и человеческое начала, что позволяло ему с помощью божественного насилия заниматься очищением мира от греха» (с. 511). Такого рода самоотождествление Ивана с идеей священного насилия способствовало укоренению в нем веры в очистительную силу его жестокости, необходимой для избавления от греха самого царя и его народа. Твердое убеждение Ивана в том, что на него Богом возложен долг награждать и наказывать своих подданных, заставляло и их воспринимать покорность Богом избранному царю как святую обязанность и относиться к его приговорам как к приговорам Страшного суда.
Однако власть царя не была божественной и его жестокость была бессмысленной. Завершается книга монументальным библейским образом: Мадариага видит в Грозном Люцифера, мятежного Ангела, возжаждавшего стать Богом и свергнутого с небес, – точка зрения, восходящая к князю Курбскому и дьяку Ивану Тимофееву.
Т.М. Фадеева
Вопросы истории российского самодержавия в польской историографии
(Сводный реферат)
1. Хойницкая К. Царский титул в московской доктрине
Chojnicka K. Tytul carski w doktrynie moskiewskiej // Ustrуj i prawo w przeszlosci dalszej i blizszej: Studia historyczne o prawie dedykowane prof. Stanislawowi Grodziskiemu w piecdziesiata rocznice pracy naukowej / Pod. red. Malca J., Uruszczaka W. – Krakуw: Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego, 2001. – S. 117–129
2. Вежбицкий А. Грозные и Великие: Польская историческая мысль XIX и XX веков и российская деспотия. Wierzbicki A. Grozni i Wielcy: Polska mysl historyczna XIX i XX wieku wobec rosyjskiej despotii. – W-wa: Sic!, 2001. – 249 s
3. Зентара Б. Старая Россия: Деспотизм и демократия. Zientara B. Dawna Rosja: Despotyzm i demokracja. – W-wa: Wydaw. TRIO, 1995. – 159 s
Статья профессора Ягеллонского университета в Кракове д-ра К. Хойницкой (1), написанная на основе опубликованных официальных документов, писем и разноязычной историографии, посвящена значению царского титула в московской политической доктрине времен Ивана Грозного.
В 1547 г. великий князь Иван Васильевич был венчан на царство митрополитом Макарием в Успенском соборе Московского Кремля. По мнению автора, этот факт ознаменовал «появление на политической карте Европы новой существенной силы – Российской империи» (1, с. 117). Основной задачей последней было получение международного признания, но она столкнулась с рядом внешнеполитических трудностей. Так, например, правители польских и литовских земель из династии Ягеллонов были против принятия московскими князьями царского титула. Появление новой империи, с одной стороны, могло пошатнуть европейский порядок, с другой стороны, оживляло давний спор о том, есть ли в мире место для двух христианских императоров. Москва не желала быть наследницей Византии. Иван Грозный стремился к полноценному партнерству с западными правителями, но в то же время хотел занять в их рядах «особенную позицию» (1, с. 117). С этой точки зрения принятие Иваном IV титула царя вызвало непонимание Запада. Царский титул считался тогда русским аналогом титула «император», а также «указывал на особые культурные связи» (там же).
В историографической традиции принято отмечать, что государственная доктрина Московского царства опиралась на теорию монаха Филофея первой половины XVI в. Ее суть заключалась в том, что Москва является отмеченным в библейском пророчестве Даниила последним царством, «Третьим Римом», «а четвертого Рима не будет» (1, с. 118). Однако нет свидетельств, подтверждающих распространение этой теории в русском письменном наследии XVI в. Кроме того, ее суть не соответствовала политике московских правителей. Москва не имела цели оказывать вооруженное сопротивление угрожавшей Европе Турции, не желала реализовывать постановлений Ферраро-Флорентийского собора 1438–1445 гг. и признать верховенство Папы Римского над православной церковью. Безусловно, теория «Третьего Рима» отвечала восточной политике Российской империи в XIX в. и поэтому в то время ее стали признавать официальной государственной доктриной. Тем не менее ни письма Ивана IV, ни дипломатическая корреспонденция, ни официальные документы московских правителей не содержат информацию о том, что царский титул взят из легенды Филофея.
В русских источниках времен Ивана IV часто встречаются ссылки на «Рассказ о потомках Августа и дарах Мономаха», в котором содержится генеалогия Рюриковичей, берущая начало от римского императора Октавиана Августа. Согласно этому источнику, отношения Руси и Византии веками основывались на принципах равноправия и партнерства, что нашло свое отражение в передаче киевскому князю византийским императором следующих регалий: барм (наплечное царское одеяние) и так называемой шапки Мономаха. Легенда гласит, что император Август в 5457 г. посадил своего родственника Пруса на престол в г. Марборк (Морборок), что на берегах Вислы. Его потомком был Рюрик, которого пригласили на княжение жители Новгорода. От Рюрика происходили и князь Владимир, крестивший Русь, и Владимир Мономах. А получение последним от византийского императора шапки Мономаха и барм трактовалось как венчание на царство. В числе других даров византийского императора упоминается кубок, принадлежавший когда-то римскому императору. Все эти вещи, по мнению К. Хойницкой, были подарены Владимиру Мономаху в знак «признания мощи Руси и в страхе перед агрессией с ее стороны» (1, с. 119).
Главным аргументом принятия московским правителем царского титула во времена Ивана Грозного было то, что его предки веками владели русской землей. Однако автор считает этот аргумент неубедительным, поскольку на протяжении более 200 лет Русь была подчинена монголо-татарам (1, с. 120).
К. Хойницкая выделяет несколько видов аргументации, к которым прибегали московские князья, стремясь обосновать свои претензии на царский титул. Первый вид – это обращение к Библии с целью найти взаимосвязь между русской и всеобщей историей, а также доказать священность Московского царства. Библейский аргумент, подтверждающий тезис о том, что только царская власть гарантирует стабильность и силу государства, содержится в одном из писем Ивана Грозного к Андрею Курбскому. В нем он пишет, что Бог, освободивший из неволи евреев, не поставил над ними большое количество правителей, а дал им лишь одного Моисея в качестве царя (там же).
Другой вид аргументации касается легенды о происхождении русских правителей от римского императора Октавиана Августа. Иван IV постоянно подчеркивал связь Рюриковичей с Августом и связывал генеалогию этого рода с правами русской династии на царский титул, ведь Рюрик был полноправным властителем Новгорода, а также Киевского государства. Это утверждение вызвало возмущение поляков, которые в 1549 г. напоминали Ивану Грозному, что Киев находится не в Московском государстве, а входит в состав Великого княжества Литовского. Московская дипломатия, доказывая права своего князя на титул царя, говорила и о Владимире I, который принял христианство, что было равнозначно «возведению его на царский престол императором и патриархом» (1, с. 121). Среди аргументов называлась и связь Москвы с Константинополем в смысле «оказания почестей тем, кто исповедует христианство» (1, с. 122). Иван IV утверждал, что вера, которую приняли его предки, является «истинно христианской», а не «греческой», т.е. подчеркивал свое нежелание иметь отношение к Византийской империи (там же).
Иван Грозный также нередко писал о том, что литовско-польский род Ягеллонов стоит значительно ниже, чем династия Рюриковичей, происходящая от императора Августа. По одной из версий, предками правившего тогда в Речи Посполитой короля Сигизмунда Августа были Рохволодовичи, изгнанные из Полоцка сыном Владимира Мономаха Мстиславом. По другой версии, предком Ягеллонов был конюх Гегиминк, «раб» смоленского князя Витенеса. В этом можно усмотреть пропасть между княжеским домом Рюрика и «никчемной родословной литовских правителей Гедиминовичей, а также и властителей Польши» (1, с. 123). К этому следует добавить, что, согласно «Рассказу о потомках Августа и дарах Мономаха», Гедиминовичи получили княжеский титул благодаря женитьбе представителя этого рода Ольгерда на дочери тверского князя Юлиане. А позднее и Ягайло получил титул короля «по жене» (там же).
В поисках доказательств прав Рюриковичей на титул царя Иван Грозный и его дипломатия делали упор на покорение Казанского и Астраханского ханств, которые воспринимались как царства, что являлось еще одним аргументом наследования московским князем царского титула (1, с. 124). В Москве считали, что если господство над Польшей дало Ягайло титул короля, то владение Казанью и Астраханью сделает Ивана IV царем. Кроме того, существовала московская градация правителей, в которой значение «ниже царя» имели титулы польского короля, великого литовского князя, королей Англии, Швеции, Дании. Автор считает это проявлением традиционной русской системы «старшинства» и «местничества» (1, с. 126). Правда, польскому королю дозволялось называться «братом». «Братьями» считались также германский император и турецкий султан. «Братские отношения» с турецким султаном могли негативно сказаться на международном положении Руси, поскольку Запад видел ее членом антитурецкой коалиции. Но Иван IV в 1578 г. нашел объяснение этим отношениям, используя аргумент о «давности» правления: «…кроме нас и турецкого султана ни в одном государстве нет правителя, род которого властвовал бы непрерывно двести лет» (1, с. 126).
Такое количество аргументов говорит, по мнению автора, о том, что московские царские власти стремились «добиться равноправной позиции с державами Запада» (1, с. 128). Они не собирались составить ему конкуренцию, но и не желали, чтобы их считали наследниками Византии. По этой причине Иван Грозный не хотел обсуждать роль Москвы как опекунши православной церкви и пытался отречься от связей с Константинополем. Таким образом, во времена Ивана IV Россия ступила на международную арену, стремясь «стать полноправным членом семьи европейских государств…» (1, с. 129).
Исследования заведующего Отделом истории общественно-политической мысли Польской академии наук профессора А. Вежбицкого (2) и известного медиевиста, профессора Варшавского университета, д-ра Б. Зентары (3) посвящены различным проблемам истории самодержавия в России – от вопросов историографического характера до отдельных дискуссионных аспектов становления и развития монархической власти.
В монографии А. Вежбицкого «Грозные и Великие: Польская историческая мысль XIX и XX веков и российская деспотия» (2), состоящей из введения, трех глав и заключения, анализируются взгляды польских историков XIX – 30-х годов XX в. на генезис и характер российского самодержавия. Ее название «Грозные и Великие» отражает стремление польских исследователей-русистов выделить трех наиболее ярких представителей «российской автократии» – Ивана IV Грозного, Петра I Великого и Екатерину II Великую. Более того, автор полагает, что в Российском государстве только грозные правители могли стать великими (2, с. 7).
Цель работы Вежбицкого – «продемонстрировать вклад поляков в изучение России» (там же). В XVIII в. польские историки не могли свободно писать о Российской империи и ее правителях. Сначала царизм оказывал сильное влияние на внутреннюю жизнь Речи Посполитой, а в результате ее разделов занял значительную часть польской территории. Правда, в начале XIX в., т.е. во времена Княжества Варшавского, можно было «призывать к походу на “варваров”, которые, выведенные своим деспотом “из пещер Севера”, угрожали цивилизованной Европе» (2, с. 8). Россия отождествлялась тогда с деспотизмом, неволей и язычеством. Но уже через 10–15 лет, в реалиях царства Польского, где «российский деспот» был королем, такое стало невозможным. Монарха можно было только «чтить и хвалить» (2, с. 8). Поэтому критическое направление польской историографии развивалось в эмиграции.
Возрождение Польского государства в 1918 г. позволило его историкам более свободно высказываться о российской деспотии. Но в целом польская историческая мысль межвоенного периода развивалась в том же русле, что и в XIX в., «вне зависимости от того, остались ли воспоминания о поражениях при разделах и во время восстаний, были ли думы о закрепившей воскрешение Польши победе, одержанной в 1920 году над государством “красного царизма “» (2, с. 9).
Первая глава книги А. Вежбицкого посвящена развитию критического направления польской историографии 1810–1830-х годов. В 1818–1819 гг. вышел в свет трехтомный труд Юлиана Уршина Немцевича «История Сигизмунда III», в котором он критиковал московское царство XVI–XVII вв., чем возмутил российские власти. По его мнению, «москали» того времени составляли единое целое с татарами, обращенными в православие, и были далеки от цивилизованной Европы. Поэтому для них могла стать спасительной власть Дмитрия Самозванца, испытавшего «польское влияние» (2, с. 21). Но ощущение превосходства и пренебрежительное отношение к местному населению погубили его. Так «москали» «утратили возможность сблизиться с Западом, а Польша – овладеть Россией» (там же). После выхода в свет «Истории Сигизмунда III» Немцевича в царстве Польском «был учрежден институт цензуры» (2, с. 22).
В целом же в польской историографии первых десятилетий XIX в. развивались тенденции эпохи Просвещения, касающиеся типологизации форм власти и ее особенностей. Схема была проста: определенным формам власти в государствах соответствовали конкретные национальные или «племенные» черты. По мнению известного польского историка того времени Иоахима Лелевеля, «республики создавались народами с исключительно позитивными характерами, а деспотии – только с плохими» (2, с. 24). Однако Лелевель не указывал прямо «ни на царя, ни на русских, поскольку в тех условиях, в которых он преподавал в Вильно, это было невозможно» (2, с. 25). Тем не менее в его труде «История Литвы и Руси до унии с Польшей, заключенной в Люблине в 1569 г.» присутствуют утверждения антироссийского характера. И. Лелевель «ставил знак равенства между Россией и царизмом» (2, с. 31). А войны с Россией, которые Польша вела с XVI в., были «прежде всего войнами с деспотичной формой власти» (2, с. 30). Кроме того, по мнению Лелевеля, Россия нуждалась в «славизации», которая достижима только при свержении российского самовластия – «системы, абсолютно чуждой славянскому “племенному духу “» (там же).
Другой польский историк Маурыцы Мохнацкий, автор монографии «Восстание польского народа в 1830 и 1831 гг.» (1834), видел в царской власти «аннексионистскую систему». Более того, он считал, что аннексионистская политика – «это обязательное условие ее существования» (1, с. 31). Народ России, по его мнению, был настолько безграмотным и варварским, что получал удовлетворение от захватов и разделов и представлял собой не «общество», а «орудие» царизма (2, с. 32). Что же касается внутренней политики российских правителей, начиная с Петра I, то для нее была характерна «импровизация», «связанная с неограниченной властью царей» (2, с. 33). Под «имповизацией» Мохнацкий понимал проведение поверхностных реформ, о которых при этом «громко говорили», а также жесткую бесконтрольную политику, отождествлявшуюся с методом захвата власти путем дворцовых переворотов. Он обратил также внимание на повсеместное воровство и взяточничество в России. Кроме того, по его утверждению, нельзя было определить границы самовластия царя. Николай I, например, «мог перестать быть человеком, мог даже, если ему этого хотелось, провозгласить себя четвертым лицом в Троице и стать дьяволом своих подданных – никто во всей России не счел бы это за зло» (2, с. 35).
Во второй главе рассматривается влияние политических изменений в Речи Посполитой последней трети XVIII в. на формирование пророссийского направления польской исторической мысли. В конце XVIII – начале XIX в. термин «нация» был неотделим от понятия «государство». Поэтому после разделов Речи Посполитой польская нация осталась без «необходимого политического фундамента» (2, с. 105). Но в XIX в. довольно быстро произошло разделение вышеуказанных понятий, и поляки поняли, что народ может существовать и без собственной государственности. Судьба польского вопроса связывалась тогда с необходимостью признания гегемонии Российской империи, что изначально воспринималось как норма, поскольку Россия была государством «братского» славянского народа, а владелец большей части польских земель Александр I, казалось, решил «порвать с деспотичными традициями своих предшественников» (2, с. 106). Однако позднее выяснилось, что жесты и слова российского императора не будут воплощены в жизнь, и поляки не получат желаемой независимости. Некоторым польским мыслителям ситуация представлялась безвыходной. Так, исследователь из среды эмиграции Адам Гуровский указывал «на невозможность политического существования Польши, на совершенство России как государства, а также на необходимость признания ее гегемонии в славянском мире» (2, с. 108). Но все же в эмиграции преобладало критическое направление польской историографии, а в Польше историки в силу обстоятельств старались представить российский царизм как лучшее воплощение первых монархий в славянских странах. Исследователей особенно интересовала личность Петра Великого. Так, например, Адриан Кжижановский представлял Петра I как монарха, «посланного Богом» (2, с. 117). А Леон Рогальский, автор изданной в Варшаве в 1851 г. биографии Петра Великого, писал о «величии и гениальности» Петра I (2, с. 118).
Третья глава монографии посвящена вопросу о влиянии Октябрьской революции на представления польских историков о Российской империи. Автор задается вопросом о том, поверили ли русисты возрожденной Польши в «новую эпоху, которая принесет человечеству самую счастливую из возможных и при этом научно обоснованную форму существования» (2, с. 161). И отвечает, что не поверили. Они лишь писали о том, что империя является теперь не российской, а пролетарской, более того, она уже не совсем похожа на империю (там же).
Наиболее ярким представителем послереволюционной польской историографии был Ян Кухажевский, автор семитомного труда «От белого царизма к красному», посвященного истории России от конца правления Александра III до 1917 г. В нем Кухажевский писал, что царская система власти была «выражением “национально-государственной” мегаломании и ксенофобии» (2, с. 167). Об этом свидетельствовал тезис московской политической доктрины о том, что только российский царизм находится на страже «чистого» христианства, а «католицизм – это отступление от него и ересь» (там же). Пытаясь найти отличия царской России XVI–XIX вв. от Российской империи начала XX в., Кухажевский утверждал, что «составные части системы те же самые: сущность осталась прежней» (2, с. 170).
Другие польские историки межвоенного периода тоже выделяли негативные черты царизма и отдельных правителей России. Так, Владислав Конопчиньский сомневался в гениальности Петра Великого. В своей работе «Времена абсолютизма, 1648–1788» он писал, что гениями называют правителей, создавших что-то новое, оригинальное, масштабное, а Петр I «в этом отношении сделал немного» (2, с. 239). Еще один исследователь, Казимеж Тышковский, размышляя в 1924 г. об изданной в Советском Союзе книге Роберта Виппера, посвященной Ивану Грозному, отмечал следующее: «Вся симпатия автора находится на стороне самодержавия, которое для него является более демократичным, чем либерализм боярской аристократии; автор опускается даже до апологии тирании, имевшей опору в низших слоях общества. Трудно не заметить в этом сходства с сегодняшней Москвой» (2, с. 242).
В заключение А. Вежбицкий пишет, что «исторический путь России проходил от деспотизма к деспотизму (от белого до красного царизма)» (2, с. 243). А польские историки описывали конкретные черты той или иной эпохи. В целом для имперской России были характерны «агрессивность, всевластие», а также «милитаризация государственных структур, коррумпированная бюрократическая машина» и т.д. (там же). Что же касается «красного царизма», то появление этого понятия было связано с типичной для России формой правления – бесконтрольного самовластия. В то же время, как пишет автор, трудно понять, что сыграло решающую роль в становлении тоталитарного режима в стране – русские государственные традиции или заимствованная у Запада идеология марксизма (2, с. 248).
Монография Б. Зентары «Старая Россия: Деспотизм и демократия» (3) состоит из предисловия, написанного профессором Варшавского университета д-ром Б. Новаком, введения и пяти глав. В предисловии Б. Новак пишет, что книга Зентары «содержит сенсационные мысли и тезисы», «на каждой странице преобладают самостоятельные оценки» (3, с. 6). Сам автор во введении отмечает, что в данной монографии «представлен краткий очерк истории Древней Руси и появившихся после ее распада позднесредневековой России и России Нового времени – от начала государственности до формирования системы российского абсолютизма (самодержавия) в его новой форме в XVIII веке» (3, с. 9). Задача Зентары заключалась в том, чтобы «показать, как восточнославянское общество, изначально не отличавшееся составом, устройством и культурой от своих западнославянских собратьев, приобрело специфические черты, выражением которых была централизация государственной власти, абсолютным и бесконтрольным образом господствующей над низшими, да и всеми слоями населения» (там же).
В первой главе, посвященной домонгольскому периоду в истории России, Б. Зентара констатирует, что «судьбы восточной ветви славян складывались не так, как судьбы их западных собратьев» (2, с. 11). Восточные славяне расселились на землях, через которые перемещались кочевые народы тюркского происхождения. На их территориях в IX в. существовали племенные союзы во главе с князьями. На юге воевали друг с другом поляне, древляне и северяне, на севере наиболее сильным племенем были ильменские словене, совершавшие набеги на земли угро-финских племен. В том же IX в. на восточнославянских землях появились скандинавы, которых на Востоке называли варягами. В русских источниках под 862 г. значится призвание на княжение в Новгород Рюрика, вождя руссов (2, с. 18). Б. Зентара говорит о «шведском происхождении» этой группы варягов. Об этом, по его мнению, свидетельствует тот факт, что в современном финском языке шведы именуются словом «Ruotsi» (там же).
В то же время другая группа руссов под предводительством Аскольда и Дира заняла Киев и освободила киевлян от уплаты дани хазарам. Но в 882 г. новгородский князь Олег предпринял поход на Киев и захватил этот город, ставший центром объединенного восточнославянского государства. Власть в государстве передавалась по наследству в рамках династии Рюриковичей. На Западе оно воевало с Польшей, а на востоке «уничтожило Хазарский каганат, но столкнулось с сильным государством волжских болгар» (3, с. 25). Князья из рода Рюриковичей не обладали абсолютной властью, а были прежде всего «предводителями дружин, вождями и судьями» (3, с. 25). Каждый из княжеских сыновей имел право наследования земли, что создавало предпосылки к феодальной раздробленности.
Киевские князья старались упрочить свою власть. Самым известным из них был Владимир I (вел. кн. Киевский в 980– 1015 гг.), который в 988 г. принял христианство в качестве государственной религии, что усилило «византийское и болгарское культурные влияния» на Руси (2, с. 27). Но уже в XI в. выявились серьезные разногласия между Киевом и Новгородом. Росло значение Чернигова, Ростова, Суздаля. Попытки Владимира I и Ярослава Мудрого (вел. кн. Киевский в 1016–1018, 1018–1054 гг.) сохранить целостное государство не остановили братоубийственной борьбы между удельными князьями. В результате XII век принес Руси феодальную раздробленность. Однако Новгород процветал «благодаря посредничеству между русским севером и прибалтийскими землями» (3, с. 34). На юге же выделялись новые центры власти – Галич и Владимир-Волынский. В то время особенно серьезный ущерб наносили славянам половцы, которые, «постоянно угрожая столице, довели дело до обезлюдения старых территорий полян» (3, с. 36). Таким образом, в XII в. наметился распад страны на «Киевскую Русь (позднее – Украина), новую, живучую Залесскую Русь (колыбель более поздней России) и северо-западную территорию Великого Новгорода» (3, с. 37).
Во второй главе рассматривается монголо-татарское завоевание русских земель. В 1238–1241 гг. Русь подверглась набегам монголо-татар. Они «не только ускорили политический распад Руси и перенос главных центров ее экономической жизни, но и… наложили глубокий отпечаток на направление политического и культурного развития Руси» (3, с. 39). Даже контакты последней с Византией не могли сгладить «ее отрыв от Запада» (там же). Монгольское господство длилось приблизительно 200 лет, не меняя своего характера. Когда во второй половине XIII в. империя Чингисхана распалась, Русь оказалась под властью Золотой Орды. Но не все русские земли подверглись монголо-татарским набегам. Их не испытала северо-западная (новгородско-псковская) земля. Она сохранила свое экономико-политическое значение и контакты с Европой. А Червоная Русь, хоть и подвергалась набегам, но «благодаря политическому лавированию своих князей поддерживала экономические и культурные контакты с Западом, главным образом с Польшей и Венгрией» (3, с. 40). Однако в XIV в. (1340–1366) она была захвачена польским королем Казимиром Великим, вошла в состав Польского государства и, как следствие этого, оказалась в сфере влияния латинской культуры. Часть белорусских и украинских земель были освобождены от захватчиков правителями Литвы, которых «охотно приветствовали как освободителей от ненавистного ига» (3, с. 42). Такое разделение Руси на территории «под монголами», Польшей и Литвой углубило культурные различия между будущими восточнославянскими нациями – русскими, украинцами и белорусами (там же).
Новгород Великий не был захвачен татарами, хотя и платил дань. Во второй половине XIII в. существовала независимая Новгородская боярская республика, простиравшаяся до Белого моря, Северного Ледовитого океана и Урала. Высшим органом республики было вече, в котором принимали участие все свободные христиане. Судьбы государства решали бояре, купцы и представители высшего духовенства, но «в разные исторические моменты правом голоса обладали также новгородские ремесленники и городская беднота» (3, с. 48). Большим уважением пользовалось новгородское ополчение, которое победило шведов и крестоносцев, но с XIV в. «перестало принимать участие в войнах; в них были вовлечены небольшие княжеские дружины» (3, с. 54). В XV в. Новгород постиг упадок, начался голод из-за задержки поставок хлеба из Залесской земли Москвой. В 1456 г. великий князь московский Василий II Темный (1425–1462) разбил новгородцев под Руссой и «добился от них признания своего верховенства и отказа от самостоятельной внешней политики» (3, с. 57). В 1471 г. мятежный Новгород был разгромлен вторично Иваном III (1462–1505), сыном Василия II. Б. Зентара считает, что «уничтожение независимой Новгородской республики было важным шагом на пути к объединению» (там же). А ценой объединения «была новая модель государства, чуждая старорусским традициям, модель, отдавшая в руки власть имущих право безраздельно решать судьбы подданных» (3, с. 59).
В третьей главе автор продолжает анализировать монгольское завоевание Руси и рассматривает правление Ивана IV Грозного. Воевавшие друг с другом русские князья, признавшие вассальную зависимость от Золотой Орды, обращались за ярлыками и пропусками через золотоордынскую территорию в столицу Сарай, к хану, которого именовали «царем» (3, с. 61). Первым ярлык на великое княжение Владимирское получил один из владимирских князей[2 - Б. Зентара имеет в виду владимирского князя Ярослава Всеволодовича, признавшего зависимость от золотоордынского хана и получившего ярлык. – Прим. реф.]. Владимирские князья стали называться «Великими». Однако реальное превосходство князю давали «ярлык хана и возможность вызвать в любой момент татарские отряды» (3, с. 62).
Русские князья пытались контролировать друг друга и доносили в Орду о нелояльности своих соперников в отношении «хана-царя». Один из наиболее выдающихся князей Александр Невский, защитивший Новгород от крестоносцев, «возглавлял позднее как великий князь татарские карательные экспедиции и следил за сбором дани с Новгорода» (там же). В первой половине XIV в. великокняжеский титул достался тверским князьям, но уже в 1328 г. его получил московский князь Иван I Калита (1325– 1340). Используя полученные от хана полномочия, Иван Калита и его наследники пытались оказать давление на своих соседей с целью получения от них помощи при захвате новых территорий. Значение Москвы возросло и благодаря тому, что киевский митрополит в 20-х годах XIV в. избрал ее своей резиденцией. А союз московского князя с митрополитом «значительно упрочил авторитет правителя» (3, с. 64). Территория Московского княжества постепенно расширялась, а во второй половине XIV в. ослабленная внутренней борьбой Золотая Орда начала терять контроль над Русью. 8 сентября 1380 г. Дмитрий Донской разбил на Куликовом поле хана Мамая. Уже тогда Москва «собрала вокруг себя большую часть русских князей, даже тех, которые подчинялись Литве» (3, с. 67).
Однако только в 1480 г. Московская Русь была окончательно освобождена от вассальной зависимости от Золотой Орды. Правление Ивана III «было переломным моментом в формировании модели московской монархии» (3, с. 74). Он первым стал именоваться «Государем всея Руси», положил конец феодальной раздробленности, и Русь «оказалась в числе европейских государств, как неожиданный, но принятый с интересом, новый, равноценный партнер» (3, с. 76). После этого отношения с Москвой устанавливают папы римские, императоры европейских государств, венгерский король, германские князья. В 1472 г. Иван III женится на Софье Палеолог, племяннице последнего византийского императора. При сыне Ивана Василии III псковский монах Филофей создал теорию – «Москва – Третий Рим» – универсальной Москвы, которая после падения Древнего Рима и Константинополя «будет вечным Римом» (3, с. 78).
В окружении великого «князя-царя» созревала программа захвата земель, не принадлежавших ранее Руси. К этому окружению относились бояре и дружинники, некоторые из которых обладали передающимися по наследству имениями – вотчинами. Со времен Ивана III начал разрастаться конфликт между монархией и боярством. Монополизация государственных должностей и функций боярами «при все чаще встречавшейся у них некомпетентности должна была вызвать противодействие со стороны власти» (3, с. 82).
Уничтожения боярской монополии на власть добивались дворяне и близкие к ним владельцы вотчин, которых называли «боярскими детьми». Свои надежды они связывали с личностью царя Ивана IV (1530–1584). Детство последнего прошло в атмосфере борьбы боярских группировок за власть. Начало правления Ивана Грозного было успешным. После его венчания на царство в 1547 г., высоко поднявшего авторитет царя, при нем сложился совет из сторонников реформ – Избранная рада во главе с А. Адашевым и священником Сильвестром. В результате были проведены реформы администрации, армии, отменены кормления. Кроме того, были изданы Судебник 1550 г. (новый свод законов) и сборник решений Стоглавого собора 1551 г. «Стоглав». В 1550 и 1566 гг. созывался Земский собор – новый орган власти, занимавшийся решением важных государственных дел.
В 1560-е годы была образована опричнина – «полицейское государство в государстве» (3, с. 88). Б. Зентара полагает, что опричнина «служила царю для осуществления террористических акций на всей территории России» (там же). Так, например, в январе 1570 г. опричники выступили против подозревавшегося в участии в «заговоре» против царя Новгорода, где убили от 25 до 40 тыс. человек. Подобная участь постигла также другие города и села. Центральные районы страны были опустошены, крестьяне «бежали в степи на юго-восток или прятались в лесах на севере» (3, с. 89–90).
Политика централизации не означала, что Иван пытался учредить органы централизованного управления, подконтрольные центральному правительству и бюрократии: для этого недоставало грамотных кадров, а также правовых основ, необходимых для их подготовки. Эта политика, полагает автор, заключалась в «повсеместном насаждении представления о едином высшем и безоговорочном законодательном авторитете, наделяющем своих агентов функциями отправления правосудия, сбора поступлений и обороны, часто с использованием системы поруки» (с. 500). В этом собирании земель Иван был более удачлив, чем многие его современники в Европе. В России был один свод законов (Судебник 1550 г.), общая денежная единица, одна вера, единый набор мер и весов и общее военное командование. За 34 года царствования Ивану удалось в несколько раз расширить территорию, принадлежащую России, присоединив Казань и Астрахань и отодвинув границы заселенных и защищенных земель на юге. После присоединения Ерма-ком Сибирского ханства государство взяло в свои руки планомерное освоение западносибирских земель.
За 27 лет почти непрерывных войн русское войско подверглось реформированию, а его снабжение постоянно улучшалось, хотя это стоило напряжения сил всего населения. Автор отмечает быстрое разрастание сети укрепленных городов и крепостей, составивших обустроенные рубежи обороны от разбойничьих набегов крымцев. Однако для оплаты войн, опричнины, строительства укреплений на юге требовались немалые средства, и поборы росли. Посошные сборы на мирные цели в период с 1505 по 1584 г. выросли в денежном выражении с 2,16 до 6 руб., а на военные цели еще более. Известно, что вступив на престол, царь застал центральные и северо-восточные области России в цветущем состоянии, а оставил их в последние годы правления на грани полного разорения (с. 502). Причинами этого наряду с бедствиями обычными (войны, стихийные бедствия, голод и мор, крымские набеги, поборы) были и нововведения: рост поместной системы, лишавшей крестьян земли, изменение системы оплаты службы помещиков, переведенных с государственного жалования на самостоятельную эксплуатацию земель, обязанность выставлять вооруженных конных холопов на военную службу и опричное разорение. Все это за 25 лет довело страну до крайности, так что у нее не было ни людей, ни средств для продолжения Ливонской войны. Количество заброшенных хозяйств достигало в ряде случаев 90%. Жители бежали на Север, на восток, в Сибирь, на юг. Уделом оставшихся было закрепощение.
Произвол и жестокость царствования Ивана в сочетании с разрушительной практикой опричнины могли только отдалить торжество государственной идеи и государственных учреждений. Поскольку Иван олицетворял государство, существование независимых политических или общественных учреждений было исключено. В этом отношении абсолютная власть царей отличалась от абсолютной власти западных правителей, так как монарх в католической Европе был связан законами, ограничивавшими его сферу действия, поэтому там могли зарождаться независимые институты.
И. де Мадариага, касаясь вопроса о таком учреждении как земский собор, адресует российским историкам упрек во внесении путаницы в вопрос о наличии в России XVI в. политических институтов. Дело в том, считает историк, что они используют понятия, не совсем соответствующие тем социальным явлениям, которые пытаются описать. Так, нередко говорится (Р.Г. Скрынников и др.) о существовании в России XVI столетия «аристократических корпораций»; можно подумать, продолжает И. де Мадариага, что речь идет об ассоциациях, координировавших действия юридически оформленных структур. В России таких организаций не было, поэтому они и не могли быть представленными в политических учреждениях. Земский собор не был избирательным органом и созывался от случая к случаю, пока перед страной не встала проблема пресечения династии, в связи с чем возникла необходимость выработки политической процедуры, чтобы узаконить порядок престолонаследия. Последняя оказалась пригодной, чтобы в условиях Смутного времени обеспечить прецедент для деятельности будущего Собора 1613 г. Столь же ошибочно считать представительным учреждением Боярскую думу (ее даже называли парламентом), поскольку ее задачей было не представительство интересов сословий, а рекомендации царю.
Царствование Ивана было периодом политического экспериментирования в России. Вначале царь пытался найти средства политического диалога с народом, созывая по тем или иным поводам разного рода совещания, то подражающие церковным соборам, то восходящие к вечевым традициям. Некоторые административные и юридические полномочия были передоверены представителям провинциальной элиты. Эпоха экспериментов закончилась опричниной и деспотизмом. Таким образом, правление Ивана помешало развитию политических учреждений в России и затормозило их рост. Способ проведения внешней политики также тормозил вступление России на равных в систему европейских государств. Неприятие умственных и духовных достижений эпохи Ренессанса и Реформации, отказ от изучения латыни и европейских языков ставили проведение международных переговоров в зависимость от посредников. Правда, наличие переводчиков с немецкого облегчало взаимоотношения со Священной Римской империей, что отчасти сближало ее с европейской культурой. В качестве наследия времен Византии сохранялись контакты с Востоком и татарским миром, а также с Османской империей и Балканами. Центральным вопросом внешней политики Ивана было признание его царского титула, причем его понимание было ограниченным и ориентированным на Запад, на обретение равного с западным императором статуса и не подразумевало главенства над другими народами. Это чисто династическое понимание, основанное на переходе власти по наследству, Иван использовал как доказательство принадлежности ему Ливонии как части вотчины, унаследованной от Рюрика, который, в свою очередь, был «потомком Пруса».
Долгие годы упорного противостояния на Балтике, с 1558 по 1582 г., и террор, свирепствовавший внутри страны, отняли у России духовную и умственную энергию, необходимую для широкого взаимодействия с развивающейся западной культурой и технологией. Последним ударом, который Иван нанес стране, было разрушение династии, причем в эпоху, когда династическая преемственность была главным залогом стабильности и благополучия страны. В результате устранения его двоюродного брата Владимира и случайного убийства своего бездетного старшего сына на престол вступил младший сын Федор, что несколько отсрочило катастрофу, но после того, как он умер бездетным, в 1598 г. впервые состоялось избрание нового царя. Вместе с выборным царем на арене появились самозванцы.
Обращаясь к вопросам менталитета, автор поднимает трудный вопрос о причинах кровожадности Ивана и о причинах народного долготерпения. Многочисленные послания царя, наставления, записанные речи дают богатый материал для анализа, который не следует воспринимать некритически. Почти не вызывает сомнения то, что сам царь не записывал их, а диктовал (что было в обычае той эпохи). Склад ума, выражения, набор пространных цитат из Библии и др. церковных источников убеждают, что это «не подделки XVII в.». Основополагающим в понимании Иваном его роли как царя является представление о том, что на нем лежит забота о вечном спасении рода, за которое он должен ответить в Судный день, по-русски именуемый более впечатляюще Страшным судом. Именно эта сторона деятельности царя волновала народ, который был склонен воспринимать царский суд как суд Божий. Соответственно опричнину И. де Мадариага считает уже «не средством проведения определенной политики (например, централизации) и борьбы против чего-то и кого-то; она была средством борьбы за что-то. Царь претендовал не столько на лавры военачальника, сколько на роль духовного лидера, соединявшего в себе божественное и человеческое начала, что позволяло ему с помощью божественного насилия заниматься очищением мира от греха» (с. 511). Такого рода самоотождествление Ивана с идеей священного насилия способствовало укоренению в нем веры в очистительную силу его жестокости, необходимой для избавления от греха самого царя и его народа. Твердое убеждение Ивана в том, что на него Богом возложен долг награждать и наказывать своих подданных, заставляло и их воспринимать покорность Богом избранному царю как святую обязанность и относиться к его приговорам как к приговорам Страшного суда.
Однако власть царя не была божественной и его жестокость была бессмысленной. Завершается книга монументальным библейским образом: Мадариага видит в Грозном Люцифера, мятежного Ангела, возжаждавшего стать Богом и свергнутого с небес, – точка зрения, восходящая к князю Курбскому и дьяку Ивану Тимофееву.
Т.М. Фадеева
Вопросы истории российского самодержавия в польской историографии
(Сводный реферат)
1. Хойницкая К. Царский титул в московской доктрине
Chojnicka K. Tytul carski w doktrynie moskiewskiej // Ustrуj i prawo w przeszlosci dalszej i blizszej: Studia historyczne o prawie dedykowane prof. Stanislawowi Grodziskiemu w piecdziesiata rocznice pracy naukowej / Pod. red. Malca J., Uruszczaka W. – Krakуw: Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego, 2001. – S. 117–129
2. Вежбицкий А. Грозные и Великие: Польская историческая мысль XIX и XX веков и российская деспотия. Wierzbicki A. Grozni i Wielcy: Polska mysl historyczna XIX i XX wieku wobec rosyjskiej despotii. – W-wa: Sic!, 2001. – 249 s
3. Зентара Б. Старая Россия: Деспотизм и демократия. Zientara B. Dawna Rosja: Despotyzm i demokracja. – W-wa: Wydaw. TRIO, 1995. – 159 s
Статья профессора Ягеллонского университета в Кракове д-ра К. Хойницкой (1), написанная на основе опубликованных официальных документов, писем и разноязычной историографии, посвящена значению царского титула в московской политической доктрине времен Ивана Грозного.
В 1547 г. великий князь Иван Васильевич был венчан на царство митрополитом Макарием в Успенском соборе Московского Кремля. По мнению автора, этот факт ознаменовал «появление на политической карте Европы новой существенной силы – Российской империи» (1, с. 117). Основной задачей последней было получение международного признания, но она столкнулась с рядом внешнеполитических трудностей. Так, например, правители польских и литовских земель из династии Ягеллонов были против принятия московскими князьями царского титула. Появление новой империи, с одной стороны, могло пошатнуть европейский порядок, с другой стороны, оживляло давний спор о том, есть ли в мире место для двух христианских императоров. Москва не желала быть наследницей Византии. Иван Грозный стремился к полноценному партнерству с западными правителями, но в то же время хотел занять в их рядах «особенную позицию» (1, с. 117). С этой точки зрения принятие Иваном IV титула царя вызвало непонимание Запада. Царский титул считался тогда русским аналогом титула «император», а также «указывал на особые культурные связи» (там же).
В историографической традиции принято отмечать, что государственная доктрина Московского царства опиралась на теорию монаха Филофея первой половины XVI в. Ее суть заключалась в том, что Москва является отмеченным в библейском пророчестве Даниила последним царством, «Третьим Римом», «а четвертого Рима не будет» (1, с. 118). Однако нет свидетельств, подтверждающих распространение этой теории в русском письменном наследии XVI в. Кроме того, ее суть не соответствовала политике московских правителей. Москва не имела цели оказывать вооруженное сопротивление угрожавшей Европе Турции, не желала реализовывать постановлений Ферраро-Флорентийского собора 1438–1445 гг. и признать верховенство Папы Римского над православной церковью. Безусловно, теория «Третьего Рима» отвечала восточной политике Российской империи в XIX в. и поэтому в то время ее стали признавать официальной государственной доктриной. Тем не менее ни письма Ивана IV, ни дипломатическая корреспонденция, ни официальные документы московских правителей не содержат информацию о том, что царский титул взят из легенды Филофея.
В русских источниках времен Ивана IV часто встречаются ссылки на «Рассказ о потомках Августа и дарах Мономаха», в котором содержится генеалогия Рюриковичей, берущая начало от римского императора Октавиана Августа. Согласно этому источнику, отношения Руси и Византии веками основывались на принципах равноправия и партнерства, что нашло свое отражение в передаче киевскому князю византийским императором следующих регалий: барм (наплечное царское одеяние) и так называемой шапки Мономаха. Легенда гласит, что император Август в 5457 г. посадил своего родственника Пруса на престол в г. Марборк (Морборок), что на берегах Вислы. Его потомком был Рюрик, которого пригласили на княжение жители Новгорода. От Рюрика происходили и князь Владимир, крестивший Русь, и Владимир Мономах. А получение последним от византийского императора шапки Мономаха и барм трактовалось как венчание на царство. В числе других даров византийского императора упоминается кубок, принадлежавший когда-то римскому императору. Все эти вещи, по мнению К. Хойницкой, были подарены Владимиру Мономаху в знак «признания мощи Руси и в страхе перед агрессией с ее стороны» (1, с. 119).
Главным аргументом принятия московским правителем царского титула во времена Ивана Грозного было то, что его предки веками владели русской землей. Однако автор считает этот аргумент неубедительным, поскольку на протяжении более 200 лет Русь была подчинена монголо-татарам (1, с. 120).
К. Хойницкая выделяет несколько видов аргументации, к которым прибегали московские князья, стремясь обосновать свои претензии на царский титул. Первый вид – это обращение к Библии с целью найти взаимосвязь между русской и всеобщей историей, а также доказать священность Московского царства. Библейский аргумент, подтверждающий тезис о том, что только царская власть гарантирует стабильность и силу государства, содержится в одном из писем Ивана Грозного к Андрею Курбскому. В нем он пишет, что Бог, освободивший из неволи евреев, не поставил над ними большое количество правителей, а дал им лишь одного Моисея в качестве царя (там же).
Другой вид аргументации касается легенды о происхождении русских правителей от римского императора Октавиана Августа. Иван IV постоянно подчеркивал связь Рюриковичей с Августом и связывал генеалогию этого рода с правами русской династии на царский титул, ведь Рюрик был полноправным властителем Новгорода, а также Киевского государства. Это утверждение вызвало возмущение поляков, которые в 1549 г. напоминали Ивану Грозному, что Киев находится не в Московском государстве, а входит в состав Великого княжества Литовского. Московская дипломатия, доказывая права своего князя на титул царя, говорила и о Владимире I, который принял христианство, что было равнозначно «возведению его на царский престол императором и патриархом» (1, с. 121). Среди аргументов называлась и связь Москвы с Константинополем в смысле «оказания почестей тем, кто исповедует христианство» (1, с. 122). Иван IV утверждал, что вера, которую приняли его предки, является «истинно христианской», а не «греческой», т.е. подчеркивал свое нежелание иметь отношение к Византийской империи (там же).
Иван Грозный также нередко писал о том, что литовско-польский род Ягеллонов стоит значительно ниже, чем династия Рюриковичей, происходящая от императора Августа. По одной из версий, предками правившего тогда в Речи Посполитой короля Сигизмунда Августа были Рохволодовичи, изгнанные из Полоцка сыном Владимира Мономаха Мстиславом. По другой версии, предком Ягеллонов был конюх Гегиминк, «раб» смоленского князя Витенеса. В этом можно усмотреть пропасть между княжеским домом Рюрика и «никчемной родословной литовских правителей Гедиминовичей, а также и властителей Польши» (1, с. 123). К этому следует добавить, что, согласно «Рассказу о потомках Августа и дарах Мономаха», Гедиминовичи получили княжеский титул благодаря женитьбе представителя этого рода Ольгерда на дочери тверского князя Юлиане. А позднее и Ягайло получил титул короля «по жене» (там же).
В поисках доказательств прав Рюриковичей на титул царя Иван Грозный и его дипломатия делали упор на покорение Казанского и Астраханского ханств, которые воспринимались как царства, что являлось еще одним аргументом наследования московским князем царского титула (1, с. 124). В Москве считали, что если господство над Польшей дало Ягайло титул короля, то владение Казанью и Астраханью сделает Ивана IV царем. Кроме того, существовала московская градация правителей, в которой значение «ниже царя» имели титулы польского короля, великого литовского князя, королей Англии, Швеции, Дании. Автор считает это проявлением традиционной русской системы «старшинства» и «местничества» (1, с. 126). Правда, польскому королю дозволялось называться «братом». «Братьями» считались также германский император и турецкий султан. «Братские отношения» с турецким султаном могли негативно сказаться на международном положении Руси, поскольку Запад видел ее членом антитурецкой коалиции. Но Иван IV в 1578 г. нашел объяснение этим отношениям, используя аргумент о «давности» правления: «…кроме нас и турецкого султана ни в одном государстве нет правителя, род которого властвовал бы непрерывно двести лет» (1, с. 126).
Такое количество аргументов говорит, по мнению автора, о том, что московские царские власти стремились «добиться равноправной позиции с державами Запада» (1, с. 128). Они не собирались составить ему конкуренцию, но и не желали, чтобы их считали наследниками Византии. По этой причине Иван Грозный не хотел обсуждать роль Москвы как опекунши православной церкви и пытался отречься от связей с Константинополем. Таким образом, во времена Ивана IV Россия ступила на международную арену, стремясь «стать полноправным членом семьи европейских государств…» (1, с. 129).
Исследования заведующего Отделом истории общественно-политической мысли Польской академии наук профессора А. Вежбицкого (2) и известного медиевиста, профессора Варшавского университета, д-ра Б. Зентары (3) посвящены различным проблемам истории самодержавия в России – от вопросов историографического характера до отдельных дискуссионных аспектов становления и развития монархической власти.
В монографии А. Вежбицкого «Грозные и Великие: Польская историческая мысль XIX и XX веков и российская деспотия» (2), состоящей из введения, трех глав и заключения, анализируются взгляды польских историков XIX – 30-х годов XX в. на генезис и характер российского самодержавия. Ее название «Грозные и Великие» отражает стремление польских исследователей-русистов выделить трех наиболее ярких представителей «российской автократии» – Ивана IV Грозного, Петра I Великого и Екатерину II Великую. Более того, автор полагает, что в Российском государстве только грозные правители могли стать великими (2, с. 7).
Цель работы Вежбицкого – «продемонстрировать вклад поляков в изучение России» (там же). В XVIII в. польские историки не могли свободно писать о Российской империи и ее правителях. Сначала царизм оказывал сильное влияние на внутреннюю жизнь Речи Посполитой, а в результате ее разделов занял значительную часть польской территории. Правда, в начале XIX в., т.е. во времена Княжества Варшавского, можно было «призывать к походу на “варваров”, которые, выведенные своим деспотом “из пещер Севера”, угрожали цивилизованной Европе» (2, с. 8). Россия отождествлялась тогда с деспотизмом, неволей и язычеством. Но уже через 10–15 лет, в реалиях царства Польского, где «российский деспот» был королем, такое стало невозможным. Монарха можно было только «чтить и хвалить» (2, с. 8). Поэтому критическое направление польской историографии развивалось в эмиграции.
Возрождение Польского государства в 1918 г. позволило его историкам более свободно высказываться о российской деспотии. Но в целом польская историческая мысль межвоенного периода развивалась в том же русле, что и в XIX в., «вне зависимости от того, остались ли воспоминания о поражениях при разделах и во время восстаний, были ли думы о закрепившей воскрешение Польши победе, одержанной в 1920 году над государством “красного царизма “» (2, с. 9).
Первая глава книги А. Вежбицкого посвящена развитию критического направления польской историографии 1810–1830-х годов. В 1818–1819 гг. вышел в свет трехтомный труд Юлиана Уршина Немцевича «История Сигизмунда III», в котором он критиковал московское царство XVI–XVII вв., чем возмутил российские власти. По его мнению, «москали» того времени составляли единое целое с татарами, обращенными в православие, и были далеки от цивилизованной Европы. Поэтому для них могла стать спасительной власть Дмитрия Самозванца, испытавшего «польское влияние» (2, с. 21). Но ощущение превосходства и пренебрежительное отношение к местному населению погубили его. Так «москали» «утратили возможность сблизиться с Западом, а Польша – овладеть Россией» (там же). После выхода в свет «Истории Сигизмунда III» Немцевича в царстве Польском «был учрежден институт цензуры» (2, с. 22).
В целом же в польской историографии первых десятилетий XIX в. развивались тенденции эпохи Просвещения, касающиеся типологизации форм власти и ее особенностей. Схема была проста: определенным формам власти в государствах соответствовали конкретные национальные или «племенные» черты. По мнению известного польского историка того времени Иоахима Лелевеля, «республики создавались народами с исключительно позитивными характерами, а деспотии – только с плохими» (2, с. 24). Однако Лелевель не указывал прямо «ни на царя, ни на русских, поскольку в тех условиях, в которых он преподавал в Вильно, это было невозможно» (2, с. 25). Тем не менее в его труде «История Литвы и Руси до унии с Польшей, заключенной в Люблине в 1569 г.» присутствуют утверждения антироссийского характера. И. Лелевель «ставил знак равенства между Россией и царизмом» (2, с. 31). А войны с Россией, которые Польша вела с XVI в., были «прежде всего войнами с деспотичной формой власти» (2, с. 30). Кроме того, по мнению Лелевеля, Россия нуждалась в «славизации», которая достижима только при свержении российского самовластия – «системы, абсолютно чуждой славянскому “племенному духу “» (там же).
Другой польский историк Маурыцы Мохнацкий, автор монографии «Восстание польского народа в 1830 и 1831 гг.» (1834), видел в царской власти «аннексионистскую систему». Более того, он считал, что аннексионистская политика – «это обязательное условие ее существования» (1, с. 31). Народ России, по его мнению, был настолько безграмотным и варварским, что получал удовлетворение от захватов и разделов и представлял собой не «общество», а «орудие» царизма (2, с. 32). Что же касается внутренней политики российских правителей, начиная с Петра I, то для нее была характерна «импровизация», «связанная с неограниченной властью царей» (2, с. 33). Под «имповизацией» Мохнацкий понимал проведение поверхностных реформ, о которых при этом «громко говорили», а также жесткую бесконтрольную политику, отождествлявшуюся с методом захвата власти путем дворцовых переворотов. Он обратил также внимание на повсеместное воровство и взяточничество в России. Кроме того, по его утверждению, нельзя было определить границы самовластия царя. Николай I, например, «мог перестать быть человеком, мог даже, если ему этого хотелось, провозгласить себя четвертым лицом в Троице и стать дьяволом своих подданных – никто во всей России не счел бы это за зло» (2, с. 35).
Во второй главе рассматривается влияние политических изменений в Речи Посполитой последней трети XVIII в. на формирование пророссийского направления польской исторической мысли. В конце XVIII – начале XIX в. термин «нация» был неотделим от понятия «государство». Поэтому после разделов Речи Посполитой польская нация осталась без «необходимого политического фундамента» (2, с. 105). Но в XIX в. довольно быстро произошло разделение вышеуказанных понятий, и поляки поняли, что народ может существовать и без собственной государственности. Судьба польского вопроса связывалась тогда с необходимостью признания гегемонии Российской империи, что изначально воспринималось как норма, поскольку Россия была государством «братского» славянского народа, а владелец большей части польских земель Александр I, казалось, решил «порвать с деспотичными традициями своих предшественников» (2, с. 106). Однако позднее выяснилось, что жесты и слова российского императора не будут воплощены в жизнь, и поляки не получат желаемой независимости. Некоторым польским мыслителям ситуация представлялась безвыходной. Так, исследователь из среды эмиграции Адам Гуровский указывал «на невозможность политического существования Польши, на совершенство России как государства, а также на необходимость признания ее гегемонии в славянском мире» (2, с. 108). Но все же в эмиграции преобладало критическое направление польской историографии, а в Польше историки в силу обстоятельств старались представить российский царизм как лучшее воплощение первых монархий в славянских странах. Исследователей особенно интересовала личность Петра Великого. Так, например, Адриан Кжижановский представлял Петра I как монарха, «посланного Богом» (2, с. 117). А Леон Рогальский, автор изданной в Варшаве в 1851 г. биографии Петра Великого, писал о «величии и гениальности» Петра I (2, с. 118).
Третья глава монографии посвящена вопросу о влиянии Октябрьской революции на представления польских историков о Российской империи. Автор задается вопросом о том, поверили ли русисты возрожденной Польши в «новую эпоху, которая принесет человечеству самую счастливую из возможных и при этом научно обоснованную форму существования» (2, с. 161). И отвечает, что не поверили. Они лишь писали о том, что империя является теперь не российской, а пролетарской, более того, она уже не совсем похожа на империю (там же).
Наиболее ярким представителем послереволюционной польской историографии был Ян Кухажевский, автор семитомного труда «От белого царизма к красному», посвященного истории России от конца правления Александра III до 1917 г. В нем Кухажевский писал, что царская система власти была «выражением “национально-государственной” мегаломании и ксенофобии» (2, с. 167). Об этом свидетельствовал тезис московской политической доктрины о том, что только российский царизм находится на страже «чистого» христианства, а «католицизм – это отступление от него и ересь» (там же). Пытаясь найти отличия царской России XVI–XIX вв. от Российской империи начала XX в., Кухажевский утверждал, что «составные части системы те же самые: сущность осталась прежней» (2, с. 170).
Другие польские историки межвоенного периода тоже выделяли негативные черты царизма и отдельных правителей России. Так, Владислав Конопчиньский сомневался в гениальности Петра Великого. В своей работе «Времена абсолютизма, 1648–1788» он писал, что гениями называют правителей, создавших что-то новое, оригинальное, масштабное, а Петр I «в этом отношении сделал немного» (2, с. 239). Еще один исследователь, Казимеж Тышковский, размышляя в 1924 г. об изданной в Советском Союзе книге Роберта Виппера, посвященной Ивану Грозному, отмечал следующее: «Вся симпатия автора находится на стороне самодержавия, которое для него является более демократичным, чем либерализм боярской аристократии; автор опускается даже до апологии тирании, имевшей опору в низших слоях общества. Трудно не заметить в этом сходства с сегодняшней Москвой» (2, с. 242).
В заключение А. Вежбицкий пишет, что «исторический путь России проходил от деспотизма к деспотизму (от белого до красного царизма)» (2, с. 243). А польские историки описывали конкретные черты той или иной эпохи. В целом для имперской России были характерны «агрессивность, всевластие», а также «милитаризация государственных структур, коррумпированная бюрократическая машина» и т.д. (там же). Что же касается «красного царизма», то появление этого понятия было связано с типичной для России формой правления – бесконтрольного самовластия. В то же время, как пишет автор, трудно понять, что сыграло решающую роль в становлении тоталитарного режима в стране – русские государственные традиции или заимствованная у Запада идеология марксизма (2, с. 248).
Монография Б. Зентары «Старая Россия: Деспотизм и демократия» (3) состоит из предисловия, написанного профессором Варшавского университета д-ром Б. Новаком, введения и пяти глав. В предисловии Б. Новак пишет, что книга Зентары «содержит сенсационные мысли и тезисы», «на каждой странице преобладают самостоятельные оценки» (3, с. 6). Сам автор во введении отмечает, что в данной монографии «представлен краткий очерк истории Древней Руси и появившихся после ее распада позднесредневековой России и России Нового времени – от начала государственности до формирования системы российского абсолютизма (самодержавия) в его новой форме в XVIII веке» (3, с. 9). Задача Зентары заключалась в том, чтобы «показать, как восточнославянское общество, изначально не отличавшееся составом, устройством и культурой от своих западнославянских собратьев, приобрело специфические черты, выражением которых была централизация государственной власти, абсолютным и бесконтрольным образом господствующей над низшими, да и всеми слоями населения» (там же).
В первой главе, посвященной домонгольскому периоду в истории России, Б. Зентара констатирует, что «судьбы восточной ветви славян складывались не так, как судьбы их западных собратьев» (2, с. 11). Восточные славяне расселились на землях, через которые перемещались кочевые народы тюркского происхождения. На их территориях в IX в. существовали племенные союзы во главе с князьями. На юге воевали друг с другом поляне, древляне и северяне, на севере наиболее сильным племенем были ильменские словене, совершавшие набеги на земли угро-финских племен. В том же IX в. на восточнославянских землях появились скандинавы, которых на Востоке называли варягами. В русских источниках под 862 г. значится призвание на княжение в Новгород Рюрика, вождя руссов (2, с. 18). Б. Зентара говорит о «шведском происхождении» этой группы варягов. Об этом, по его мнению, свидетельствует тот факт, что в современном финском языке шведы именуются словом «Ruotsi» (там же).
В то же время другая группа руссов под предводительством Аскольда и Дира заняла Киев и освободила киевлян от уплаты дани хазарам. Но в 882 г. новгородский князь Олег предпринял поход на Киев и захватил этот город, ставший центром объединенного восточнославянского государства. Власть в государстве передавалась по наследству в рамках династии Рюриковичей. На Западе оно воевало с Польшей, а на востоке «уничтожило Хазарский каганат, но столкнулось с сильным государством волжских болгар» (3, с. 25). Князья из рода Рюриковичей не обладали абсолютной властью, а были прежде всего «предводителями дружин, вождями и судьями» (3, с. 25). Каждый из княжеских сыновей имел право наследования земли, что создавало предпосылки к феодальной раздробленности.
Киевские князья старались упрочить свою власть. Самым известным из них был Владимир I (вел. кн. Киевский в 980– 1015 гг.), который в 988 г. принял христианство в качестве государственной религии, что усилило «византийское и болгарское культурные влияния» на Руси (2, с. 27). Но уже в XI в. выявились серьезные разногласия между Киевом и Новгородом. Росло значение Чернигова, Ростова, Суздаля. Попытки Владимира I и Ярослава Мудрого (вел. кн. Киевский в 1016–1018, 1018–1054 гг.) сохранить целостное государство не остановили братоубийственной борьбы между удельными князьями. В результате XII век принес Руси феодальную раздробленность. Однако Новгород процветал «благодаря посредничеству между русским севером и прибалтийскими землями» (3, с. 34). На юге же выделялись новые центры власти – Галич и Владимир-Волынский. В то время особенно серьезный ущерб наносили славянам половцы, которые, «постоянно угрожая столице, довели дело до обезлюдения старых территорий полян» (3, с. 36). Таким образом, в XII в. наметился распад страны на «Киевскую Русь (позднее – Украина), новую, живучую Залесскую Русь (колыбель более поздней России) и северо-западную территорию Великого Новгорода» (3, с. 37).
Во второй главе рассматривается монголо-татарское завоевание русских земель. В 1238–1241 гг. Русь подверглась набегам монголо-татар. Они «не только ускорили политический распад Руси и перенос главных центров ее экономической жизни, но и… наложили глубокий отпечаток на направление политического и культурного развития Руси» (3, с. 39). Даже контакты последней с Византией не могли сгладить «ее отрыв от Запада» (там же). Монгольское господство длилось приблизительно 200 лет, не меняя своего характера. Когда во второй половине XIII в. империя Чингисхана распалась, Русь оказалась под властью Золотой Орды. Но не все русские земли подверглись монголо-татарским набегам. Их не испытала северо-западная (новгородско-псковская) земля. Она сохранила свое экономико-политическое значение и контакты с Европой. А Червоная Русь, хоть и подвергалась набегам, но «благодаря политическому лавированию своих князей поддерживала экономические и культурные контакты с Западом, главным образом с Польшей и Венгрией» (3, с. 40). Однако в XIV в. (1340–1366) она была захвачена польским королем Казимиром Великим, вошла в состав Польского государства и, как следствие этого, оказалась в сфере влияния латинской культуры. Часть белорусских и украинских земель были освобождены от захватчиков правителями Литвы, которых «охотно приветствовали как освободителей от ненавистного ига» (3, с. 42). Такое разделение Руси на территории «под монголами», Польшей и Литвой углубило культурные различия между будущими восточнославянскими нациями – русскими, украинцами и белорусами (там же).
Новгород Великий не был захвачен татарами, хотя и платил дань. Во второй половине XIII в. существовала независимая Новгородская боярская республика, простиравшаяся до Белого моря, Северного Ледовитого океана и Урала. Высшим органом республики было вече, в котором принимали участие все свободные христиане. Судьбы государства решали бояре, купцы и представители высшего духовенства, но «в разные исторические моменты правом голоса обладали также новгородские ремесленники и городская беднота» (3, с. 48). Большим уважением пользовалось новгородское ополчение, которое победило шведов и крестоносцев, но с XIV в. «перестало принимать участие в войнах; в них были вовлечены небольшие княжеские дружины» (3, с. 54). В XV в. Новгород постиг упадок, начался голод из-за задержки поставок хлеба из Залесской земли Москвой. В 1456 г. великий князь московский Василий II Темный (1425–1462) разбил новгородцев под Руссой и «добился от них признания своего верховенства и отказа от самостоятельной внешней политики» (3, с. 57). В 1471 г. мятежный Новгород был разгромлен вторично Иваном III (1462–1505), сыном Василия II. Б. Зентара считает, что «уничтожение независимой Новгородской республики было важным шагом на пути к объединению» (там же). А ценой объединения «была новая модель государства, чуждая старорусским традициям, модель, отдавшая в руки власть имущих право безраздельно решать судьбы подданных» (3, с. 59).
В третьей главе автор продолжает анализировать монгольское завоевание Руси и рассматривает правление Ивана IV Грозного. Воевавшие друг с другом русские князья, признавшие вассальную зависимость от Золотой Орды, обращались за ярлыками и пропусками через золотоордынскую территорию в столицу Сарай, к хану, которого именовали «царем» (3, с. 61). Первым ярлык на великое княжение Владимирское получил один из владимирских князей[2 - Б. Зентара имеет в виду владимирского князя Ярослава Всеволодовича, признавшего зависимость от золотоордынского хана и получившего ярлык. – Прим. реф.]. Владимирские князья стали называться «Великими». Однако реальное превосходство князю давали «ярлык хана и возможность вызвать в любой момент татарские отряды» (3, с. 62).
Русские князья пытались контролировать друг друга и доносили в Орду о нелояльности своих соперников в отношении «хана-царя». Один из наиболее выдающихся князей Александр Невский, защитивший Новгород от крестоносцев, «возглавлял позднее как великий князь татарские карательные экспедиции и следил за сбором дани с Новгорода» (там же). В первой половине XIV в. великокняжеский титул достался тверским князьям, но уже в 1328 г. его получил московский князь Иван I Калита (1325– 1340). Используя полученные от хана полномочия, Иван Калита и его наследники пытались оказать давление на своих соседей с целью получения от них помощи при захвате новых территорий. Значение Москвы возросло и благодаря тому, что киевский митрополит в 20-х годах XIV в. избрал ее своей резиденцией. А союз московского князя с митрополитом «значительно упрочил авторитет правителя» (3, с. 64). Территория Московского княжества постепенно расширялась, а во второй половине XIV в. ослабленная внутренней борьбой Золотая Орда начала терять контроль над Русью. 8 сентября 1380 г. Дмитрий Донской разбил на Куликовом поле хана Мамая. Уже тогда Москва «собрала вокруг себя большую часть русских князей, даже тех, которые подчинялись Литве» (3, с. 67).
Однако только в 1480 г. Московская Русь была окончательно освобождена от вассальной зависимости от Золотой Орды. Правление Ивана III «было переломным моментом в формировании модели московской монархии» (3, с. 74). Он первым стал именоваться «Государем всея Руси», положил конец феодальной раздробленности, и Русь «оказалась в числе европейских государств, как неожиданный, но принятый с интересом, новый, равноценный партнер» (3, с. 76). После этого отношения с Москвой устанавливают папы римские, императоры европейских государств, венгерский король, германские князья. В 1472 г. Иван III женится на Софье Палеолог, племяннице последнего византийского императора. При сыне Ивана Василии III псковский монах Филофей создал теорию – «Москва – Третий Рим» – универсальной Москвы, которая после падения Древнего Рима и Константинополя «будет вечным Римом» (3, с. 78).
В окружении великого «князя-царя» созревала программа захвата земель, не принадлежавших ранее Руси. К этому окружению относились бояре и дружинники, некоторые из которых обладали передающимися по наследству имениями – вотчинами. Со времен Ивана III начал разрастаться конфликт между монархией и боярством. Монополизация государственных должностей и функций боярами «при все чаще встречавшейся у них некомпетентности должна была вызвать противодействие со стороны власти» (3, с. 82).
Уничтожения боярской монополии на власть добивались дворяне и близкие к ним владельцы вотчин, которых называли «боярскими детьми». Свои надежды они связывали с личностью царя Ивана IV (1530–1584). Детство последнего прошло в атмосфере борьбы боярских группировок за власть. Начало правления Ивана Грозного было успешным. После его венчания на царство в 1547 г., высоко поднявшего авторитет царя, при нем сложился совет из сторонников реформ – Избранная рада во главе с А. Адашевым и священником Сильвестром. В результате были проведены реформы администрации, армии, отменены кормления. Кроме того, были изданы Судебник 1550 г. (новый свод законов) и сборник решений Стоглавого собора 1551 г. «Стоглав». В 1550 и 1566 гг. созывался Земский собор – новый орган власти, занимавшийся решением важных государственных дел.
В 1560-е годы была образована опричнина – «полицейское государство в государстве» (3, с. 88). Б. Зентара полагает, что опричнина «служила царю для осуществления террористических акций на всей территории России» (там же). Так, например, в январе 1570 г. опричники выступили против подозревавшегося в участии в «заговоре» против царя Новгорода, где убили от 25 до 40 тыс. человек. Подобная участь постигла также другие города и села. Центральные районы страны были опустошены, крестьяне «бежали в степи на юго-восток или прятались в лесах на севере» (3, с. 89–90).