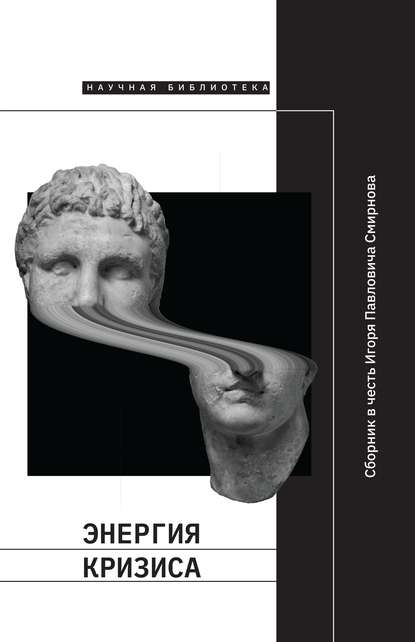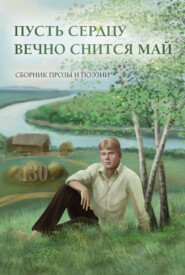По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Энергия кризиса
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Текст «Египетских ночей» оказывается еще более сложным, если рассмотреть его уровни аукторальной рефлексии. В портрет Чарского входят некоторые пассажи из «Отрывка» (1830). В последнем саркастически описана социальная незначительность стихотворца – публика смотрит на поэта как на свою собственность. Знатный, но испытывающий постоянную нужду в средствах «приятель», чертами которого наделяется фигура Чарского, избегает своих коллег-литераторов, «кроме весьма, весьма немногих» (это уточнение, отсылающее к Жуковскому, Пушкин впоследствии вычеркнул), предпочитает им общество женщин и светских людей, поскольку они избавляют его от разговоров о его сочинениях. Моменты истинного счастья он переживает, только когда на него находит вдохновение. Образу «приятеля» – а затем и Чарского, Пушкин явно придал автобиографические черты.
Еще большая парадоксальность, чем образу Чарского, свойственна безымянному итальянцу-импровизатору, который к тому же читает стихи самого Пушкина. Чарский изумлен и потрясен его талантом, но итальянец выказывает столь «дикую жадность», что разговор о поэзии становится невозможен. Вначале эти две фигуры выступают в открытой оппозиции, которая подчеркивается в частности костюмом: один – богатый аристократ и денди, для которого поэзия стала личной страстью, другой бедняк, одетый как фигляр, он не умеет держаться в обществе и зарабатывает на жизнь своими выступлениями, подобно тому как Пушкин зарабатывал изданием своих сочинений. Их роли в процессе импровизации опять-таки комплементарны, ведь темы в обоих случаях задает Чарский, поэт, чьи стихи мы так и не услышали.
Однако отношение оппозиции последовательно разрушается. Если вначале итальянец вызывает у Чарского досаду и негодование, то после первой импровизации Чарский называет его «поэтом» и открыто им восхищается. Импровизатор наделен чертами гения, которые не лишены того восхищения, которое у Пушкина когда-то вызвал импровизатор Мицкевич. Решающе важным, однако, остается то, что на обе фигуры проецируется автобиографический дискурс о поэте и поэзии. Импровизациями прикрыты два аспекта размышлений Пушкина о себе и собственном творчестве – романтическая реминисценция и романтическая концепция поэта. Ответственность как за первую, так и за вторую возлагается на то, что понимается как ложное, и контаминирована с темой денег. Чарскому тема денег чужда, и в этом плане он свободен от автобиографических черт. Текст, своего рода метафикциональная шарада, во многом основан на автобиографических моментах; с помощью кунштюков заезжего импровизатора, жаждущего денег и успеха у публики, показаны, а вернее сказать – завуалированы пушкинская поэтология и рефлексия явлений постромантизма. Фигуры двух поэтов могут быть поняты только как разделенный надвое романтический образ поэта. Инсценированная противоречивость бытия поэта уже не вписывается в романтическую, продуктивную, незамкнутую форму парадоксального. Если Чарский «молча был поэт», избегающий публики, то «романтический» импровизатор – меркантильный фигляр и забава для публики. Адекватный образ поэта из этих фигур уже невозможно синтезировать.
Пушкинская вспомогательная конструкция – пишу для себя, печатаю для денег – здесь развенчана как иллюзия; неразрешимость этого вопроса становится проблемой эпохи. Две фигуры поэтов вместе составляют репрезентацию присущих поэтическому творчеству потенций, но также воплощают и разочарование в романтическом образе поэта; они демонстрируют, что роль поэта и экзистенция поэта несовместимы. Причины такого поворота следует искать не в иссякшем вдохновении, и не в изменившейся публике – здесь она в качестве актора маргинальна. Никто не несет ответственности за почти трагический, не поддающийся каким-либо воздействиям процесс. Публика без всяких усилий с ее стороны приобретает власть над поэтом, поскольку становится существенно важным актором в дискурсе о поэзии.
6. Начало бесконечного конца культуры
Вне рамок данной статьи предстоит показать, какие последствия возникли в 1832 году в связи с разительными изменениями в русской журналистике и установившимися тогда же гонорарными отношениями; какие неблагоприятные обстоятельства привели к тому, что в широких литературных кругах распространились представления о подступающей культурной катастрофе. Коммерциализация журнального дела шла быстрым ходом, вызывая его рост. Радикальный сдвиг от преобладающей роли поэзии к прозаическим формам произошел около 1830 года, и этот поворот был истолкован как конец поэзии. Стало казаться, что теперь вдохновение будет подчинено запросам публики и требованиям чуждых поэзии издателей, что построчный гонорар означает внедрение в литературу количественных критериев, – все это привело к поляризации литературного «силового поля», предшествовавшей политико-идеологической поляризации 1840-х годов.
В этот момент в России возникло само понятие «массовой литературы», в то время как она сама стала заметным явлением значительно позже – издатели, в особенности часто порицавшийся Смирдин, платили в соответствии с «символическим» каноном, установившимся в романтические 1820-е годы, вне зависимости от тиража и рыночного успеха. Тогда же встают и центральные вопросы современного литературного дискурса, в котором работа для публики, «успех» являются предметом дискуссии о ценности литературы. Уже молодой Достоевский будет сполна отдавать должное этой проблеме. Современность, рождающаяся под меланхолическое отпевание романтизма – то есть эпохи свободной поэзии, – в экономически медленно развивавшейся России сопровождается фантомными болями, на которые сильно влияют общеевропейские тенденции, осознаваемые как свои. Эти боли быстро и бесповоротно изменили литературную реальность, так что в последующие десятилетия не только представление о вдохновенном, гениальном поэте становится все более экзотическим, встречаясь разве что в иронических контекстах, – та же судьба постигает и само слово «поэт».
Перевод с немецкого Галины Снежинской
Дар – жертва – растрата: роман Тадеуша Конвицкого «Mala Apokalipsa» («Малый апокалипсис»)
Шамма Шахадат
Дар и кража[35 - О даре в комбинации с кражей написал и Игорь Павлович Смирнов: Эту связь можно обнаружить и в мифе, так Прометей, например, осуществляет и дарение и кражу. «Оба шага – каритативный и экспроприативный – соотносят между собой два мира: сверхъестественный и человеческий» – Смирнов И. П. Объявляется в розыск (Неопубликованная рукопись, 2016. С. 11).], хотя и представляют собой два друг другу во многом противоположных феномена, несут в себе также весьма схожие функции: и то и другое является актом пересечения границ, которое, как известно, по меньшей мере со времен Юрия Лотмана, лежит в основе любого повествования. Ни один повествовательный текст не может начаться без пересечения определенных границ: речь при этом может идти в равной степени как о границах пространственных – если герой повествования, например, покидает свой дом и отправляется в большой мир, так и о границах морально-этических – в случае воровства, супружеской измены или нарушения какого-либо запрета.
Если с точки зрения своей нарративной функции дар и кража носят схожий характер, то в культурообразующем отношении они противоположны друг другу: дар служит единению, созданию общности, тогда как кража эти общность и единение разрушает. Вор – это своего рода аутсайдер, чужак, который в результате совершенного преступления перестает быть полноценной частью общества. При совершении дара, напротив, «взаимодействие между дающим и принимающим» ведет к созданию «социальной связи»[36 - Busch K. Geschicktes Geben. Aporien der Gabe bei Jacques Derrida. M?nchen: Wilhelm Fink, 2004. S. 11.] между ними – дар служит базой для формирования взаимоотношений между людьми, так как благодаря акту дарения создается необходимая для этого предпосылка, связь, взаимный контакт между участниками этого акта.
Таким образом, дар и кража представляют собой в равной степени как культурно-теоретические концепты, так и центральные нарративные элементы, необходимые для повествования. Еще в 1928 году Владимир Пропп в своей книге «Морфология сказки» выделил в рамках сказочного повествования 31 функцию действующих лиц и при этом разделил их на функции помощника и функции вредителя. Каждая сказка начинается с функции I: «Один из членов семьи отлучается из дома»[37 - Пропп В. Морфология сказки. М.: Наука, 1969. С. 30.]; однако уже в функции VI заходит речь о краже: «Антагонист пытается обмануть свою жертву, чтобы овладеть ею или ее имуществом»[38 - Там же. С. 32], этот антагонист вводит героя в заблуждение, принимая чужой облик или используя волшебные средства. Этой функции Пропп дает определение «подвох».
В функции XIV Пропп объединяет кражу и дар: «В распоряжение героя попадает волшебное средство»[39 - Там же. С. 43.] (в качестве пояснения: это волшебное средство ему необходимо, чтобы выполнить поставленную перед ним задачу). Волшебное средство герой может получить в дар, обрести путем обмена или покупки, но, что важно в нашем случае, ему сразу же начинает угрожать опасность, что это средство выпьют, съедят или похитят[40 - Там же. С. 44.]. На протяжении развертывания тридцати функций герой балансирует между опасностью и наградой, пока, наконец, не получает в результате реализации последней, XXXI, функции тот дар – или награду, – который в течение всего повествования был его целью: «Герой вступает в брак и воцаряется»[41 - Там же. С. 59.]. Таким образом, в рамках нарратологии уже на ранних этапах была выявлена связь между даром и кражей.
На примере романа польского писателя Тадеуша Конвицкого «Mala apokalipsa» («Малый апокалипсис», 1979) я хочу рассмотреть эти два феномена – дар и кража – в рамках литературного текста с нарратологической и культурно-теоретической точек зрения: как движущий мотив повествования и как культурообразующий акт. Этот анализ я проведу в четыре этапа:
1. Вначале мы вернемся в XVIII век и в эпоху романтизма, в которых берет свое начало основополагающий польский миф, впоследствии почти два столетия оказывавший активное воздействие на формирование польской культуры. Во времена разделения Польши, которое завершилось к 1795 году, зарождается так называемый grand rеcit, ключевой нарратив современной Польши, который действовал практически до конца XX века.
2. Затем я хотела бы проанализировать роман Конвицкого конца 1970-х годов как переработанную версию этого ключевого нарратива (базового мифа). Чтобы определить, как реализуется в романе логика дара и жертвы (жертвоприношения), мне будет необходимо:
3. Коротко очертить те два направления в рамках теории дара, которые были разработаны в XX веке: логику взаимообмена и несколько отошедшую на второй план логику жертвоприношения.
4. В завершение я вновь хочу обратить внимание на взаимосвязь между романом Конвицкого и польским базовым мифом – с точки зрения того, как в них реализуются мотивы кражи и жертвоприношения.
1. Основополагающий миф польской культуры: Польша как Спаситель народов
В конце XVII века Россия, Пруссия и Австрия разделили между собой бывшую Rzeczpospolitu, в результате чего Польша как государство исчезла с карты Европы. В основе этого события и созданного на его базе исторического нарратива, определявшего самосознание польской культуры последующие два столетия, лежит, таким образом, акт хищения, предметом которого оказались государство, страна и нация, которых лишился польский народ. Исходным, ключевым для польской культуры и польского самосознания оказывается не нарратив начала, основания (государства), а, наоборот, нарратив его конца. Польский романтизм, также основываясь на истории разделения Польши, создал в свою очередь собственный нарратив, для которого отправной точкой послужило Польское восстание 1830–1831 годов, когда в Польше была совершена попытка, пусть и неудачная, выйти из-под навязанной ей власти. Это восстание стало своего рода цезурой, послужившей во многом опорой для становления польского романтизма и давшей ему историческое обоснование. В своей пьесе «Dziady» («Дзяды» (поминки)), а также в своих парижских лекциях 1830-х годов Адам Мицкевич разработал в основных чертах миф о польском государстве как Спасителе народов, особенно этот тезис характерен для третьей части поэмы «Dziady». Согласно этому мифу, предназначение Польши состоит в том, чтобы добровольно принести себя в жертву и возложить на свои плечи весь груз мирового страдания. По Рене Жирару, такая жертва нацелена на преодоление кризиса[42 - Girard R. La violence et le sacrе. Paris: Bernard Grasset, 1972. Р. 30.], которым в данном случае является кризис небытия польского государства. Однако подобное самопожертвование можно рассматривать и как форму взаимообмена: Польша приносит себя в жертву, чтобы взамен обрести спасение; либо: Польша приносит себя в жертву, чтобы весь мир обрел спасение и освободился от великодержавной власти; в геополитической интерпретации это может означать: Польша приносит себя в жертву, чтобы взамен вновь обрести свою землю и государство.
В XIX и XX веках польская литература, живопись и кинематография постоянно возвращаются к этому основополагающему мифу о Польше как спасителе народов, привнося в него все новые трансформации. Акт хищения, в результате которого Польша утратила свои земли и национальное единство, переосмысливается как добровольная жертва, которую польское государство приносит миру. В отличие от концепции Проппа, описанной выше, согласно которой акт дара в сказке, как правило, предшествует акту кражи (волшебный предмет, обретенный героем в дар, впоследствии подвергается угрозе быть украденным), в данном случае, наоборот, акт кражи обусловливает ожидаемый впоследствии дар: при этом сама кража отступает на второй план, и ее место занимает жертва, позиционируемая как активный жест со стороны субъекта, добровольно принимающего на себя груз страдания. Нарратив конца, связанный с исчезновением польского государства как такового, трансформируется в своеобразный нарратив начала – основания польского самосознания.
2. «Mala apokalipsa» («Малый апокалипсис», 1979) Тадеуша Конвицкого
Роман Конвицкого «Малый апокалипсис» имеет на первый взгляд мало общего с пафосом польского романтизма; однако при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что автор в своем произведении обращается непосредственно к романтическому мифу о Польше, облекает его в гротескную форму и помещает в литературную среду Польской Народной Республики преддверия 1980-х годов. Речь идет при этом о духовном и моральном облике писателя, который по-прежнему – или, может быть, вновь – чувствует себя ответственным за судьбу польского народа. В то время Польша уже повторно оказалась под навязанной ей извне властью – на этот раз со стороны Советского Союза, волей которого польское государство вошло в состав Восточного блока. Реакцией на это стало возрождение мифа о польском государстве как спасителе народов и той моральной позиции, за сохранение которой чувствуют себя ответственными в первую очередь писатели и представители интеллигенции. В 1967–1968 годах произошло последнее на сегодняшний день восстание польской интеллигенции, во многом повторившее судьбу неудавшихся восстаний XIX века; в марте 1968 года[43 - О польских событиях в марте 1968 года см.: Eisler J. Marzec 1968. Geneza, przebieg, konzekwencje. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN, 1991.] оно было жестоко подавлено, что в существенной степени привело к общей разочарованности и социальной пассивности. В этой атмосфере застоя и апатии как раз и пребывают герои – или, скорее, антигерои – в романе Конвицкого.
«Малый апокалипсис» Конвицкого – это авторефлексивный роман, центральной темой которого являются роль и задачи писателя в социалистической Польше. Роман был издан в 1979 году в одном из подпольных издательств. Безымянный рассказчик, писатель, от чьего имени ведется повествование, находит старый пожелтевший листок бумаги, на котором он много лет назад начал писать рассказ, но так и не смог его закончить:
И так лежал тот лист, когда-то белый, теперь пожелтевший, долгие недели, месяцы и годы не законченный, не исписанный до конца, с поблекшим девизом <…> Я сдуваю пыль варшавских фабрик с этого воскового трупа моего воображения и читаю слова, бывшие когда-то жизненным девизом старого польского магната XIX века: «Ежели то позволяют интересы России, охотно я обращаю свои чувства к прежней отчизне»[44 - Konwicki T. Mala apokalipsa. Warszawa: Niezalezna Oficyna Wydawnicza, 1979. S. 12. Здесь и далее, если не указано иное, перевод с польского Елены Глеклер.].
В этом «жизненном девизе» проявляется нарушенная целостность, неизбежная в ситуации разделения государства, а незаконченный рассказ символизирует собой задачу, стоящую перед писателем. «Рядом со мной, в шкафу, лежит чистая бумага. Нитроглицерин современного литератора, наркотик для болезненного индивидуума», – пишет он в другом месте, диагностируя симптоматику утраты писателем его моральной силы и способности служить народу[45 - Ibid. S. 5.].
Размышления о его писательском бессилии прерывает появление двух друзей рассказчика, Хубрета и Рыси, которые предлагают ему в честь 40-летия Польской Народной Республики сжечь себя в знак протеста перед Дворцом культуры. Рассказчик вначале сопротивляется, но затем сдается и отправляется на прогулку по Варшаве, похожую на сон, во время которой он, помимо прочего, пытается достать где-нибудь канистру бензина, чтобы поджечь себя. В ходе своих скитаний он получает поддержку от различных женщин.
Вопрос, который меня интересует в связи с этим романом, заключается в том, как Конвицкий интерпретирует базовый польский нарратив, в основе которого лежат мотивы кражи и жертвы (либо жертвоприношения). Хотя центральным для этого романа является мотив дара, дарения, однако в отдельных его сценах присутствуют также и элементы кражи. Одна из центральных в этом отношении сцен находится уже в начале романа, когда друзья рассказчика прощаются с ним, предварительно убедив его осуществить акт самосожжения. Рысь обращается к рассказчику:
– «Старик, одолжи еще пять тысяч на такси. Он [Хуберт] не дойдет в такую погоду до дома». Рысь взял у Хуберта его магический портфель и уже поглядывал в сторону темного коридора. Я вытащил из кармана пятитысячную купюру. Они взяли ее и без слов благодарности отправились в прихожую[46 - Ibid. S. 24.].
Герой не получает от друзей благодарности, и возврата этих денег ему также уже не приходится ожидать. Здесь, с одной стороны, можно говорить о даре в понимании Жака Деррида. Согласно его теории, истинный дар имеет место только в том случае, если ни даритель, ни получатель дара его таковым не воспринимают и если за ним не следует ответного дара[47 - Derrida J. Donner le temps I: La fausse monnaie. Paris: Galilеe, 1991. Р. 18–19.]. С другой стороны, эту сцену можно также прочитать в ином ключе – как сведенный на банальный уровень вариант хищения: у героя забирают что-то, что он больше не получит обратно, но при этом «хищение» не выполняет культурообразующей функции и носит, скорее, повседневный характер. В этой сцене становится очевидно, насколько тонка грань между дарением и кражей: рассказчик сам отдает (дарит) деньги своим друзьям – так же как он отдаст им и свою жизнь; а они в свою очередь принимают его деньги точно так же, как примут и его самопожертвование, его самосожжение, его жизнь – «не в долг и не предполагая обратного дара»[48 - Ibid. Р. 24.]. При этом необходимо учитывать, что экономические процессы и кругооборот капитала в Польской Народной Республике, в основе которых лежали не экономические, а в первую очередь идеологические принципы, и без того уже были нарушены. Если в 1950-х человек как работающая и производящая сила, ставший в этой роли частью культурного европейского дискурса в конце XVIII века, имел в Польше еще существенное значение как символ строящегося социализма, то к 1970-м на смену образу работника-стахановца пришли инертность, апатия, безмолвие и устрашающая пустота. В такой ситуации сомнительной становится сама идея дара: если экономического взаимообмена как такового практически не существует, если кража оказывается частью повседневной жизни, а не чем-то предосудительным с точки зрения морали, кто и кому тогда сможет принести дар?
Акт дарения (и/или кражи) становится в романе инициирующим импульсом, который, по сути, приводит в движение все повествование. Рассказчик, получив задание, покидает свою квартиру, совершая, таким образом, акт пересечения границ (между домом и внешним миром), и отправляется в город. Задание получено, его целью является дар, и герой получает возможность и повод, с одной стороны, к действию, с другой – к повествованию в качестве рассказчика собственной истории.
3. Теории дара: от Зиммеля до Батая
Один из центральных вопросов в связи с романом «Малый апокалипсис» заключается также в том, как именно устроены те механизмы, которые лежат в основе дара/обмена дарами и жертвы/жертвоприношения и определяют логику всего повествования?
В XX веке теория дара разрабатывалась в двух принципиально разных направлениях[49 - Busch K. Op. cit. S. 7.]: в одном случае отправной точкой служит экономическая концепция дара, основанная на принципе взаимности, в другом – представления, выходящие за рамки чисто экономических понятий и интерпретирующие дар как форму нерациональной, не направленной на получение взаимной выгоды траты (Батай) либо исходящие из принципиальной невозможности дара как такового (Деррида).
Первые теоретические рассуждения на тему дара (или точнее – обмена дарами) необходимо рассматривать в более широком культурно-антропологическом контексте, в рамках которого велись дискуссии о том, как и на каких принципах формируется общество в целом. Если Эмиль Дюркгейм в основе общественных структур видел религиозные принципы (точнее, он исходил из того, что общество формируется с помощью и на основе ритуалов)[50 - Sigrist Ch. Ritus/Religionswissenschaft des 19 und 20 Jh. // Historisches W?rterbuch der Philosophie. Bd. 8. Basel: Schwabe Verlag, 1992. S. 1054.], то Георг Зиммель – а вслед за ним и Марсель Мосс – начало общественных отношений усматривает именно в обмене дарами.
«Дарение, – пишет Зиммель в 1908 году, – выполняет важнейшие социальные функции. Брать и давать – необходимые процессы внутри общества, без которых ни одно общество не могло бы возникнуть. Ведь дарение представляет собой не просто однонаправленное воздействие одного участника процесса на другого, а именно то, в чем и состоит суть социальной функции: взаимодействие»[51 - Simmel G. Exkurs ?ber Treue und Dankbarkeit // Simmel G. Soziologie. Untersuchungen ?ber die Formen der Vergesellschaftung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1992. S. 663.].
Именно это взаимодействие оказывается впоследствии в центре внимания Марселя Мосса, который в своем «Essai sur le don» («Очерк о даре», 1925) берет за основу трехчастную экономическую цепочку взаимообмена: дар – получение дара – ответный дар. Мосс говорит при этом о «всеохватывающей функциональности» взаимообмена, ведь «всё – продукты питания, женщины, дети, товары, талисманы, духовные чины и ранги – [является] предметом передачи и возврата»[52 - Mauss M. Essai sur le don. Forme et raison de l’еchange dans les sociеtеs archa?ques // L’Annеe sociologique. Nouvelle sеrie. 1923–1924. T. 1. P. 51.]. Как особую форму дарения Мосс отмечает традицию потлача. Потлач – это демонстративный, гипертрофированный вариант дарения, при котором каждый дарящий стремится превзойти в своих дарах другого. Меланезийская система дарения, которую Мосс использует в качестве эмпирической основы своей теории, сама по себе уже амбивалентна, потому что дарение в ней несет, с одной стороны, добровольный, а с другой – обязательный и обязующий характер[53 - См. также: Busch K. Geschicktes Geben. Оp. cit. S. 36.]. Потлач идет еще дальше, превращая дарение в акт состязания и противостояния – вплоть до бессмысленного уничтожения собственного имущества в качестве демонстрации своего богатства и превосходства над противником.
Описанная здесь проблематика релевантна и для романа Конвицкого, в котором, помимо прочего, встает вопрос о ценности, осмысленности дара:
«Видишь ли, – тихо сказал Хуберт, – такой поступок будет иметь смысл лишь в том случае, если это потрясет людей и здесь, в стране, и повсюду за границей. Среди наших читателей ты известен, да и на Западе то тут, то там о тебе можно услышать. Твоя биография и твой характер как нельзя лучше подходят в этой ситуации». <…> «Я сомневаюсь, произведет ли моя смерть тот эффект, которого вы от нее ожидаете. Есть люди, которых такое самопожертвование прославило бы на весь мир». <…> «Ты имеешь в виду Яна?» – спросил он. <…> «Это было бы слишком дорого, слишком высокая цена для нашей страны и общества»[54 - Konwicki Т. Op. cit. S. 18.].
Поэт, который одновременно не слишком значим, но и не слишком незаметен, идеально вписывается в экономику дара, который не должен достигать чересчур крупных размеров, чтобы не привести к самоуничтожению: уничтожен будет только конкретный индивидуум, но не вся диссидентская структура, приносящая его в жертву. Меновая стоимость такого дара выглядит вполне соответствующей его значимости.
Принцип взаимности присутствует и в других теориях дара, как, например, в теории запрета на кровосмешение, в основе которого, согласно Клоду Леви-Строссу, лежит традиция обмена женами[55 - Природа, согласно Леви-Строссу, принуждает к альянсу (Lеvi-Strauss C. Les structures еlеmentaires de la parentе. Berlin: de Gruyter Mouton, 2002. P. 37), основанному на взаимообмене (брать – давать) (Ibid. P. 35), культура же определяет формы реализации этого альянса. Для того чтобы гарантировать группе стабильность, культура осуществляет контроль за экономическим, а также символическим распределением благ и товаров, к числу которых относятся и пропитание, и женщины. Цель этого как Леви-Стросс, так и Мосс видят в том, чтобы общество могло обеспечить свое существование путем регулирования экономического и символического кругооборота.]. Точно так же, согласно Пьеру Бурдье, механизмы взаимного обмена дарами перестают действовать в результате стратегических игр участников этого обмена, из которых кто-то может отказаться делать ответный дар[56 - «На смену механике модели приходит диалектика стратегий», – пишет он в своей книге «Практический разум» (Bourdieu P. Le sens pratique. Paris: Editions de Minuit, 1980. Р. 170), «логику небольших сюрпризов» он противопоставляет «логике ритуала» (Ibid. P. 168), которая является неотъемлемой частью теорий Мосса и Леви-Стросса.]; в свою очередь, Стивен Гринблатт рассматривает взаимообмен в контексте символического обмена представлениями[57 - Исходя из концепции циркуляции социальных энергий, он обращает свое внимание в первую очередь на то, как (литературный) текст включается в «социальные обменные процессы культуры» (Haselstein U. Die Gabe der Zivilisation. Interkultureller Austausch und literarische Textpraxis in Amerika, 1661–1861. M?nchen: Fink, 2000. S. 156). В своей книге «Marvellous Possessions» он демонстрирует, что в основе присвоения чужой собственности (а именно завоевания Америки) лежит несправедливый обмен, в рамках которого проявляются власть и авторитет повествовательного текста.].
Если мы теперь вновь обратимся к роману Конвицкого, то обнаружим в нем различные элементы всех этих теорий: самопожертвование писателя – это главным образом символическая, а не экономическая форма обмена. При этом протагонист по-новому определяет правила игры и в первую очередь свою роль в этой игре, совершая самосожжение как квазитеррористический акт, направленный против действующей системы и производящий таким образом обмен особого рода: писательский труд, определяющий его как поэта, писателя, он меняет на свое тело, писательский акт с его как экономической, так и эстетической ценностью он меняет на акт террористический. Рассказ о своем самопожертвовании – это тоже своего рода дар, который он как писатель вручает читателю.
Однако истинное смысловое пространство романа раскрывается при прочтении его в контексте альтернативных теорий дара, основывающихся на антиэкономическом принципе нерациональной, не приносящей взаимной выгоды траты. В то время как друзья протагониста рассматривают его самопожертвование как элемент в экономической цепочке обмена дарами (в обмен на его жизнь диссиденты получают интерес к себе со стороны прессы), сам писатель воспринимает эту жертву как бессмысленный акт, пустую трату. Общество не излечится (как описывает это Жирар в своей теории спасительной жертвы), самопожертвование писателя не окажет на него очищающего воздействия, не поможет преодолеть кризис. Эта жертва полностью бессмысленна. Рассказчик Конвицкого – идеальный пример проявления «третьего члена», как его охарактеризовал Батай: согласно Батаю, нет никаких рациональных обоснований тому, почему люди впустую расходуют деньги, почему они ведут войны или растрачивают себя как творцы. Человечеству необходимы, по мнению Батая, – и вовсе не из каких-либо рациональных побуждений – «непродуктивные траты: роскошь, войны, культы, театры, искусства, сексуальные извращения». Решающую роль здесь играет «ущерб, который должен быть максимально крупным»[58 - Bataille G. La notion de dеpense // Bataille G. Oeuvres completes. Т. 1. Premiers Ecrits, I922—I940. Paris: Gallimard. Р. 305.]. Батай пишет: «Поэзия – не что иное, как творение через потерю»[59 - Ibid. P. 307.]; но в романе Конвицкого этот тезис обретает более радикальные формы: его герой ничего не создает, на пустом листе бумаги, о котором шла речь вначале, он так ничего и не напишет – вместо этого он лишь сожжет себя. Если сожжение рукописей уже само по себе – одна из крайних форм пустой траты (здесь вспоминаются примеры из русской литературы: Николай Гоголь, сжегший второй том «Мертвых душ», или Марина Цветаева, которая сжигала свои стихи), то сожжение самого поэта – это следующая ступень, своего рода продолжение поэтического акта растраты. С точки зрения Батая, Рембо – поэт, который создавал поэзию ценой собственной жизни; писатель же в романе Конвицкого – это поэт, который в условиях тоталитарного общества утрачивает способность писать и, как следствие, выбирает для себя бессмысленное, безрассудное самопожертвование:
До меня этот путь к жертвенному алтарю проделывали буддийские монахи, один чех и какие-то литовцы. <…> Где вы, души окаянные, бессильно сопровождающие нас в нашей земной борьбе? К вам обращаюсь я сегодня со своим рассказом[60 - Konwicki T. Op. cit. S. 229.].
Единственное, что делает путь героя к месту его жертвоприношения хоть сколько-то осмысленным, – это его включенность в повествование, рассказывающее о бессмысленности и бесцельности этой жертвы.
4. Заключение. Повторная жертва: «дурная бесконечность»
В завершение я бы хотела вернуться к польскому базовому мифу, созданному романтиками в ответ на разделение Польши и «похищение» польской государственности, и показать его связь с романом Конвицкого. Связующим звеном между пратекстом и его гротескным вариантом конца 1970-х является мотив жертвоприношения: Польское государство как спаситель народов приносит себя в жертву ради самой Польши и всего мира в надежде на искупление и освобождение. Рассказчик в романе Конвицкого приносит себя в жертву диссидентской идеологии своих друзей, которые стремятся таким образом пробудить впавшую в апатию нацию. «Кто-то должен прервать эту летаргию, Ян. Диким криком разбудить дремлющих», – так рассказчик объясняет свой поступок упомянутому выше поэту Яну, который слишком значим, чтобы им пожертвовать[61 - Ibid. S. 223.].
Жертвоприношение путем сожжения – это очевидное повторение. Конечно, любое жертвоприношение – это повторение, ритуал, но в случае сожжения этот ритуал воспроизводится в той форме, которая воскрешает самые его истоки, силу, заложенную в оригинале. Однако жертва, которую безымянный протагонист и рассказчик приносит в «Малом апокалипсисе», не может воспроизвести ту первоначальную силу, а остается вместо этого лишь пустым сигнификатом. Жертва, прежде представлявшаяся польским романтикам необходимым условием польскости, polskosc, во времена, когда существуют только символы, за которыми не стоят реальные поступки, утрачивает свой смысл и превращается в пустую трату.
Жиль Делёз указывал на парадоксальность повторения, так как оно стремится повторить, вернуть «невозвратимое». При этом, по его теории, повторяется не исходное событие, а наоборот: не 14 июля повторяет всякий раз взятие Бастилии, а взятие Бастилии, с перспективой в будущее, прославляет собой все свои последующие годовщины[62 - Deleuze G. Diffеrence et rеpеtition. Paris: Presse Universitaires de France, 1968. P. 8.]. В акте повторения, как пишет Делёз, проявляется «универсальность особенного»[63 - Ibid.]. Проблемой повторения, однако, – и здесь открывается возможность прочтения романа Конвицкого в контексте философии Делёза – является скука: только разум может рационализировать и сублимировать это чувство скуки при повторении, придать ему смысл и возвысить его[64 - По крайней мере, примерно так аргументирует Делёз, опираясь при этом на Кьеркегора и Ницше: Ibid. P. 9—11.].