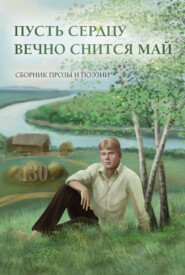По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Христос Воскресе! Пасхальные рассказы русских писателей
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И видишь с этой верхушки, как плывут, чуть не задевая за крест колокольни, пухлые серьезные белые облака, точно слегка кружась на ходу.
Пасха 1919 г.
М. Цветаева
Была Страстная суббота. Поздний вечер ее. Убитая людским и дружеским равнодушием, пустотой дома и пустотой сердца, я сказала Але:
– Аля! Когда люди так брошены людьми, как мы с тобой, – нечего лезть к Богу – как нищие. У него таких и без нас много! Никуда мы не пойдем, ни в какую церковь, и никакого Христос Воскресе не будет – а ляжем с тобой спать – как собаки!
– Да, да, конечно, милая Марина! – взволнованно и убежденно залепетала Аля, – к таким, как мы, Бог сам должен приходить! Потому что мы застенчивые нищие, правда? Не желающие омрачать Его праздника.
Застенчивые или нет, как собаки или нет, но тут же улеглись вместе на единственную кровать – бывшую прислугину, потому что жили мы тогда в кухне.
Теперь я должна немножко объяснить дом. Дом был двухэтажный, и квартира была во втором этаже, но в ней самой было три этажа. Как и почему – объяснить не могу, но это было так: низ, с темной прихожей, двумя темными коридорами, темной столовой, моей комнатой и Алиной огромной детской, верх с той самой кухней, и еще другими, и из кухни ход на чердак, даже два чердака, сначала один, потом другой, и один другого – выше, так что, выходит – было четыре этажа.
Все было огромное, просторное, запущенное, пустынное, на простор и пустоту помноженное, и тон всему задавал чердак, спускавшийся на второй чердак и оттуда распространявшийся на все помещение вплоть до самых отдаленных и как будто бы сохранных его углов.
Зиму 1919 г., как я уже сказала, мы – Аля, Ирина и я – жили в кухне, просторной, деревянной, залитой то солнцем, то луною, а – когда трубы лопнули – и водою, с огромной разливанной плитой, которую мы топили неудавшейся мушиной бумагой какого-то мимолетного квартиранта (бывали – и неизменно сплывали, оставляя все имущество: этот – клейкую бумагу, другой – тысяч пять листов неудавшегося портрета Розы Люксембург, еще другие – френчи и галифе… и все это оставалось – пылилось – и видоизменялось – пока не сжигалось)…
Итак, одиннадцать часов вечера Страстной субботы. Аля, как была в платье, – спит, я тоже в платье, но не сплю, а лежу и жгу себя горечью первой в жизни Пасхи без Христос Воскресе, доказанностью своего собачьего одиночества… Я, так старавшаяся всю зиму: и дети, и очереди, и поездка за мукой, где я чуть голову не оставила, и служба в Наркомнаце, и рубка, и топка, и три пьесы – начинаю четвертую – и столько стихов – и такие хорошие – и ни одна собака…
И вдруг – стук. Легкий, резкий, короткий. Команда стука. Одним куском – встаю, тем же – не разобравшимся на руки и ноги – вертикальным пластом пробегаю темную кухню, лестницу, прихожую, нащупываю задвижку – на пороге Володя, узнаю по отграниченности даже во тьме и от тьмы.
– Володя, вы?
– Я, М. И., зашел за вами – идти к заутрене.
– Володя, заходите, сейчас, я только подыму Алю.
Наверху, шепотом (потому что это большая тайна и потому что Христос еще не воскрес):
– Аля! Вставай! Володя пришел. Сейчас идем к заутрене.
Разглаживаю впотьмах ей и себе волосы, бегом сношу ее по темнее ночи лестнице…
– Володя, вы еще здесь?
Голос из столовой:
– Кажется – здесь, М. И., я даже себя потерял, – так темно.
Выходим.
Аля, продолжая начатое и за спешкой недоконченное:
– Я же вам говорила, Марина, что Бог к нам сам придет. Но так как Бог – дух, и у Него нет ног, и так как мы бы умерли от страху, если бы Его увидели…
– Что? Что она говорит? – Володя. Мы уже на улице.
Я, смущенная:
– Ничего, она еще немножко спит…
– Нет, Марина, – слабый отчетливый голос изнизу, – я совсем не сплю: так как Бог не мог Сам за нами прийти – идти в церковь, то Он и послал за нами Володю. Чтобы мы еще больше в Него верили. Правда, Володя?
– Правда, Алечка.
Церковь Бориса и Глеба: наша. Круглая и белая, как просфора. Перед этой церковью, как раз в часы службы, целую зиму учат солдат. Внутри – служат, а снаружи – маршируют: тоже служат. Но сейчас солдаты спят.
Входим в теплое людное многосвечное сияние и слияние. Поют женские голоса, тонко поют, всем желанием и всей немощью, тяжело слушать – так тонко, где тонко, там и рвется, совсем на волоске – поют – совсем как тот профессор: у меня на голове один волос, но зато – густой?.. Господи, прости меня! Господи, прости меня! Господи, прости меня!.. Этого батюшку я знаю: он недавно служил с патриархом, который приехал на храмовый праздник – в черной карете, сияющий, слабый… И Аля первая подбежала к нему и просто поцеловала ему руку, и он ее благословил…
– М. И., идемте?
Выходим с народом – только старухи остаются.
– Христос Воскресе, М. И.!
У причастия.
Рис. И. Ижакевича, автотипия «Нивы»
– Воистину Воскресе, Володя!
Домой Аля едет у Володи на руках. Как непривычный к детям, несет ее неловко – не верхом, на спине, и не сидя, на одной руке, а именно несет – на двух вытянутых, так что она лежит и глядит в небо.
– Алечка, тебе удобно?
– Блаженно! Я в первый раз в жизни так еду – лежа, точно Царица Савская на носилках!
(Володя, не ожидавший такого, молчит.)
– Марина, подойдите к моей голове, я вам что-то скажу! Чтобы Володя не слышал, потому что это – большой грех. Нет, нет, не бойтесь, не то, что вы думаете! Совсем приличное, но для Бога – неприличное!
Подхожу. Она, громким шепотом:
– Марина! А правда, те монашки пели, как муха, которую сосет паук? Господи, прости меня! Господи, прости меня! Господи, прости меня!
– Что она говорит? Аля, приподымаясь:
– Марина! Не повторяйте! Потому что тогда Володя тоже соблазнится! Потому что эта мысль у меня была от диавола, – ах, Господи, что я опять сказала! Назвала это гадкое имя!
– Алечка, успокойся! – Володя. (Мне: – Она у вас всегда такая? – Я: – Отродясь.) – Вот ты уже дома, ты сейчас будешь спать, а утром, когда проснешься…
В его руке темное, но явное очертание яичка.
На чужой стороне
И. Бунин