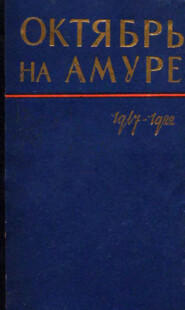По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Изумленное пространство. Размышления о творчестве Эдуарда Штейнберга
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Этой небольшой «притчей»-моделью выражаю я, насколько могу, свой подход к работам художника.
4. Картина как символо-творческая (языковая) модель. Картина как выговаривание осмысляемого
Память, припоминание неукоснительно связаны с мышлением, осознанием. Если припоминание осуществляется в определенных словах-понятиях, более или менее строго и последовательно организуемых, то можно говорить о логическом мышлении, дискурсивном понятийном мышлении. Акт осознавания связан здесь с припоминанием понятий и закономерностей увязывания понятий, которые были восприняты при обучении в школе, или философской, или семейной. Приводя на память припоминания понятия, человек логически, рационально мыслит. Его представления припоминаются оформленными в словесные понятия. Возможно и иное мышление, обычно соотносимое со сновидческой символикой, со снами, с неврозами, с фобиями. Здесь припоминание идет не рационально, но конкретно, «архаично», порой пугающе для добропорядочного рационалиста, считающего, что его рациональное мышление (или припоминание представлений в словах) есть вершинная точка «эволюции». Иногда подобное мышление называют «подсознанием», «бессознательным» и пр. и пр., хотя, конечно же, оно есть все то же мышление как припоминание представлений, которые были запечатлены, или запечатляются в настоящем, или будут запечатлены вне словесно-понятийного аппарата. Желания, детские до-языковые стремления – словом, всевозможные представления, так или иначе оформленные в знаки, – имеются в наличии и всегда готовы быть приведенными в действие для осознавания, которое выше «добра и зла» и может через припоминание порождать в человеке всю его жизнь как записи, как энграммы его тайных и явных желаний. Человек пишет свои знаки, свои представления, и память всегда может привести их ему налицо. Если он мыслит рационально в обычном состоянии, приводя на память школьные прописи, задавливая тайное, то в снах его сознание «припомнит» ему в других знаках, других представлениях его тайное, осуществляя желания ярко и архаично просто или наказуя за некое недозволенное столь же архаично и столь же ярко… Память, постоянная память, память постоянного воспроизведения, припоминание в определенных знаках – все эти (и подобные словосочетания с памятью как корневищем) структуры слов доминируют в аскетическом словаре от православного исихазма до буддийской йоги. То, что воспроизводит память постоянно, то человек и знает. Иного пути нет. Медитация как волевое припоминание, то есть введение в память определенных представлений, лежит в основе почти всех аскетических систем. Когда святой пребывает в памяти Свето-мышления, то его сознание, очищенное от всяких представлений и потому молчащее, пребывает в Свете, созерцая Свет. Молчание в светосозерцании – таков идеал красоты древних. Блаженство покоя и знания, любверастворимость и сострадание, созерцание Света и восхищение Премудростью Творца – таков арсенал постоянного памятования святого. Картина же художника являет из себя символо-творческое мышление как говорение, как языковую модель речи, осмысляющей в припоминании символических представлений тот уровень творческого состояния, когда художник «грезил», оставляя рассудочные представления, проникая в энергийные поля идей-ангелов, чтобы, нисходя, осмыслить это опять-таки не рационально, не словесно-понятийно, но в универсальных идеограммах иных представлений. Картина есть модель мышления вообще и модель определенного мышления в частности. Картина символична, поэтому может быть заполнена в формуле-символе разнообразным понятийным содержанием. Картина есть символ-формула, модель, символо-творческая языковая модель. Она поддается философскому анализу, потому что принадлежит «полю философии». Чем более глубинно, «до-цивилизованно» будет погружаться творческое сознание художника, тем более простыми, архаичными, конкретными и универсальными будут его припоминательные идеограммы представления. Это представляется ясным, ибо «специализация» языков, наиболее явно данная в языках наук XX столетия, а менее явно – в языках народностей, есть продукция достаточно близких исторических сроков. А вхождение в глубины творческих состояний, чтобы осознавать их в припоминании в архаичных же (соответствующих тому заисторическому языку) представлениях-идеограммах, соотносимых, скажем, с «допотопным» временем, дает простоту и минимальность алфавитных единиц. Я употребляю эти слова отнюдь не метафизически, нет, я говорю, что осознание мира в «до-потопные» времена могло быть совершаемо в совершенно иных представлениях, глубинно хранящихся в памяти вселенной как некие архетипы; что пребывание в полях этих представлений творческое сознание художника на нисхождении будет осознавать, выговаривать в припоминании представлений этого языкового уровня. Так может появиться на полотнах «абстракционистов» пусть разрушенный и требующий кропотливой дешифровки, но алфавит универсального праязыка, более конкретного, более зрительного, менее «болтливого»… Художник в творческом состоянии записывает, припоминая, присущие тому языку представления; или, скажем, оплотняет в сновидческих символах свои задавленные влечения, как это делают «сюрреалисты». Чем чище, чем архаично проще, чем благочестивее жизнь художника, тем глубже будут его погружения, тем символичнее, метафизичнее будут его представления в символо-творчестве картины как языковой модели выговаривания памятью для осознания иных уровней. Я уже говорил, что самый высокий уровень, самая последняя глубина в припоминании – это святость, где символы «верха» и «низа» уже пребывают нераздельно и неслиянно в антиномиях православного мистического опыта.
Но лестница восхождения не закрыта никому, ни единому делу во славу Божию. Молящийся, труждающийся в исполнении заповедей Господних, старающийся не судить, ходящий в простоте в храм к исповеди и причастию, непрестанно творчески работающий художник будет все глубже и глубже погружаться в хранилище вселенской памяти, чтобы как подлинный любитель древностей заводить свою «лавочку» антикварных изделий из «идей-символов». Когда-нибудь начнут покупать эти самые антикварные изделия, хотя они будут выполнены современником. Картина художника представляет (вся совокупность его картин: тех, которые уже написаны, тех, которые пишутся, и тех, которые будут написаны, вплоть до созерцания «первоявленных икон», чтобы стать уже иконописцем, а не живописцем!) выговаривание узнанного на архаичном, идеографическом, «до-потопном», а то и «до-допотопном языке». Картина есть целое, где частные элементы подчинены целому, вступают в своеобразные взаимоотношения, неуловимо сопрягая друг друга в связи, ритмы, рифмы, смыслы. Ибо ясно, скажем, что единичный куб или единичный круг при сопряженности образуют связь куб – круг, где единичное каждого элемента сохраняется, но порождает и новое звучание, зависящее от соседствующего элемента. Можно говорить об определенной иллюзии изменения, перетекания, подобной «перетеканию» гласных в фонемах. Пирамида, которая, скажем, представлена на холсте, остается быть пирамидой, но вместе с тем происходит и своеобразное иллюзорное преломление, ибо в соседстве с белой сферой она уже не просто единичная пирамида, какой бы была она вне континуумного сопряжения со сферой. Пирамида вступает в языковую связь целого, если, к примеру, данное на холсте целое представлено композицией звучания из двух элементов. Можно понять по тяге, пространственно выражаемой в фиксированной деформации того или иного элемента целого, при сохранении недвижимости и неизменности другого элемента, их синтаксические связи… Скажем, если на холсте ПИРАМИДА имеет тенденцию вскрыться, раскрыть себя, показуя свою сопряженность с белой сферой, а сфера пребывает центрующейся и прячущейся за белый цвет, то можно говорить об определенной онтологической первичности сферы, символически показанной в припоминательной модели-картине вот таким образом. Таковое осмысление диктуется не только, повторяю, центрующим положением сферы (нуля, абсолюта, самого совершенного, прячущегося в свете, излучающего крест, белый цвет и свет), но именно внутренней потребностью Пирамиды грациозно изменить себя, так или иначе связав с подлежащим картины. Чем выше будем восходить мы в осмыслении символического языка, тем бездоннее будут ассоциации, ибо СИМВОЛ как таковой может быть загружен самым разнообразным конкретным содержанием… Сфера и пирамида… Пирамида тяготеет к раскрытию себя на составляющие, пребывая неизменной, и сфера, словно укрывшаяся образом сферы, как белым очерченным кругом… ЧТО там, за белым образом сферы? Сфера ли?
Это неизвестно, это не явлено, явлена лишь сфера сферы, образ образа, скорее в свете скрывающая собою что-то, нежели открывающая… Ясно, что, чтобы проникнуть туда, за белый абрис, надо войти в белый абрис сферы, пребывать в нем… Как? Вот пирамида, она словно указует путь, ибо устремлена, раскрыта и туда, к сфере белизны, и сюда, к земле, очерченной нижней горизонталью, ибо пирамида стоит на земле, которая подчиненно деформировалась к пирамиде, почти «осела» под пирамидным нисшествием и стоянием. Пирамида – огонь… Сфера – беспредпосылочный нуль… Белый абрис явленной сферы – Свет. Я говорю: так могла открываться Святая Троица на определенных уровнях; так, в символах, могла Она показать Себя… Дух Святой, Отец, Сын – Отец, и Сын, и Дух Святой – так открыл Себя Таинственный чрез Сына в Духе Святом, так записал Троицу, Трех Запредельных пред Евхаристической Чашей, преп. Андрей Рублев; но возможна и в иных символах языковая модель о Боге Живом, о Его и нашем сопряжении в Крещении и Евхаристии, нисшествии в разделяющихся языках, огненных на персть человека, вознося сожженную землю в свет, чтобы в свете быть вознесенным к ТОМУ, Кто за светом, Кто столь слепителен, что Его сияние поражает слепотой любое зрение… Я говорю: символо-творчество, выговариваемое в припоминании представлений-идеограмм картин Штейнберга, есть речение о церкви как о Теле Сына и полноте Духа, как о Свете и о пути в Свет с земли через огненное крещение…
Но… говорим осторожно, почти шепотом, говорим – повторим темные слова Гераклита Темного – не потому говорим тихо и темно, что боимся, но потому, что самая ясная ясность будет все же темнотою для всякого, кто еще не был пронизан и уязвлен красотой Невечернего света, тихо-тихо говорим: «путь вверх таков же, что и путь вниз».
…На универсальном языке идеограмм… Я говорю: Православное учение о Троице можно реконструировать через наиболее ясные и успокоенные символические композиции художника Штейнберга, через анализ сопряжений единой фразы и ее составляющих: ибо и белая сфера, и пирамида порождены сокрытым под-лежащим, беспредпосылочным для них началом. Путь вниз есть тот же самый, что и путь вверх… Снятие противопоставительных «оппозиций», вплоть до снятия оппозиции «нирвана-сансара» (по словам Нагарджуны, «предел» нирваны есть и «предел» сансары) – снятие оппозиций, говорю, характеризует ступени (бхуми) медитативного восхождения бодхисаттвы… Символ – это модель. Как целое он может быть нераздельно разложен на единичные классификаторы, могущие быть по-разному выраженными в синонимичности, могущие быть и вариационно рассматриваемыми в простоте значений: Огонь, Земля, Нуль, Вода… Можно вспомнить Платона, глядя на холст, с его вероятностным учением о «белом» как расширяющем поле луча при порождении цветов огня, и «черном» как сужающем поле луча зрения при порождении иных цветов огня, ибо почти «диафрагмически» даны на холсте две «линзы», отверзающие для усмотрения недра пирамиды; можно даже удивиться почти иллюстративным совпадениям текста «Тимея» на этот счет и текста картины на этот счет, можно погружаться и далее, и далее… Вверх, вытягиваясь вершиной прямоугольника до бесконечной прямой, перекрещивающейся с горизонталью вод, чтобы вновь вернуться к центру сферы, пройдя путь склонения пирамиды к сфере, чтобы увидеть и неотделимую отделенность световой вспышки образа от праобраза… Символы вечного бытия дают возможность пребывать в припоминании как таковом, в припоминании в поле символа, а не в конкретных полях конкретных языковых представлений.
Картина, если молча сидеть и молча и долго смотреть, никуда не торопясь, остановившись перед символом, начнет говорить, да, да, можно услышать ее безмолвие… Символо-творчество успокаивает мятущийся в специализации современный мир, возводит его к глубинам пракультур, снимает напряженность конкретной практики, возвышает до архаики, ставит все на свои места: тварное ищет красоты и покоя в Красоте и Свете Того, Кто призвал мир к существованию Крестом Своим… Выговаривание припоминания на универсальном языке проводит работу в фиксации символов глубже «психоанализа»… Смотреть на символо-творчество психотерапевтически полезно для излечения, смотрение может стать пусть пока недостаточно волевой, но явно медитативной практикой – своеобразным «букварем», где зарисованы универсальные буквы и универсальные фразы хорошей «начальной школы»…
На этом я решаю остановиться. Я хотел показать, что подобный подход, которым, быть может, вдохновится и более внимательный исследователь творчества художника Э. Штейнберга, продуктивен.
Помоги, Боже, Родной и Далекий, рабу Твоему, припоминающему свидетельство о Тебе и Твоей церкви!
Москва, 1973
Московский дневник[4 - Отрывок из статьи «Московский дневник» (1973), вошедшей в книгу: Халупецкий И. «Авангард: место в жизни». М., 2000.]
Индржих Халупецкий
Эдуард Штейнберг живет в небольшой симпатичной квартире и там же работает. Он родился в 1937 году, то есть младше тех, у кого я побывал до сих пор. К тому же, в отличие от них, он не получил художественного образования. Он прирожденный художник, живопись для него – самый естественный способ жизни и самовыражения.
Близится вечер, и Штейнберг быстро достает одну картину за другой. В основном это прекрасная живопись классического французского типа; пожалуй, самое чистое художественное проявление из всего увиденного мною в Москве. Все картины Штейнберга написаны белым; когда я видел их впервые, художник создавал их короткими импрессионистскими мазками, теперь он часто пользуется шпателем, поэтому поверхности кажутся выполненными из лаков, и в то же время он упрочнил конструкцию картин. В их абстрактной концепции повторяются несколько личных символов – мертвая птица, бычий череп. Они входят в картину совершенно логично: эта чистая живопись – не только чистая живопись. Картина здесь – инструмент познания, и в то же время все краски в ней сводятся к белой гамме, абстракция картины становится символом метафизического плана, открываемого за формами чувственно воспринимаемого мира, и белое сияние, излучаемое картиной, – итоговое открытие художника.
Штейнберг показывает мне картину за картиной в уютной комнате своей квартирки; но мне хотелось бы видеть их развешенными рядом в пустом помещении, в которое они могли бы свободно лить свой белый свет – они сделали бы абстрактным все пространство. Тут бы даже не выставка потребовалась, а скорее какая-то сакральная архитектура.
Я напоминаю Штейнбергу об экуменической часовне Ротко, и Штейнберг живо соглашается: из всех слайдов, которые я показывал, она заинтересовала его больше всего.
Москва, 1972
Бытие числа и света (о творчестве Эдуарда Штейнберга) [5 - Статья не была опубликована и распространялась в самиздате.]
Виталий Пацюков
Творчество Эдуарда Штейнберга, как и любого московского художника его круга – И. Кабакова, Э. Булатова, В. Янкилевского, М. Шварцмана, В. Пивоварова, – основано на принципе нерасчлененности искусства и жизни, мировоззрения и повседневного бытия, на единстве человеческого духа, которое раскрывается ежеминутно и повсюду, снимая оппозиции «Я» и «МИР».
Мировоззрение Э. Штейнберга пронизано острым чувством христианской истории. Нравственное начало – самое отличительное свойство его искусства – не выявляется в его композициях внешне: через сюжет, тему или предмет изображения; оно заключено и в каждой отдельной конфигурации, и во всей архитектонике произведения, выбирая простейшие элементы для своих композиций, такие как крест, треугольник, квадрат, круг, вошедшие в сознание человечества еще на заре цивилизации и возрожденные христианским символизмом, и в то же время универсальную систему идеографических знаков, направленную к высшим ступеням познания и бытия.
Художник родился 3 марта 1937 года в Москве, в семье известного поэта и переводчика Аркадия Штейнберга. Творческая зрелость, осознание себя как личности пришли к художнику не через традиционную систему академического художественного воспитания. Созданию его эстетического мировоззрения предшествовал длительный духовный процесс, сосредоточенный, упорный труд, направленный на религиозно-философское и художественное самообразование и обретение совершенства в живописном мастерстве. Традиции русского супрематизма, конструктивизма и неопластицизма (К. Малевич, Л. Попова, И. Клюн и особенно поздний В. Кандинский) достаточно сильно звучат в его искусстве, но не остаются формальной разработкой испытанной системы, а органически сливаются с новой экзистенцией духа, свойственной всей сегодняшней школе московского авангарда, наполняя полотна Штейнберга подлинной поэзией. При всем родстве с пластикой супрематизма и позднего В. Кандинского художественный язык Э. Штейнберга можно сопоставить с этими мастерами лишь условно. Например, при внешнем совпадении формализованных структур К. Малевича и Э. Штейнберга (квадрат, треугольник, крест) они онтологически не тождественны и служат противоположным целям и идеям. В центре мировоззрения Э. Штейнберга стоит не отчужденная проблема духа – «ничто покоя» (К. Малевич), а проблема бытия, переживания и воплощение внутреннего опыта. Символика Э. Штейнберга, рожденная постоянной интеграцией христианских архетипов, непрерывно созидается, и в этом суть ее.
Еще более отчетливая граница разделяет позиции Штейнберга и конструктивистов. Последняя ориентирована на «производственную идеологию», на искусство непосредственно утилитарное, обращенное к построению образцовых моделей, стандартизации и рационализации жизни во всех ее проявлениях. В свою очередь, опоры в осуществлении идеи «жизнестроительства», столь популярной у русского авангарда 1910–1920-х годов, художник ищет не в трактатах теоретиков ЛЕФа, а в работах их современников-антагонистов: теоретика журнала «Маковец» о. Павла Флоренского и теоретика символизма Вяч. Иванова, мечтавших о создании непрерывной жизненной среды, пронизанной эстетическими, нравственными и религиозными устремлениями. Эта убежденность в жизненном значении искусства, эта органическая нерасторжимость мироощущения, переживания и взаимоотношения с материалом сопровождают любой художественный акт Э. Штейнберга.
«Я хочу быть делателем новых знаков» – вот кредо, сформулированное Казимиром Малевичем.
«Знак – это или припоминание, или тоска по истине. Он свободен от времени»[6 - Беседа Э. Штейнберга с С. Аккерманом и Ж. Бастианелли // Эдуард Штейнберг. Материалы биографии. М.: Новое литературное обозрение, 2015: «Может быть, в этом знаке без времени есть формула религиозной, духовной и материальной культуры. Тут уже свобода выбора». – Прим. ред.] – такова позиция Эдуарда Штейнберга.
Каждый холст художника – это страница его дневника, свидетельство состояния его души, его тоски по совершенству, воплощенному в органической красоте природы (спираль раковины, крыло птицы, созвездие цветка) и обретающему свой конечный смысл в совершенстве мирового целого.
Если иерархически сложный, символический язык художника перевести на условные термины искусствоведения, то его можно определить как оптический неопластицизм. Он как бы интегрирует аксиологические схемы катакомбных первохристианских изображений, открытия русского авангарда первых двух десятилетий нашего века, разработки в области оп-арта, эксперименты с энергией света европейского и американского неоавангарда (взаимоотношения с оп-артом и неоавангардом следует рассматривать скорее как антитезис). Оптический неопластицизм Э. Штейнберга, осуществляющий связь явлений видимого мира и соответствующих им идей невидимого, сокровенного, можно поименовать спиритуальным или метафизическим реализмом.
Символическая структура полотен Э. Штейнберга обусловливается сложной системой функциональных знаков, подчиненных композиционно ритму и пространственной ориентации. Каждая конфигурация фиксирует определенную зону в пространстве, каждый элемент поставлен в четкую эмоциональную и конструктивную связь с соседним, каждый отдельный пластический знак составляет органическую часть всей архитектоники холста. Особенно характерны в этом отношении «композиции» со строгим взаимодействием земной и небесной кулис, где внутреннее пространство между ними уподобляется гигантскому окну в космос. Они напоминают пейзажные свитки дзен, построенные на идеографическом триединстве Неба, Земли и Человеческого Мира.
Композиции 1975–1979 годов характеризует не только напряженная структуральность, но и символическая цветовая иерархия пространства, излучающего фактически не цвет, а световую энергию. Превращаясь в носителя света, цвет становится основным пространственным фактором. Свет как суггестивная сила приобретает функции доминирующего атрибута поэтики художника. Спонтанно рожденная световая идеография языка Штейнберга коренится в традициях московской школы иконописи, в учении святых отцов православной церкви о несотворенной предвечной природе света. Поэтому и искания Э. Штейнберга, будучи параллельными экспериментам современных светокинетистов (Николас Шёффер, Хулио Ле Парк) и неоавангардистов типа Дэна Флавина, противоположны последним не только по своему методу, но и целевой установкой. Э. Штейнберг несет этический посыл, сознательно отвергая новые технологические сродства, ограниченные внешней информацией и рассчитанные на визуальную рефлексию. Он, избегая рельефной поверхности, с помощью кисти и шпателя тщательно втирает краску в холст, строит форму, а не растворяет ее в мозаике мазков. Прозрачными лессировками обрабатывая верхний красочный слой, достигая этим эффекта светоизлучения поверхности, он лишает цветовые структуры признаков чувственного и возвращает им традиции византийского колорита и трансцендентную направленность. Мягкое свечение полотен Штейнберга снимает действие естественных источников света и создает особую медитативную среду, поглощающую реальное пространство.
Цвето-световая символика художника многозначна и не всегда поддается точной расшифровке. Например, его белый цвет – это еще и четкая форма, символ, цвет «предвечного безмолвия», тот самый феномен (включающий в себя потенциально любые реальности), который предлагался уже не раз в искусстве XX века («Белое на белом» К. Малевича, чистый холст В. Татлина, Р. Раушенберга). Оппозиция «черное – белое» довольно редка в идеографии Штейнберга, значительно чаще семантика черного заменяется темно-голубым или темно-синим (период, связанный со смертью матери).
Конструируя свои пластические пространства, Э. Штейнберг создает собственную модель космоса, где в колебании красок, в спокойном ритмическом перемещении линий и плоскостей, в светоизлучении слышатся отзвуки всеобщей гармонии. В понимании художника космос – упорядоченное целое, обладающее бесконечным многообразием возможных проявлений, определяемых числом 3. Такое обращение художника к философии чисел, к их магии, к идее иерархической обусловленности пространства и времени сближает его искусство с поэтикой Велимира Хлебникова («Доски судьбы») и философско-религиозной концепцией о. Павла Флоренского. Свои числовые соотношения и линейные построения, нередко обретающие чисто музыкальные формы, Э. Штейнберг приравнивает к идеальным математическим конструкциям, выражая их иногда знаком ? (бесконечность) или числами 1, 3, 7, 8. Число у него превращается в некий универсальный ключ – окно в сотворенный художником космос. Здесь, в нераздельном слиянии числа и света, художественные структуры обретают символ миропорядка с подвижным равновесием и многообразным единством.
В отличие от новоевропейского типа художественного мышления, определяемого личной точкой зрения на мир и волевым усилием художника, творческий метод Штейнберга обусловлен объективизацией и аскетическим самоотречением. Энергетийные конструкции Штейнберга, указывающие на недоступность мира идеальных сущностей и в то же время их вездесущность, подчинены динамическому движению от произведения к зрителю, что соответствует «магической» концепции византийского искусства, – эти многогранные идеографические архетипы обладают активным силовым полем и рассчитаны на диалогическое общение, в котором творческий замысел художника достигает подлинного концептуального существования.
Москва, 1978
От конструкции к созерцательности – Эдуард Штейнберг и русский авангард[7 - Статья опубликована на немецком языке в каталоге: E. Stejnberg. Katalog zur ausstellung im Zentrum f?r interdisziplin?re Forschung der Universit?t Bielefeld. 1982.]
Ханс Гюнтер
Близость Штейнберга к классическому искусству русского авангарда, к Малевичу и Кандинскому не раз отмечалась художественной критикой. Она самоочевидна при взгляде на его картины и находит подтверждение в высказываниях самого художника. Причастность Штейнберга к авангардистскому творчеству, прерванному на целые десятилетия, в то же время не должна быть понимаема как простая преемственность, как будто бы в промежутке между 1920-ми и 1960-ми ничего существенного в истории и в искусстве России не произошло. Наоборот, надо иметь в виду, что исторический, художественный и жизненный опыт десятилетий, отделяющих Штейнберга от авангарда, нашел свое выражение в его творчестве. Этот момент должен стать исходным для следующих рассуждений.
Прежде всего, несомненно, что при всей связи Штейнберга с авангардистскими традициями он категорически отрицает их конструктивистские, утилитарные тенденции продуктивного искусства. В дизайне Лисицкого, Родченко или учеников Малевича – Чашника и Суетина – Штейнберг видит трагическое «извращение авангарда» («Записки с выставки»), который изначально исходил из преодоления материальной реальности через духовное, из супрематики духа. За критикой в «социологизме» и утилитаризме стоит не только отрицание любой государственной завербованности искусства, которая в первые годы после революции программно приветствовалась многими авангардными художниками в их слепом рвении к прогрессу, но и отказ от футуро-утопической ориентации большей части русского – и не только русского – авангарда.
Лисицкий, например, окрыленный утопическими революционными надеждами, видел в изображенных им объектах – проунах – перевод от двухмерной плоскости к трехмерным пространственно-архитектоничным моделям, перевал на пути осуществления конструкции всемирного коммунистического города землян. Проун, по Лисицкому, ведет «созидателя от созерцания к действительности» (Эль Лисицкий. Проун и Небесный Утюг. Дрезден, 1967. С. 32). Для Штейнберга, придерживающегося созерцательной позиции по отношению к действительности, «проуны» Лисицкого являются «пришельцами из давно забытого времени»[8 - Штейнберг Э. Записки с выставки // Эдуард Штейнберг. Материалы биографии. М.: Новое литературное обозрение, 2015: «Судьба Эль Лисицкого трагична. Его „проуны„ – пришельцы из давно прошедшего времени. Его дизайн – оборотень Авангарда. Аналогична судьба и учеников К. Малевича – И. Чашника и Н. Суетина, да и А. Родченко с В. Степановой».] («Записки с выставки»).
И у Малевича (с которым Штейнберг чувствует себя особенно связанным) с начала 1920-х начинают проглядывать черты утопического мышления. Они выразились, с одной стороны, в стремлении художника к освобождению вещей от «эклектицизма» привычных форм, с другой – в его надежде на реализацию утопических проектов. «Новаторы во всех областях искусства выравнивают улицы городов. Они уничтожат эклектичные узлы и освободят дома от смешения стилей и новые системы от старых вещей, ставших несовременными. Они придадут городам кубистические фасады…» (Малевич К. Супрематизм – беспредметный мир. Кёльн, 1962. С. 272[9 - Помимо сохранения архива, оставленного художником на попечение семейства фон Ризен, Ганс фон Ризен (1890–1969) предпринял беспримерный труд по переводу и изданию сочинения К. Малевича «Супрематизм. Мир как беспредметность». Впервые оно было выпущено в 1962 году и переиздано в Германии в 1989-м. – Прим. ред.]). Подобное уже давно стало для нас реальностью, но Малевич идет еще дальше: «Парящие планиты [ «план» – от «аэроплана»] будут определять новые планы городов и формы домов „землянитов“ [новое словообразование от «землян»]. В них будут звучать мелодии будущей музыки, новые голоса в грядущем хоре планит» (Там же. С. 274). Супрематическое представление Малевича о беспредметной культуре этим не исчерпывается. Культура, по мысли Малевича, оставляет коммунистическое развитие как переходное позади себя, стремясь к идее совершенства и обожествления человека, его состоянию абсолютной пассивности и возвращения ему утраченного блаженства.
Эти идеи совершенно чужды Штейнбергу. Он противопоставляет утопическому конструктивизму и супрематизму свое созерцательное понимание природы искусства. Экзистенциальная позиция Штейнберга, стоящая за этим толкованием, находит весьма ясное выражение в его письме «Мое дорогое дитя»: «Давай сядем над пропастью и, вместо смеха, просто тихо помолчим. Вспомним, немного вспомним – детство, юность, друзей, умерших и уехавших, наших родных, пространство, в которое мы были заброшены, наконец, время – и хоть немного отключимся от самости, от „Я“, и тогда даже не будет слез». В отказе от завербованности собственным Я Штейнберг видит основную задачу искусства, в чем он до какой-то степени роднится со своими авангардными предшественниками. Но если авангард растворял свое Я в коллективе, то Штейнберг, как явствует из приведенной цитаты, имеет в виду нечто иное. Его восприятие времени также в корне отличается от восприятия авангарда. Если взоры авангардистов были обращены к будущему как реализации утопических представлений, то у Штейнберга речь идет о личностно опосредованном времени памяти.
Картины Штейнберга ничего не навязывают зрителю, ничего от него не требуют – между ними созерцательные отношения. Важным условием для восприятия этих полотен становится способность зрителя к созерцательности, независимой от эстетической позиции. Для зрителя, который смотрит на них «мельком», «жирновато» и «лениво» (Шифферс Е. Идеографический язык Эдуарда Штейнберга), они закрыты. Если же зритель готов принять определенную установку, тогда его субъективное беспокойство поглотится светящимся, тихим космосом. Несмотря на геометризм, картины Штейнберга не имеют ничего конструктивистского, как и при всей абстрактной редукции – ничего аналитического. Вместо излюбленных авангардом основных черного и белого цветов у Штейнберга доминируют неброские, пастельные, нежные тона.
Несомненно, Штейнберг обращается к элементам мистической традиции, диаметрально противоположной утопической интенции. Речь идет не о стремлении к конструкции нового мира, а о погружении в нечто познанное как главное, редукции от внешней множественности к первопричине всего. Лежавшее в основе слова «мистика» слово «мио» (закрыть глаза) надо понимать у Штейнберга буквально как отказ от окружающего художника «газетного мира» (В. Ракитин), от окружения, заполненного угрожающими идеологическими лозунгами и монструозными изображениями. Закрывание глаз – это необходимый акт освобождения и дистанции от сверхмощной, кошмарной действительности, с которой художник чувствует себя в конфронтации. Это не единственная возможность отношения художника к реальности, но во всяком случае вполне законная. Совсем по другому пути идет, например, Эрик Булатов, который осуществляет акт дистанцирования, совмещая идеологические эмблемы и символику будней в некоем «социалистическом сюрреализме».
Завоевание аутентичной позиции по отношению к маразму господствующей культуры является центральной этической проблемой всех современных независимых художников в Советском Союзе. Утопическая установка, которой придерживались русские авангардисты, не может сегодня удовлетворить такой дистанционный подход, ибо она вылилась в трагическое крушение иллюзии. Штейнберг выражает свою позицию в формах далеких от будничной псевдореальности, для некоторых даже слишком далеких… Так же как Малевич, он мыслит на грани визуальной медиумичности в пределах живописи, добиваясь при этом трансформации внешнего в минимально возможное время.
В связи с вопросом об отношении художника к окружающей реальности необходимы некоторые разъяснения к заметкам Евгения Шифферса. Постижение этих текстов, кажущихся западному читателю весьма чуждыми, осложняется тем, что они в стремлении к трудно улавливаемому единству объединяют в себе как поэтические, так и метапоэтические высказывания, равно как и связывают религиозные (особенно буддистские и греко-православные), искусствоведческие, эстетические и культурно-философские интеллектуальные ходы. Особенно большую роль в мышлении Шифферса играет восходящий к К. Леонтьеву «азиатский» тип восприятия, медитативные и магические качества которого противопоставляются рационализму «среднего европейца». Здесь много точек соприкосновения со славянофильской ориентацией Штейнберга.
4. Картина как символо-творческая (языковая) модель. Картина как выговаривание осмысляемого
Память, припоминание неукоснительно связаны с мышлением, осознанием. Если припоминание осуществляется в определенных словах-понятиях, более или менее строго и последовательно организуемых, то можно говорить о логическом мышлении, дискурсивном понятийном мышлении. Акт осознавания связан здесь с припоминанием понятий и закономерностей увязывания понятий, которые были восприняты при обучении в школе, или философской, или семейной. Приводя на память припоминания понятия, человек логически, рационально мыслит. Его представления припоминаются оформленными в словесные понятия. Возможно и иное мышление, обычно соотносимое со сновидческой символикой, со снами, с неврозами, с фобиями. Здесь припоминание идет не рационально, но конкретно, «архаично», порой пугающе для добропорядочного рационалиста, считающего, что его рациональное мышление (или припоминание представлений в словах) есть вершинная точка «эволюции». Иногда подобное мышление называют «подсознанием», «бессознательным» и пр. и пр., хотя, конечно же, оно есть все то же мышление как припоминание представлений, которые были запечатлены, или запечатляются в настоящем, или будут запечатлены вне словесно-понятийного аппарата. Желания, детские до-языковые стремления – словом, всевозможные представления, так или иначе оформленные в знаки, – имеются в наличии и всегда готовы быть приведенными в действие для осознавания, которое выше «добра и зла» и может через припоминание порождать в человеке всю его жизнь как записи, как энграммы его тайных и явных желаний. Человек пишет свои знаки, свои представления, и память всегда может привести их ему налицо. Если он мыслит рационально в обычном состоянии, приводя на память школьные прописи, задавливая тайное, то в снах его сознание «припомнит» ему в других знаках, других представлениях его тайное, осуществляя желания ярко и архаично просто или наказуя за некое недозволенное столь же архаично и столь же ярко… Память, постоянная память, память постоянного воспроизведения, припоминание в определенных знаках – все эти (и подобные словосочетания с памятью как корневищем) структуры слов доминируют в аскетическом словаре от православного исихазма до буддийской йоги. То, что воспроизводит память постоянно, то человек и знает. Иного пути нет. Медитация как волевое припоминание, то есть введение в память определенных представлений, лежит в основе почти всех аскетических систем. Когда святой пребывает в памяти Свето-мышления, то его сознание, очищенное от всяких представлений и потому молчащее, пребывает в Свете, созерцая Свет. Молчание в светосозерцании – таков идеал красоты древних. Блаженство покоя и знания, любверастворимость и сострадание, созерцание Света и восхищение Премудростью Творца – таков арсенал постоянного памятования святого. Картина же художника являет из себя символо-творческое мышление как говорение, как языковую модель речи, осмысляющей в припоминании символических представлений тот уровень творческого состояния, когда художник «грезил», оставляя рассудочные представления, проникая в энергийные поля идей-ангелов, чтобы, нисходя, осмыслить это опять-таки не рационально, не словесно-понятийно, но в универсальных идеограммах иных представлений. Картина есть модель мышления вообще и модель определенного мышления в частности. Картина символична, поэтому может быть заполнена в формуле-символе разнообразным понятийным содержанием. Картина есть символ-формула, модель, символо-творческая языковая модель. Она поддается философскому анализу, потому что принадлежит «полю философии». Чем более глубинно, «до-цивилизованно» будет погружаться творческое сознание художника, тем более простыми, архаичными, конкретными и универсальными будут его припоминательные идеограммы представления. Это представляется ясным, ибо «специализация» языков, наиболее явно данная в языках наук XX столетия, а менее явно – в языках народностей, есть продукция достаточно близких исторических сроков. А вхождение в глубины творческих состояний, чтобы осознавать их в припоминании в архаичных же (соответствующих тому заисторическому языку) представлениях-идеограммах, соотносимых, скажем, с «допотопным» временем, дает простоту и минимальность алфавитных единиц. Я употребляю эти слова отнюдь не метафизически, нет, я говорю, что осознание мира в «до-потопные» времена могло быть совершаемо в совершенно иных представлениях, глубинно хранящихся в памяти вселенной как некие архетипы; что пребывание в полях этих представлений творческое сознание художника на нисхождении будет осознавать, выговаривать в припоминании представлений этого языкового уровня. Так может появиться на полотнах «абстракционистов» пусть разрушенный и требующий кропотливой дешифровки, но алфавит универсального праязыка, более конкретного, более зрительного, менее «болтливого»… Художник в творческом состоянии записывает, припоминая, присущие тому языку представления; или, скажем, оплотняет в сновидческих символах свои задавленные влечения, как это делают «сюрреалисты». Чем чище, чем архаично проще, чем благочестивее жизнь художника, тем глубже будут его погружения, тем символичнее, метафизичнее будут его представления в символо-творчестве картины как языковой модели выговаривания памятью для осознания иных уровней. Я уже говорил, что самый высокий уровень, самая последняя глубина в припоминании – это святость, где символы «верха» и «низа» уже пребывают нераздельно и неслиянно в антиномиях православного мистического опыта.
Но лестница восхождения не закрыта никому, ни единому делу во славу Божию. Молящийся, труждающийся в исполнении заповедей Господних, старающийся не судить, ходящий в простоте в храм к исповеди и причастию, непрестанно творчески работающий художник будет все глубже и глубже погружаться в хранилище вселенской памяти, чтобы как подлинный любитель древностей заводить свою «лавочку» антикварных изделий из «идей-символов». Когда-нибудь начнут покупать эти самые антикварные изделия, хотя они будут выполнены современником. Картина художника представляет (вся совокупность его картин: тех, которые уже написаны, тех, которые пишутся, и тех, которые будут написаны, вплоть до созерцания «первоявленных икон», чтобы стать уже иконописцем, а не живописцем!) выговаривание узнанного на архаичном, идеографическом, «до-потопном», а то и «до-допотопном языке». Картина есть целое, где частные элементы подчинены целому, вступают в своеобразные взаимоотношения, неуловимо сопрягая друг друга в связи, ритмы, рифмы, смыслы. Ибо ясно, скажем, что единичный куб или единичный круг при сопряженности образуют связь куб – круг, где единичное каждого элемента сохраняется, но порождает и новое звучание, зависящее от соседствующего элемента. Можно говорить об определенной иллюзии изменения, перетекания, подобной «перетеканию» гласных в фонемах. Пирамида, которая, скажем, представлена на холсте, остается быть пирамидой, но вместе с тем происходит и своеобразное иллюзорное преломление, ибо в соседстве с белой сферой она уже не просто единичная пирамида, какой бы была она вне континуумного сопряжения со сферой. Пирамида вступает в языковую связь целого, если, к примеру, данное на холсте целое представлено композицией звучания из двух элементов. Можно понять по тяге, пространственно выражаемой в фиксированной деформации того или иного элемента целого, при сохранении недвижимости и неизменности другого элемента, их синтаксические связи… Скажем, если на холсте ПИРАМИДА имеет тенденцию вскрыться, раскрыть себя, показуя свою сопряженность с белой сферой, а сфера пребывает центрующейся и прячущейся за белый цвет, то можно говорить об определенной онтологической первичности сферы, символически показанной в припоминательной модели-картине вот таким образом. Таковое осмысление диктуется не только, повторяю, центрующим положением сферы (нуля, абсолюта, самого совершенного, прячущегося в свете, излучающего крест, белый цвет и свет), но именно внутренней потребностью Пирамиды грациозно изменить себя, так или иначе связав с подлежащим картины. Чем выше будем восходить мы в осмыслении символического языка, тем бездоннее будут ассоциации, ибо СИМВОЛ как таковой может быть загружен самым разнообразным конкретным содержанием… Сфера и пирамида… Пирамида тяготеет к раскрытию себя на составляющие, пребывая неизменной, и сфера, словно укрывшаяся образом сферы, как белым очерченным кругом… ЧТО там, за белым образом сферы? Сфера ли?
Это неизвестно, это не явлено, явлена лишь сфера сферы, образ образа, скорее в свете скрывающая собою что-то, нежели открывающая… Ясно, что, чтобы проникнуть туда, за белый абрис, надо войти в белый абрис сферы, пребывать в нем… Как? Вот пирамида, она словно указует путь, ибо устремлена, раскрыта и туда, к сфере белизны, и сюда, к земле, очерченной нижней горизонталью, ибо пирамида стоит на земле, которая подчиненно деформировалась к пирамиде, почти «осела» под пирамидным нисшествием и стоянием. Пирамида – огонь… Сфера – беспредпосылочный нуль… Белый абрис явленной сферы – Свет. Я говорю: так могла открываться Святая Троица на определенных уровнях; так, в символах, могла Она показать Себя… Дух Святой, Отец, Сын – Отец, и Сын, и Дух Святой – так открыл Себя Таинственный чрез Сына в Духе Святом, так записал Троицу, Трех Запредельных пред Евхаристической Чашей, преп. Андрей Рублев; но возможна и в иных символах языковая модель о Боге Живом, о Его и нашем сопряжении в Крещении и Евхаристии, нисшествии в разделяющихся языках, огненных на персть человека, вознося сожженную землю в свет, чтобы в свете быть вознесенным к ТОМУ, Кто за светом, Кто столь слепителен, что Его сияние поражает слепотой любое зрение… Я говорю: символо-творчество, выговариваемое в припоминании представлений-идеограмм картин Штейнберга, есть речение о церкви как о Теле Сына и полноте Духа, как о Свете и о пути в Свет с земли через огненное крещение…
Но… говорим осторожно, почти шепотом, говорим – повторим темные слова Гераклита Темного – не потому говорим тихо и темно, что боимся, но потому, что самая ясная ясность будет все же темнотою для всякого, кто еще не был пронизан и уязвлен красотой Невечернего света, тихо-тихо говорим: «путь вверх таков же, что и путь вниз».
…На универсальном языке идеограмм… Я говорю: Православное учение о Троице можно реконструировать через наиболее ясные и успокоенные символические композиции художника Штейнберга, через анализ сопряжений единой фразы и ее составляющих: ибо и белая сфера, и пирамида порождены сокрытым под-лежащим, беспредпосылочным для них началом. Путь вниз есть тот же самый, что и путь вверх… Снятие противопоставительных «оппозиций», вплоть до снятия оппозиции «нирвана-сансара» (по словам Нагарджуны, «предел» нирваны есть и «предел» сансары) – снятие оппозиций, говорю, характеризует ступени (бхуми) медитативного восхождения бодхисаттвы… Символ – это модель. Как целое он может быть нераздельно разложен на единичные классификаторы, могущие быть по-разному выраженными в синонимичности, могущие быть и вариационно рассматриваемыми в простоте значений: Огонь, Земля, Нуль, Вода… Можно вспомнить Платона, глядя на холст, с его вероятностным учением о «белом» как расширяющем поле луча при порождении цветов огня, и «черном» как сужающем поле луча зрения при порождении иных цветов огня, ибо почти «диафрагмически» даны на холсте две «линзы», отверзающие для усмотрения недра пирамиды; можно даже удивиться почти иллюстративным совпадениям текста «Тимея» на этот счет и текста картины на этот счет, можно погружаться и далее, и далее… Вверх, вытягиваясь вершиной прямоугольника до бесконечной прямой, перекрещивающейся с горизонталью вод, чтобы вновь вернуться к центру сферы, пройдя путь склонения пирамиды к сфере, чтобы увидеть и неотделимую отделенность световой вспышки образа от праобраза… Символы вечного бытия дают возможность пребывать в припоминании как таковом, в припоминании в поле символа, а не в конкретных полях конкретных языковых представлений.
Картина, если молча сидеть и молча и долго смотреть, никуда не торопясь, остановившись перед символом, начнет говорить, да, да, можно услышать ее безмолвие… Символо-творчество успокаивает мятущийся в специализации современный мир, возводит его к глубинам пракультур, снимает напряженность конкретной практики, возвышает до архаики, ставит все на свои места: тварное ищет красоты и покоя в Красоте и Свете Того, Кто призвал мир к существованию Крестом Своим… Выговаривание припоминания на универсальном языке проводит работу в фиксации символов глубже «психоанализа»… Смотреть на символо-творчество психотерапевтически полезно для излечения, смотрение может стать пусть пока недостаточно волевой, но явно медитативной практикой – своеобразным «букварем», где зарисованы универсальные буквы и универсальные фразы хорошей «начальной школы»…
На этом я решаю остановиться. Я хотел показать, что подобный подход, которым, быть может, вдохновится и более внимательный исследователь творчества художника Э. Штейнберга, продуктивен.
Помоги, Боже, Родной и Далекий, рабу Твоему, припоминающему свидетельство о Тебе и Твоей церкви!
Москва, 1973
Московский дневник[4 - Отрывок из статьи «Московский дневник» (1973), вошедшей в книгу: Халупецкий И. «Авангард: место в жизни». М., 2000.]
Индржих Халупецкий
Эдуард Штейнберг живет в небольшой симпатичной квартире и там же работает. Он родился в 1937 году, то есть младше тех, у кого я побывал до сих пор. К тому же, в отличие от них, он не получил художественного образования. Он прирожденный художник, живопись для него – самый естественный способ жизни и самовыражения.
Близится вечер, и Штейнберг быстро достает одну картину за другой. В основном это прекрасная живопись классического французского типа; пожалуй, самое чистое художественное проявление из всего увиденного мною в Москве. Все картины Штейнберга написаны белым; когда я видел их впервые, художник создавал их короткими импрессионистскими мазками, теперь он часто пользуется шпателем, поэтому поверхности кажутся выполненными из лаков, и в то же время он упрочнил конструкцию картин. В их абстрактной концепции повторяются несколько личных символов – мертвая птица, бычий череп. Они входят в картину совершенно логично: эта чистая живопись – не только чистая живопись. Картина здесь – инструмент познания, и в то же время все краски в ней сводятся к белой гамме, абстракция картины становится символом метафизического плана, открываемого за формами чувственно воспринимаемого мира, и белое сияние, излучаемое картиной, – итоговое открытие художника.
Штейнберг показывает мне картину за картиной в уютной комнате своей квартирки; но мне хотелось бы видеть их развешенными рядом в пустом помещении, в которое они могли бы свободно лить свой белый свет – они сделали бы абстрактным все пространство. Тут бы даже не выставка потребовалась, а скорее какая-то сакральная архитектура.
Я напоминаю Штейнбергу об экуменической часовне Ротко, и Штейнберг живо соглашается: из всех слайдов, которые я показывал, она заинтересовала его больше всего.
Москва, 1972
Бытие числа и света (о творчестве Эдуарда Штейнберга) [5 - Статья не была опубликована и распространялась в самиздате.]
Виталий Пацюков
Творчество Эдуарда Штейнберга, как и любого московского художника его круга – И. Кабакова, Э. Булатова, В. Янкилевского, М. Шварцмана, В. Пивоварова, – основано на принципе нерасчлененности искусства и жизни, мировоззрения и повседневного бытия, на единстве человеческого духа, которое раскрывается ежеминутно и повсюду, снимая оппозиции «Я» и «МИР».
Мировоззрение Э. Штейнберга пронизано острым чувством христианской истории. Нравственное начало – самое отличительное свойство его искусства – не выявляется в его композициях внешне: через сюжет, тему или предмет изображения; оно заключено и в каждой отдельной конфигурации, и во всей архитектонике произведения, выбирая простейшие элементы для своих композиций, такие как крест, треугольник, квадрат, круг, вошедшие в сознание человечества еще на заре цивилизации и возрожденные христианским символизмом, и в то же время универсальную систему идеографических знаков, направленную к высшим ступеням познания и бытия.
Художник родился 3 марта 1937 года в Москве, в семье известного поэта и переводчика Аркадия Штейнберга. Творческая зрелость, осознание себя как личности пришли к художнику не через традиционную систему академического художественного воспитания. Созданию его эстетического мировоззрения предшествовал длительный духовный процесс, сосредоточенный, упорный труд, направленный на религиозно-философское и художественное самообразование и обретение совершенства в живописном мастерстве. Традиции русского супрематизма, конструктивизма и неопластицизма (К. Малевич, Л. Попова, И. Клюн и особенно поздний В. Кандинский) достаточно сильно звучат в его искусстве, но не остаются формальной разработкой испытанной системы, а органически сливаются с новой экзистенцией духа, свойственной всей сегодняшней школе московского авангарда, наполняя полотна Штейнберга подлинной поэзией. При всем родстве с пластикой супрематизма и позднего В. Кандинского художественный язык Э. Штейнберга можно сопоставить с этими мастерами лишь условно. Например, при внешнем совпадении формализованных структур К. Малевича и Э. Штейнберга (квадрат, треугольник, крест) они онтологически не тождественны и служат противоположным целям и идеям. В центре мировоззрения Э. Штейнберга стоит не отчужденная проблема духа – «ничто покоя» (К. Малевич), а проблема бытия, переживания и воплощение внутреннего опыта. Символика Э. Штейнберга, рожденная постоянной интеграцией христианских архетипов, непрерывно созидается, и в этом суть ее.
Еще более отчетливая граница разделяет позиции Штейнберга и конструктивистов. Последняя ориентирована на «производственную идеологию», на искусство непосредственно утилитарное, обращенное к построению образцовых моделей, стандартизации и рационализации жизни во всех ее проявлениях. В свою очередь, опоры в осуществлении идеи «жизнестроительства», столь популярной у русского авангарда 1910–1920-х годов, художник ищет не в трактатах теоретиков ЛЕФа, а в работах их современников-антагонистов: теоретика журнала «Маковец» о. Павла Флоренского и теоретика символизма Вяч. Иванова, мечтавших о создании непрерывной жизненной среды, пронизанной эстетическими, нравственными и религиозными устремлениями. Эта убежденность в жизненном значении искусства, эта органическая нерасторжимость мироощущения, переживания и взаимоотношения с материалом сопровождают любой художественный акт Э. Штейнберга.
«Я хочу быть делателем новых знаков» – вот кредо, сформулированное Казимиром Малевичем.
«Знак – это или припоминание, или тоска по истине. Он свободен от времени»[6 - Беседа Э. Штейнберга с С. Аккерманом и Ж. Бастианелли // Эдуард Штейнберг. Материалы биографии. М.: Новое литературное обозрение, 2015: «Может быть, в этом знаке без времени есть формула религиозной, духовной и материальной культуры. Тут уже свобода выбора». – Прим. ред.] – такова позиция Эдуарда Штейнберга.
Каждый холст художника – это страница его дневника, свидетельство состояния его души, его тоски по совершенству, воплощенному в органической красоте природы (спираль раковины, крыло птицы, созвездие цветка) и обретающему свой конечный смысл в совершенстве мирового целого.
Если иерархически сложный, символический язык художника перевести на условные термины искусствоведения, то его можно определить как оптический неопластицизм. Он как бы интегрирует аксиологические схемы катакомбных первохристианских изображений, открытия русского авангарда первых двух десятилетий нашего века, разработки в области оп-арта, эксперименты с энергией света европейского и американского неоавангарда (взаимоотношения с оп-артом и неоавангардом следует рассматривать скорее как антитезис). Оптический неопластицизм Э. Штейнберга, осуществляющий связь явлений видимого мира и соответствующих им идей невидимого, сокровенного, можно поименовать спиритуальным или метафизическим реализмом.
Символическая структура полотен Э. Штейнберга обусловливается сложной системой функциональных знаков, подчиненных композиционно ритму и пространственной ориентации. Каждая конфигурация фиксирует определенную зону в пространстве, каждый элемент поставлен в четкую эмоциональную и конструктивную связь с соседним, каждый отдельный пластический знак составляет органическую часть всей архитектоники холста. Особенно характерны в этом отношении «композиции» со строгим взаимодействием земной и небесной кулис, где внутреннее пространство между ними уподобляется гигантскому окну в космос. Они напоминают пейзажные свитки дзен, построенные на идеографическом триединстве Неба, Земли и Человеческого Мира.
Композиции 1975–1979 годов характеризует не только напряженная структуральность, но и символическая цветовая иерархия пространства, излучающего фактически не цвет, а световую энергию. Превращаясь в носителя света, цвет становится основным пространственным фактором. Свет как суггестивная сила приобретает функции доминирующего атрибута поэтики художника. Спонтанно рожденная световая идеография языка Штейнберга коренится в традициях московской школы иконописи, в учении святых отцов православной церкви о несотворенной предвечной природе света. Поэтому и искания Э. Штейнберга, будучи параллельными экспериментам современных светокинетистов (Николас Шёффер, Хулио Ле Парк) и неоавангардистов типа Дэна Флавина, противоположны последним не только по своему методу, но и целевой установкой. Э. Штейнберг несет этический посыл, сознательно отвергая новые технологические сродства, ограниченные внешней информацией и рассчитанные на визуальную рефлексию. Он, избегая рельефной поверхности, с помощью кисти и шпателя тщательно втирает краску в холст, строит форму, а не растворяет ее в мозаике мазков. Прозрачными лессировками обрабатывая верхний красочный слой, достигая этим эффекта светоизлучения поверхности, он лишает цветовые структуры признаков чувственного и возвращает им традиции византийского колорита и трансцендентную направленность. Мягкое свечение полотен Штейнберга снимает действие естественных источников света и создает особую медитативную среду, поглощающую реальное пространство.
Цвето-световая символика художника многозначна и не всегда поддается точной расшифровке. Например, его белый цвет – это еще и четкая форма, символ, цвет «предвечного безмолвия», тот самый феномен (включающий в себя потенциально любые реальности), который предлагался уже не раз в искусстве XX века («Белое на белом» К. Малевича, чистый холст В. Татлина, Р. Раушенберга). Оппозиция «черное – белое» довольно редка в идеографии Штейнберга, значительно чаще семантика черного заменяется темно-голубым или темно-синим (период, связанный со смертью матери).
Конструируя свои пластические пространства, Э. Штейнберг создает собственную модель космоса, где в колебании красок, в спокойном ритмическом перемещении линий и плоскостей, в светоизлучении слышатся отзвуки всеобщей гармонии. В понимании художника космос – упорядоченное целое, обладающее бесконечным многообразием возможных проявлений, определяемых числом 3. Такое обращение художника к философии чисел, к их магии, к идее иерархической обусловленности пространства и времени сближает его искусство с поэтикой Велимира Хлебникова («Доски судьбы») и философско-религиозной концепцией о. Павла Флоренского. Свои числовые соотношения и линейные построения, нередко обретающие чисто музыкальные формы, Э. Штейнберг приравнивает к идеальным математическим конструкциям, выражая их иногда знаком ? (бесконечность) или числами 1, 3, 7, 8. Число у него превращается в некий универсальный ключ – окно в сотворенный художником космос. Здесь, в нераздельном слиянии числа и света, художественные структуры обретают символ миропорядка с подвижным равновесием и многообразным единством.
В отличие от новоевропейского типа художественного мышления, определяемого личной точкой зрения на мир и волевым усилием художника, творческий метод Штейнберга обусловлен объективизацией и аскетическим самоотречением. Энергетийные конструкции Штейнберга, указывающие на недоступность мира идеальных сущностей и в то же время их вездесущность, подчинены динамическому движению от произведения к зрителю, что соответствует «магической» концепции византийского искусства, – эти многогранные идеографические архетипы обладают активным силовым полем и рассчитаны на диалогическое общение, в котором творческий замысел художника достигает подлинного концептуального существования.
Москва, 1978
От конструкции к созерцательности – Эдуард Штейнберг и русский авангард[7 - Статья опубликована на немецком языке в каталоге: E. Stejnberg. Katalog zur ausstellung im Zentrum f?r interdisziplin?re Forschung der Universit?t Bielefeld. 1982.]
Ханс Гюнтер
Близость Штейнберга к классическому искусству русского авангарда, к Малевичу и Кандинскому не раз отмечалась художественной критикой. Она самоочевидна при взгляде на его картины и находит подтверждение в высказываниях самого художника. Причастность Штейнберга к авангардистскому творчеству, прерванному на целые десятилетия, в то же время не должна быть понимаема как простая преемственность, как будто бы в промежутке между 1920-ми и 1960-ми ничего существенного в истории и в искусстве России не произошло. Наоборот, надо иметь в виду, что исторический, художественный и жизненный опыт десятилетий, отделяющих Штейнберга от авангарда, нашел свое выражение в его творчестве. Этот момент должен стать исходным для следующих рассуждений.
Прежде всего, несомненно, что при всей связи Штейнберга с авангардистскими традициями он категорически отрицает их конструктивистские, утилитарные тенденции продуктивного искусства. В дизайне Лисицкого, Родченко или учеников Малевича – Чашника и Суетина – Штейнберг видит трагическое «извращение авангарда» («Записки с выставки»), который изначально исходил из преодоления материальной реальности через духовное, из супрематики духа. За критикой в «социологизме» и утилитаризме стоит не только отрицание любой государственной завербованности искусства, которая в первые годы после революции программно приветствовалась многими авангардными художниками в их слепом рвении к прогрессу, но и отказ от футуро-утопической ориентации большей части русского – и не только русского – авангарда.
Лисицкий, например, окрыленный утопическими революционными надеждами, видел в изображенных им объектах – проунах – перевод от двухмерной плоскости к трехмерным пространственно-архитектоничным моделям, перевал на пути осуществления конструкции всемирного коммунистического города землян. Проун, по Лисицкому, ведет «созидателя от созерцания к действительности» (Эль Лисицкий. Проун и Небесный Утюг. Дрезден, 1967. С. 32). Для Штейнберга, придерживающегося созерцательной позиции по отношению к действительности, «проуны» Лисицкого являются «пришельцами из давно забытого времени»[8 - Штейнберг Э. Записки с выставки // Эдуард Штейнберг. Материалы биографии. М.: Новое литературное обозрение, 2015: «Судьба Эль Лисицкого трагична. Его „проуны„ – пришельцы из давно прошедшего времени. Его дизайн – оборотень Авангарда. Аналогична судьба и учеников К. Малевича – И. Чашника и Н. Суетина, да и А. Родченко с В. Степановой».] («Записки с выставки»).
И у Малевича (с которым Штейнберг чувствует себя особенно связанным) с начала 1920-х начинают проглядывать черты утопического мышления. Они выразились, с одной стороны, в стремлении художника к освобождению вещей от «эклектицизма» привычных форм, с другой – в его надежде на реализацию утопических проектов. «Новаторы во всех областях искусства выравнивают улицы городов. Они уничтожат эклектичные узлы и освободят дома от смешения стилей и новые системы от старых вещей, ставших несовременными. Они придадут городам кубистические фасады…» (Малевич К. Супрематизм – беспредметный мир. Кёльн, 1962. С. 272[9 - Помимо сохранения архива, оставленного художником на попечение семейства фон Ризен, Ганс фон Ризен (1890–1969) предпринял беспримерный труд по переводу и изданию сочинения К. Малевича «Супрематизм. Мир как беспредметность». Впервые оно было выпущено в 1962 году и переиздано в Германии в 1989-м. – Прим. ред.]). Подобное уже давно стало для нас реальностью, но Малевич идет еще дальше: «Парящие планиты [ «план» – от «аэроплана»] будут определять новые планы городов и формы домов „землянитов“ [новое словообразование от «землян»]. В них будут звучать мелодии будущей музыки, новые голоса в грядущем хоре планит» (Там же. С. 274). Супрематическое представление Малевича о беспредметной культуре этим не исчерпывается. Культура, по мысли Малевича, оставляет коммунистическое развитие как переходное позади себя, стремясь к идее совершенства и обожествления человека, его состоянию абсолютной пассивности и возвращения ему утраченного блаженства.
Эти идеи совершенно чужды Штейнбергу. Он противопоставляет утопическому конструктивизму и супрематизму свое созерцательное понимание природы искусства. Экзистенциальная позиция Штейнберга, стоящая за этим толкованием, находит весьма ясное выражение в его письме «Мое дорогое дитя»: «Давай сядем над пропастью и, вместо смеха, просто тихо помолчим. Вспомним, немного вспомним – детство, юность, друзей, умерших и уехавших, наших родных, пространство, в которое мы были заброшены, наконец, время – и хоть немного отключимся от самости, от „Я“, и тогда даже не будет слез». В отказе от завербованности собственным Я Штейнберг видит основную задачу искусства, в чем он до какой-то степени роднится со своими авангардными предшественниками. Но если авангард растворял свое Я в коллективе, то Штейнберг, как явствует из приведенной цитаты, имеет в виду нечто иное. Его восприятие времени также в корне отличается от восприятия авангарда. Если взоры авангардистов были обращены к будущему как реализации утопических представлений, то у Штейнберга речь идет о личностно опосредованном времени памяти.
Картины Штейнберга ничего не навязывают зрителю, ничего от него не требуют – между ними созерцательные отношения. Важным условием для восприятия этих полотен становится способность зрителя к созерцательности, независимой от эстетической позиции. Для зрителя, который смотрит на них «мельком», «жирновато» и «лениво» (Шифферс Е. Идеографический язык Эдуарда Штейнберга), они закрыты. Если же зритель готов принять определенную установку, тогда его субъективное беспокойство поглотится светящимся, тихим космосом. Несмотря на геометризм, картины Штейнберга не имеют ничего конструктивистского, как и при всей абстрактной редукции – ничего аналитического. Вместо излюбленных авангардом основных черного и белого цветов у Штейнберга доминируют неброские, пастельные, нежные тона.
Несомненно, Штейнберг обращается к элементам мистической традиции, диаметрально противоположной утопической интенции. Речь идет не о стремлении к конструкции нового мира, а о погружении в нечто познанное как главное, редукции от внешней множественности к первопричине всего. Лежавшее в основе слова «мистика» слово «мио» (закрыть глаза) надо понимать у Штейнберга буквально как отказ от окружающего художника «газетного мира» (В. Ракитин), от окружения, заполненного угрожающими идеологическими лозунгами и монструозными изображениями. Закрывание глаз – это необходимый акт освобождения и дистанции от сверхмощной, кошмарной действительности, с которой художник чувствует себя в конфронтации. Это не единственная возможность отношения художника к реальности, но во всяком случае вполне законная. Совсем по другому пути идет, например, Эрик Булатов, который осуществляет акт дистанцирования, совмещая идеологические эмблемы и символику будней в некоем «социалистическом сюрреализме».
Завоевание аутентичной позиции по отношению к маразму господствующей культуры является центральной этической проблемой всех современных независимых художников в Советском Союзе. Утопическая установка, которой придерживались русские авангардисты, не может сегодня удовлетворить такой дистанционный подход, ибо она вылилась в трагическое крушение иллюзии. Штейнберг выражает свою позицию в формах далеких от будничной псевдореальности, для некоторых даже слишком далеких… Так же как Малевич, он мыслит на грани визуальной медиумичности в пределах живописи, добиваясь при этом трансформации внешнего в минимально возможное время.
В связи с вопросом об отношении художника к окружающей реальности необходимы некоторые разъяснения к заметкам Евгения Шифферса. Постижение этих текстов, кажущихся западному читателю весьма чуждыми, осложняется тем, что они в стремлении к трудно улавливаемому единству объединяют в себе как поэтические, так и метапоэтические высказывания, равно как и связывают религиозные (особенно буддистские и греко-православные), искусствоведческие, эстетические и культурно-философские интеллектуальные ходы. Особенно большую роль в мышлении Шифферса играет восходящий к К. Леонтьеву «азиатский» тип восприятия, медитативные и магические качества которого противопоставляются рационализму «среднего европейца». Здесь много точек соприкосновения со славянофильской ориентацией Штейнберга.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: