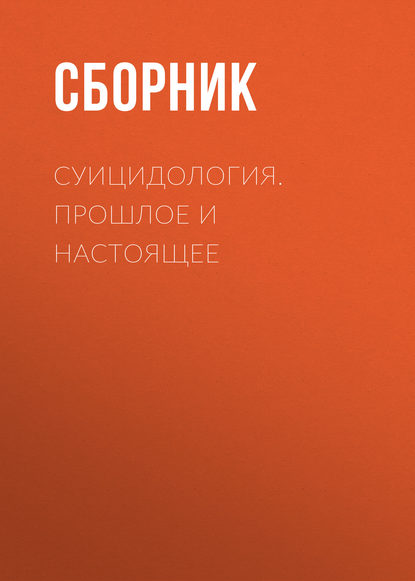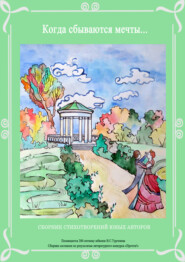По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Суицидология. Прошлое и настоящее
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пойдем и мы за нашими телами,
Но их мы не наденем в Судный день:
Не наше то, что сбросили мы сами.
Мы их притащим в сумрачную сень,
И плоть повиснет на кусте колючем,
Где спит ее безжалостная тень.
(13, 94–106)
Жесткие установки христианства, закрепленные на Западе постановлением Тридентского собора (1568), официально признавшего на основании заповеди «Не убий» суицид убийством, почти на полтора тысячелетия сформировали соответствующие законодательные меры в большинстве государств Европы и определили доминирующее отношение общества к самоубийцам. Сегодня большинство христианских конфессий, хотя и не отходит от твердого этического кодекса по отношению к суицидам, но на практике стремится проявлять толерантность и учитывать глубинные психологические причины и социальные факторы самоубийств. Протестантский теолог Дитрих Бонгеффер, расстрелянный нацистами в тюрьме, осуждал суицид как грех, совершая который, человек отрицает Бога. И все же он не распространял это на военнопленных, жертв холокоста или концентрационных лагерей.
Эпоха Возрождения стала возрождением и для взглядов античных философов на самоубийство, прежде всего в смысле более взвешенного отношения к нему по сравнению с порой средневековья. В «Опытах» французского мыслителя Мишеля Монтеня (1533–1592) эта проблема становится не только экскурсом в античность, но и оправданием допустимости самоубийства в психологическом смысле («По-моему, невыносимые боли и опасения худшей смерти являются вполне оправданными побуждениями к самоубийству»,[8 - Монтень М. Опыты. В 3 т. – М.: Терра, 1996, т. 1, с. 324.] – пишет он в главе «Обычай острова Кеи») и в правовой плоскости («Подобно тому, как я не нарушаю законов, установленных против воров, когда уношу то, что принадлежит мне, или сам беру у себя кошелек, и не являюсь поджигателем, когда жгу свой лес, точно так же я не подлежу законам против убийц, когда лишаю себя жизни»[9 - Там же, с. 313.]).
Вслед за Монтенем христианскую апологию самоубийства, трактат «Биaтанатос», создает английский поэт и мыслитель, родоначальник «метафизической школы» Джон Донн (1572–1631), завещавший опубликовать его только после своей смерти.
Новое время продолжило традицию толерантного отношения к суициду, что нашло классическое выражение в знаменитом эссе английского философа Дэвида Юма (1711–1776) «О самоубийстве». С позиций разумного скептицизма Юм досконально исследовал мир нашего опытного знания как необходимую основу для любых возможных умозрительных обобщений и, разумеется, не мог пройти мимо суицида как значимой части человеческого опыта.
Интересна история его появления на свет, совершенно определенно характеризующая отношение тогдашнего британского общества к обсуждаемой проблеме. Написанное между 1755 и 1757 годами для сборника философских эссе, оно по совету друзей было изъято Юмом уже во время печатания из-за опасности преследований со стороны духовенства пресвитерианской Шотландии (отношение которого к Юму и без того было критическим – ему так и не удалось реализовать академическую карьеру у себя на родине). Оставшиеся двадцать лет жизни Юм проявлял большое беспокойство, что некоторые оттиски могли сохраниться и оказаться в обращении, и опубликовано это эссе было только после смерти автора, да и то анонимно. Лишь Полю Гольбаху удалось при жизни Юма опубликовать французский перевод этого произведения. Не менее любопытна история его публикации в России. Напечатанное в 1908 году в пору расцвета русской суицидологической мысли, оно до 1996 года ни разу не удостоилось переиздания.
Юм полагал, что вопрос о самоубийстве нисколько не противоречит промыслу Божьему. Его закон проявляется не в отдельных событиях, а только в общей гармонии. Все события производятся силами, дарованными Богом, а потому и всякое событие одинаково важно в беспредельной вечности. Добровольно прекращающий свою жизнь человек вовсе не действует против воли Божьей, его промысла и не нарушает мировой гармонии. После нашей смерти элементы, из которых мы состоим, продолжают служить мировому прогрессу.
Закономерен и интерес немецкой классической философии к проблеме самоубийства. Критический гений Иммануила Канта (1724–1804) здесь дал сбой, и, по сути, великий немецкий философ продолжил традицию Фомы Аквинского, заявив, что самоубийство является оскорблением человечества (1788). Очевидно, проблема суицида досадным образом нарушала логическую и эстетическую целесообразность в природе и человеке. Для философов, которые стремились к созданию всеохватывающих и логически ясных систем, основанных на синтезирующих принципах разума, в лучшем случае был характерен взгляд свысока на такие феномены опыта, как самоубийство, упрямо не желающие ложиться в прокрустово ложе мыслительных обобщений. Кант оправдывал абсолютный моральный запрет на самоубийства ввиду присущего этому акту внутреннего противоречия: мы не можем предпринимать попытки улучшить свою участь путем полного саморазрушения; самоубийство – это эгоистический акт, поэтому оно парадоксально и на основании логики является актом поражения. Функцией чувства любви к самому себе является продолжение жизни, и она входит в противоречие с собой, если приводит к самоуничтожению. В этих рассуждениях нельзя не усмотреть амбивалентности – наличия двух несовместимых целей, нередко проявляющихся в акте добровольного ухода из жизни: желания умереть и желания улучшить свою жизнь.
Иначе рассуждал Артур Шопенгауэр (1788–1860) (ему принадлежит фраза: «Великие истины рождаются в сердце»[10 - Schopenhauer A. Welt und Mensch / Aus wahl aus dem Gesamtwerk von A. Hubsher. – Stuttgart, 1976, S. 17.]), кого по степени личного отношения к проблеме вполне можно было бы отнести к «оставшимся в живых». Есть все основания предполагать, что тяжелая инвалидность отца, в конце концов приведшая его к смерти, была следствием его попытки добровольного ухода из жизни и, разумеется, семейным «скелетом в шкафу». А драматические перипетии собственной личной истории сделали одиночество для философа естественным состоянием и породили отношение к жизни, в которой невозможно счастье и торжествует зло и бессмыслица («…история каждой жизни – это история страданий, ибо жизненный путь каждого обыкновенно представляет собой сплошной ряд крупных и мелких невзгод»[11 - Шопенгауэр А. Собр. соч. В 5 т. – М.: Московский Клуб, 1992, т. 1, с. 308.]). Если отрицается «воля к жизни», то возникает экзистенциальная вина, которая, усугубляясь, ведет к различным степеням самоотрицания человеческой самости вплоть до самой кардинальной. Последняя иллюстрируется примером гетевской Гретхен. Но в то же время только в самом человеке, в бездне его жизненного неблагополучия и неизбывных страданий берут начало надежда и сочувствие. Феноменологическая отзывчивость Шопенгауэра способствовала тому, что лучшие страницы «Мира как воли и представления» посвящены его мыслям о природе самоубийства. В данную книгу включены отрывки из менее известного сочинения философа – «Новые паралипомены».
Поводом для размышлений Ф. М. Достоевского над проблемой самоубийства в «Дневнике писателя» за 1876 год послужило самоубийство в декабре 1875 года во Флоренции 17–летней Елизаветы Герцен, дочери А. И. Герцена и Н. А. Тучковой-Огаревой, покончившей с собой из-за неразделенной любви к 44–летнему французскому этнографу-социологу Шарлю Летурно. Это чувство резко обострило и без того напряженные внутрисемейные отношения и породило гиперболизированно трагическое восприятие у нервной и впечатлительной девушки.
Ее «аристократически-развратному» уходу из жизни, который возмутил писателя, он противопоставляет «нравственно-простонародное» – кроткое, смиренное самоубийство швеи, выбросившейся из окна с иконой (позже она послужила писателю прототипом главной героини повести «Кроткая»). Кроме того, он моделирует внутренний монолог «самоубийцы от скуки», «идейного самоубийцы», разочаровавшегося в мироздании, который вполне мог бы принадлежать его современнику – Филиппу Майнлендеру (1841–1876). Этот немецкий философ создал теорию, трактующую историю вселенной как агонию разлагающихся частиц умершего Бога, и обосновал необходимость собственного добровольного ухода из жизни, реализовав его на следующий день после выхода его главного труда.
С шопенгауэровской традицией, влиянием Серена Кьеркегора (1813–1855) (у него есть парадоксальное суждение: «Да, я не господин своей судьбы, а лишь нить, вплетенная в общую ткань жизни! Но если я не могу ткать сам, то могу обрезать нить»[12 - Кьеркегор С. Наслаждение и долг. – Киев: Airland, 1994, с. 40.]) и Ф. М. Достоевского связана и поглощенность экзистенциализма добровольным уходом из жизни. Основным предметом философской рефлексии становится абсурд существования – «состояние души, когда пустота становится красноречивой, когда рвется цепь каждодневных действий, и сердце впустую ищет утерянное звено»,[13 - Камю А. Миф о Сизифе // Сумерки богов. – М.: Политиздат, 1989, с. 229.] а единственной по-настоящему достойной внимания философской проблемой – проблема самоубийства.
Карл Ясперс (1883–1969) изучал проблему самоубийства профессионально, сначала как психиатр, а затем как экзистенциальный философ. К 30 годам он написал «Общую психопатологию» (1913), ставшую энциклопедией психиатрической мысли и определившую на многие десятилетия магистральные пути ее развития в современном мире. В ней он утверждает, что большинство самоубийств совершается не душевнобольными, а аномально предрасположенными лицами (психопатами). Позднее, став знаменитым психиатром, он круто меняет судьбу и сосредотачивается на философии. К. Ясперс доказывает тогдашнему академическому истеблишменту право быть философом, более десятилетия работая над трехтомным сочинением «Философия», вышедшим в 1931–1932 годах.
Несмотря на солидный объем, в нем отсутствует изложение философской системы в академическом смысле слова, а систематизированы и упорядочены идеи и размышления, составлявшие содержание экзистенциального философствования. О самоубийстве Ясперс пишет именно в этом стиле, окрашенном личной интонацией свободного размышления, лишенного стремления вывести все содержание мысли из единого общего принципа. Для Ясперса самоубийство связано с ситуацией как неповторимой констелляцией событий, которые определяют уникальность конкретной человеческой судьбы.
Психологический этюд Н. А. Бердяева (1874–1948) «О самоубийстве» написан философом в 1931 году за границей. Это реакция человека, мыслителя и христианина на участившиеся случаи суицидов в среде русской эмиграции, прежде всего молодежи. Настроения русских эмигрантов, правда, более поздние, ярко выражены в стихотворении Ивана Елагина:
Топчемся, чужую грязь меся.
Тошно под луною человеку.
Отвязаться бы от всех и вся!
С темного моста да прямо в реку!
Гибнет осень от кровопотерь,
Улица пустынна и безлиства.
И не все ли мне равно теперь —
Грех или не грех самоубийства,
Если жизнь тут больше не при чем,
Если все равно себя разрушу,
Если все равно параличом
Мне уже давно разбило душу.[14 - Елагин И. Собр. соч. В 2 т. – М.: Согласие, 1998, т. 1, с. 104.]
Н. А. Бердяев, будучи непримиримым противником самоубийства, считал, что его порождает бессмысленное и бесцельное страдание и безнадежность. Страдание может получить смысл только в религиозном отношении к жизни, которое дает человеку духовную силу. Позднее в опыте философской автобиографии «Самопознание» Н. А. Бердяев возвращается к темам экзистенциальной скуки, тоски и страдания, побуждающим человека искать инфернального небытия.
Поскольку историко-феноменологические тексты, представленные в данном разделе, принадлежат перу отечественных писателей, врачей и юристов, имеет смысл кратко остановиться на отношении к самоубийству в России.
В Древней Руси до принятия христианства, как свидетельствует Н. М. Карамзин в «Истории государства Российского, «славянки не хотели переживать мужей и добровольно сожигались на костре с их трупами. Вдова живая бесчестила семейство. Думают, что сие варварское обыкновение, истребленное только благодетельным учением Христианской Веры, введено было славянами (равно как и в Индии) для отвращения тайных мужеубийств».[15 - Карамзин Н. М. История государстива Российского. В 12 т. – М.: Наука, 1989, т. 1, с. 65.] Позднее умерших не по-христиански (то есть посредством самоубийства) хоронили по давнему языческому обычаю отдельно от остальных, под домашним порогом, нередко пробив грудь самоубийцы осиновым колом, что являлось защитой от нечистой силы.
Приравненное к убийству на основании 14–го канонического ответа Тимофея Александрийского, утвержденного VI Вселенским Собором (680–681), самоубийство рассматривалось православием как уголовно наказуемое деяние и по церковному праву каралось лишением христианского погребения, если только оно не случалось «вне ума» («священнослужитель должен рассудити, подлинно ли, будучи вне ума, соделал сие»).[16 - См.: Таганцев Н. С. О преступлении против жизни по русскому праву. – СПб., 1873, т. 2, с. 408; Паперно И. Самоубийство как культурный институт. – М.: Новое литературное обозрение, 1999.] Законом предусматривалась недействительность духовных завещаний самоубийц. Однако уголовному наказанию не подлежали суицидальные действия, совершаемые по соображениям чести и самопожертвования, а также произведенные в состоянии умопомешательства. При Петре I в Военном и Морском Артикуле появилась суровая запись, касающаяся самоубийц: «Ежели кто себя убьет, то мертвое тело привязать к лошади, волоча по улицам, за ноги подвесить, дабы, смотря на то, другие такого беззакония над собой чинить не отважились».[17 - Таганцев Н. С. Указ соч., с. 409–410.]
Перу выдающегося судебного оратора, ученого-правоведа, талантливого писателя и общественного деятеля А. Ф. Кони (1844–1827) принадлежит очерк «Самоубийство в законе и жизни» (1923), основанный на опыте его работы в суде и философском осмыслении проблемы. Рост числа самоубийств (кстати, именно это побудило Кони в период НЭПа подытожить свои размышления) он соотносил с социальными явлениями. Анализируя вопрос о карательных мерах в отношении самоубийства, А. Ф. Кони считал их вопиющими в своей нецелесообразности. Следует отметить, что именно благодаря его усилиям, положению и авторитету в императорской России ставился вопрос о правомерности уголовного наказания суицидентов за отсутствием состава преступления, что и было учтено в последней редакции «Уложения о наказаниях» (1903), которое, к сожалению, в силу своей исключительной либеральности так и не было утверждено и осталось в виде проекта. Важно отметить, что А. Ф. Кони был одним из пионеров того, что сегодня именуется постмортальной аутопсией – изучением мотивов, особенностей личности и поведения суицидента, в том числе с использованием психологического анализа посмертных записок.
В русской истории описаны случаи коллективных самоубийств последователей ересей и расколоучений по религиозным мотивам. Например, в конце XVII-начале XVIII века под влиянием знаменитого «отрицательного писания инока Ефросина» произошло около 40 следовавших одно за другим массовых самосожжений («гарей») и самоутоплений, в которых погибло до 20 тысяч старообрядцев. Отдельными эпизодами это повторялось и в XIX веке: например, известное коллективное самоубийство в Терновских хуторах, когда во избежание наложения «антихристовой печати» (проведения всероссийской переписи) более 20 человек, большей частью старообрядцев, покончило с собой, живьем закопав себя в землю.
Это событие и ему подобные исторические прецеденты стали предметом феноменологического анализа известного отечественного психиатра, профессора психиатрии и нервных болезней Киевского университета Св. Владимира И. А. Сикорского «Эпидемические вольные смерти и смертоубийства в Терновских хуторах (близ Тирасполя). Психологическое исследование». Он связывал проблему суицида с такими понятиями, как «борьба инстинкта жизни с инстинктом смерти», и подчеркивал значение «нравственных директив» в принятии индивидом решения о самоубийстве, отмечал влияние прочности традиционных устоев в обществе на распространенность суицидального поведения. И. А. Сикорский (1842–1919) считал, что, повторяясь в ходе русской истории, массовые самоубийства среди членов религиозных сект представляют собой психические заболевания эпидемического характера. Интересно, что противником этой интерпретации был русский философ Василий Розанов, в представлении которого вольные смерти крестьян-старообрядцев были метафизическим явлением – трагическим действием заблуждающейся веры, направленным на спасение души. С брошюрой Сикорского Розанов поступил следующим образом: полностью перепечатал ее под своим именем в книге «Темный Лик. Метафизика христианства» (1910), снабдив собственными откровенно ядовитыми и ироническими многословными подстрочными комментариями.
Следует отметить, что во второй половине ХIХ века с легкой руки корифеев французской психиатрии, прежде всего Этьенна Эскироля, господствовала точка зрения о существовании суицидомании, то есть убеждение, что только в состоянии безумия человек может покушаться на свою жизнь и что все самоубийцы – душевнобольные. С другой стороны, достаточным вниманием пользовалась концепция итальянского ученого Чезаре Ломброзо о связи гениальности и помешательства. Хотя обе теории и грешили против истины, тем не нее благодаря им у психиатров возник интерес к патографии – анализу психических расстройств у известных исторических личностей.
Образцами этого психобиографического жанра являются исследовательские очерки выдающегося русского психиатра П. И. Ковалевского (1849–1923) «Саул, царь Израилев» и «Людвиг II, король Баварский», написанные в самом начале ХХ века. П. И. Ковалевский анализирует динамику психического состояния и суицидального поведения этих венценосцев. Стиль П. И. Ковалевского характеризуется не только строгостью научных обобщений, глубиной анализа, но и тонкой исторической наблюдательностью и художественностью воссоздания исторических образов. Одаренный ученый-психиатр, основатель первого в России психиатрического журнала, П. И. Ковалевский одновременно пользовался авторитетом в кругах широкой интеллигенции и как историк, опубликовавший несколько монографий («Завоевание Кавказа Россией», «История Малороссии» и др.).
В конце XVIII века с проникновением в Россию сентиментализма (прежде всего культа «Страданий юного Вертера»), культурных тенденций европейского Просвещения и социальных веяний Французской революции самоубийство становится темой литературы и философии, культурно значимой моделью поведения. Отечественных документальных источников романтической эпохи не так много, поэтому особый интерес представляют изыскания Ю. М. Лотмана (1922–1993) по проблеме суицидального поведения той поры, которое является для него одной из знаковых культурно-исторических ситуаций.
В начале ХХ века эпидемия самоубийств затронула в очередной раз не только русское общество, но и русскую литературу. В определенной мере эталоном стал роман Михаила Арцыбашева «У последней черты» (1911), произведение искреннее и неординарное, в котором все значительные герои кончают с собой. Но и во многих других произведениях поэтов и писателей серебряного века (и в решении ими самими сложных жизненных ситуаций) самоубийству уделяется повышенное внимание. Одни проходят через попытки добровольного ухода из жизни, причем кое-кто неоднократно (К. Бальмонт, Н. Гумилев, М. Кузмин, А. Белый, М. Волошин, О. Мандельштам), другие доводят их до трагического финала (М. Цветаева), над третьими витает дух саморазрушения их близких (Ф. Сологуб). Типичная для той эпохи ситуация описана Владиславом Ходасевичем (1886–1939) в мемуарной книге «Некрополь» (1939) в главе «Конец Ренаты», где повествуется о трагической судьбе русской поэтессы Нины Петровской, игравшей заметную роль в литературе и в жизни видных представителей серебряного века.
Рефлексия по поводу более поздних событий и судеб поэтов, ставших символами трагедии русской литературы в послеоктябрьскую эпоху (В. Маяковского, С. Есенина, М. Цветаевой, П. Яшвили), представлена небольшим фрагментом из очерка Бориса Пастернака (1890–1960) «Люди и положения» (1956), который содержит несравненный по глубине анализ психического состояния человека, стоящего у последней черты.
Поиску экзистенциального смысла и отражению кризиса личности в художественных текстах посвящено исследование известного современного психолога, поэта и публициста Бориса Херсонского.
А. Н. Моховиков
Луций Анней Сенека
Нравственные письма к луцилию
Письмо 4
Сенека приветствует Луцилия!
Упорно продолжай то, что начал, и поспеши сколько можешь, чтобы подольше наслаждаться совершенством и спокойствием твоей души. Есть наслаждение и в том, чтобы совершенствовать ее, чтобы стремиться к спокойствию; но совсем иное наслаждение ты испытываешь, созерцая дух, свободный от порчи и безупречный. Ты, верно, помнишь, какую радость испытал ты, когда, сняв претексту, надел на себя мужскую тогу и был выведен на форум? Еще большая радость ждет тебя, когда ты избавишься от ребяческого нрава и философия запишет тебя в число мужей. Ведь и до сей поры остается при нас уже не ребяческий возраст, но, что гораздо опаснее, ребячливость. И это тем хуже, что нас чтут как стариков, хотя в нас живут пороки мальчишек, и не только мальчишек, но и младенцев; ведь младенцы боятся вещей пустяшных, мальчишки – мнимых, а мы – и того и другого. Сделай шаг вперед – и ты поймешь, что многое не так страшно как раз потому, что больше всего пугает. Никакое зло не велико, если оно последнее. Пришла к тебе смерть? Она была бы страшна, если бы могла оставаться с тобою, она же или не явится, или скоро будет позади, никак не иначе.
«Нелегко, – скажешь ты, – добиться, чтобы дух презрел жизнь». Но разве ты не видишь, по каким ничтожным причинам от нее с презреньем отказываются? Один повесился перед дверью любовницы, другой бросился с крыши, чтобы не слышать больше, как бушует хозяин, третий, пустившись в бега, вонзил себе клинок в живот, только чтобы его не вернули. Так неужели, по-твоему, добродетели не под силу то, что делает чрезмерный страх? Спокойная жизнь – не для тех, кто слишком много думает о ее продлении, кто за великое благо считает пережить множество консульств. Каждый день размышляй об этом, чтобы ты мог равнодушно расстаться с жизнью, за которую многие цепляются и держатся, словно уносимые потоком – за колючие кусты и острые камни. Большинство так и мечется между страхом смерти и мученьями жизни; жалкие, они и жить не хотят, и умереть не умеют. Сделай же свою жизнь приятной, оставив всякую тревогу о ней. Никакое благо не принесет радости обладателю, если он в душе не готов его утратить, и всего безболезненней утратить то, о чем невозможно жалеть, утратив. Поэтому укрепляй мужеством и закаляй свой дух против того, что может произойти даже с самыми могущественными. Смертный приговор Помпею вынесли мальчишка и скопец. Крассу – жестокий и наглый парфянин. Гай Цезарь приказал Лепиду подставить шею под меч трибуна Декстра – и сам подставил ее под удар Хереи. Никто не был так высоко вознесен фортуной, чтобы угрозы ее были меньше ее попустительства. Не верь затишью: в один миг море взволнуется и поглотит только что резвившиеся корабли. Подумай о том, что и разбойник и враг могут приставить тебе меч к горлу. Но пусть не грозит тебе высокая власть – любой раб волен распоряжаться твоей жизнью и смертью. Я скажу так: кто презирает собственную жизнь, тот стал хозяином твоей. Вспомни пример тех, кто погиб от домашних козней, изведенный или силой, или хитростью, – и ты поймешь, что гнев рабов погубил не меньше людей, чем царский гнев. Так какое тебе дело до могущества того, кого ты боишься, если то, чего ты боишься, может сделать всякий? Вот ты попал в руки врага, и он приказал вести тебя на смерть. Но ведь и так идешь ты к той же цели! Зачем же ты обманываешь себя самого, будто лишь сейчас постиг то, что всегда с тобой происходило? Говорю тебе: с часа твоего рождения идешь ты к смерти. Об этом должны мы думать и помнить постоянно, если хотим безмятежно дожидаться последнего часа, страх перед которым лишает нас покоя во все остальные часы.
А чтобы мог я закончить письмо, – узнай, что приглянулось мне сегодня (и это сорвано в чужих садах): «Бедность, сообразная закону природы, – большое богатство». Знаешь ты, какие границы ставит нам этот закон природы? Не терпеть ни жажды, ни голода, ни холода. А чтобы прогнать голод и жажду, тебе нет нужды обивать надменные пороги, терпеть хмурую спесь или оскорбительную приветливость, нет нужды пытать счастье в море или идти следом за войском. То, чего требует природа, доступно и достижимо, потеем мы лишь ради избытка. Ради него изнашиваем мы тогу, ради него старимся в палатках лагеря, ради него заносит нас на чужие берега. А то, чего с нас довольно, у нас под рукой. Кому и в бедности хорошо, тот богат. Будь здоров.
Письмо 69
Сенека приветствует Луцилия!
Мне не хочется, чтобы ты странствовал и скакал с места на место: во-первых, частые переезды – признак нестойкости духа, который, пока не перестанет блуждать да озираться вокруг, не сможет утвердиться в привычке к досугу. Чтобы держать в узде душу, сперва останови бег тела. Во-вторых, чем длительнее лечение, тем больше от него пользы; нельзя прерывать покой, приносящий забвение прежней жизни. Дай глазам отучиться смотреть, дай ушам привыкнуть к спасительному слову. Как только ты двинешься с места, так еще по пути что-нибудь попадется тебе – и вновь распалит твои вожделения. Как влюбленным, чтобы избавиться от своей страсти, следует избегать всего напоминающего о любимом теле (ведь ничто не крепнет легче, чем любовь), так всякому, кто хочет погасить в себе прежние вожделенья, следует отвращать и взор и слух от покинутого, но еще недавно желанного. Страсть сразу поднимает мятеж: куда она ни обернется, тотчас же увидит рядом какую-нибудь приманку для своих притязаний. Нет зла без задатка: жадность сулит деньги, похотливость – множество разных наслаждений, честолюбие – пурпур, и рукоплескания, и полученное через них могущество, и все, что это могущество может. Пороки соблазняют тебя наградой; а тут тебе придется жить безвозмездно. И за сто лет нам не добиться, чтобы пороки, взращенные столь долгим потворством, покорились и приняли ярмо, а если мы еще будем дробить столь короткий срок – и подавно. Только непрестанное бдение и усердие доводят любую вещь до совершенства, да и то с трудом.