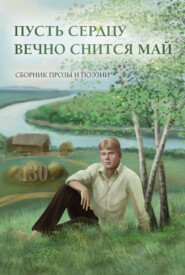По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Отец Арсений
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И этот скудный обед, который не восстанавливал затраченных сил и был рассчитан на медленное истощение заключенных, мог быть отнят, ни один политический не был уверен, что сегодня он съест его.
Отец Арсений, попав в «особый», часто лишался обеда, но никогда на роптал. Останется без обеда, придет в барак, ляжет на нары и начинает молиться.
Вначале кружилась голова, знобило от холода и голода, сбивались мысли, но, прочтя вечерню, утреню, акафист Божией Матери, Николаю Угоднику и своему святому Арсению, помянув своих духовных детей, всех усопших, кого сохранила память, и так, бывало, всю ночь молясь, утром встает – и как будто силы есть, спал и сыт.
Духовных детей у о. Арсения было много и на воле, и в лагерях, и душа его болела за них. Раньше в простых лагерях получал иногда письма, а когда перевели в «особый», все кончилось.
В «особый» переводили опасных заключенных, переводили умирать без расстрела, от установленного режима.
Духовные дети о. Арсения считали, что он умер. Обращались в органы, а там ответ один: если перевели в лагерь «особого режима» – «не значится».
…Было темно, колонны заключенных одна за другой входили в зону и растекались по баракам. Бараки оживали. В бараке о. Арсения сегодня было жарко, ребята входили злые, усталые, но, входя в теплый барак, радовались и ругались больше для порядка. Отца Арсения не били и при обеде пайку не отняли, то ли случайно, то ли у других «шарашили».
Двум лежачим больным досталась от обеда только половина пайкового хлеба, да о. Арсений от себя кусок прогорклой трески спрятал за пазуху.
Придя в барак, о. Арсений стал кормить больных: нагрел воду с хвоей, добавил аспирин и обоих напоил. Хлеб и треску разделил пополам и дал каждому.
Дней через пять пошли больные на поправку, стало видно, что останутся живы, но лежали еще недвижны и шагу сделать не могли. Все это время о. Арсений урывками и ночами ухаживал за ними и делился частью своего пайка.
Что это за люди, о. Арсений не знал. Попали в барак больными с этапа, почти в беспамятстве, и поэтому никто их толком не знал. Заботы о. Арсения больные принимали холодно, но обойтись без него не могли, и, если бы не он, то давно бы им лежать в мерзлой земле. О себе не рассказывали, а о. Арсений и не спрашивал, по лагерным обычаям не полагалось, да и ни к чему это было. Сколько таких людей видел он по лагерям, не счесть. Бывало, выходит больного, расстанется и никогда больше не увидит. Да разве всех запомнишь!
Как-то от одного больного о. Арсений узнал, что зовут его Сазиков Иван Александрович. Молча подавая Сазикову еду или лекарство, о. Арсений молился по своему обыкновению, и губы его беззвучно двигались, шепча слова молитвы. Заметив это, Сазиков проговорил: «Молишься, папаша! Грехи замаливаешь и нам поэтому помогаешь. Бога боишься! а ты Его видел?»
Посмотрел о. Арсений на Сазикова и с удивлением произнес: «Как же не видел, Он здесь, посреди нас, и соединяет сейчас нас с Вами».
«Да что, ты, поп, говоришь, в этом бараке – и Бог!» – засмеялся Сазиков. Посмотрел о. Арсений на Сазикова и тихо сказал: «Да! Вижу Его присутствие, вижу, что душа ваша хоть и черна от греха и покрыта коростой злодеяний, но будет в ней место и свету. Придет для тебя, Серафим, свет, и святой твой, Серафим Саровский, тебя не оставит».
Исказилось лицо Сазикова, задрожал весь и с ненавистью прошептал: «Пришибу, поп, все равно пришибу. Знаешь много, только понять не могу – откуда?»
Отец Арсений повернулся и пошел, повторяя про себя: «Господи! Помилуй мя грешного». Время шло, работы надо было сделать много, и, совершая ее, читал о. Арсений акафисты, правила про себя, по памяти, вечерню, утреню, иерейское правило.
Второй больной, из репрессированных, стал постепенно поправляться. История его была самая обыкновенная, таких историй в лагере были тысячи, все одна на другую похожие.
Революцию Октябрьскую «делал», член партии с семнадцатого года, Ленина знал, армией командовал в 1920 г., в ЧК занимал большой пост, приговоры «тройки» утверждал, а последнее время в НКВД работал членом коллегии, а теперь и его послали умирать в лагерь особого назначения.
В бараке репрессированные разные были, одни за глупое слово умирали, большинство попало по ложным доносам, другие за веру, третьих – идейных коммунистов – кому-то надо было убрать, так как стояли им «поперек дороги».
Всем им, сюда попавшим, необходимо было рано или поздно умереть в «особом». Всем!
Был идейным и Авсеенков Александр Павлович. Как фамилию эту назвали, сразу вспомнил о. Арсений этого человека. Часто упоминалась эта фамилия в газетах, да и приговор о. Арсению утверждал Александр Павлович.
Когда постановление «тройки» о расстреле о. Арсения «за контрреволюционную деятельность» и о замене расстрела пятнадцатью годами «лагеря особого режима» зачитывали, фамилия эта запомнилась.
Авсеенков был уже не молод, с виду лет около сорока-пяти-десяти, но лагерная жизнь наложила на него тяжелый отпечаток, в лагере ему было труднее многих.
Голод, изнурительная работа, избиения, постоянная близость смерти – бледнели перед сознанием, что вчера еще он сам посылал сюда людей и искренно верил тогда, подписывая приговоры, на основании решения «тройки», что посланные в лагерь люди или приговоренные к расстрелу были действительно «враги народа».
Попав в лагерь и соприкоснувшись с заключенными, он отчетливо понял и осознал, что совершал дело страшное, чудовищное, послав на смерть множество невинных людей.
Не видя с высоты своей должности истинного положения вещей и событий, утерял правду, верил протоколам допросов, льстивым словам подчиненных, сухим директивам, а связь с живыми людьми и жизнью утерял.
Мучился безмерно, переживал, но ничего решить для себя Авсеенков не мог. Сознание духовной опустошенности и ущербности сжигало его. Был молчалив, добр, делился с людьми последним, уголовников и начальства не боялся.
В гневе был страшен, но головы не терял, за обижаемых вступался, за что и попадал часто в карцер.
Привязался Авсеенков к о. Арсению, полюбил его за доброту и отзывчивость. Бывало, часто говорил о. Арсению:
«Душа-человек Вы, о. Арсений (в бараке большинство заключенных звало о. Арсения – «отец Арсений»), – вижу это, но коммунист я, а Вы служитель культа, священник. Взгляды у нас разные. По идее я должен бороться с Вами, так сказать, идеологически».
Отец Арсений улыбнется и скажет:
«Э! Батенька! Чего захотели, бороться. Вот боролись, боролись, а лагерь-то Вас с Вашей идеологией взял да и поглотил, а моя вера Христова и там, на воле, была и здесь со мною.
Бог всюду один и всем людям помогает. Верю, что и Вам поможет!»
А как-то раз сказал: «Мы с Вами, Александр Павлович, старые знакомые. Господь нас давно вместе свел и встречу нам в лагере уготовил».
«Ну! Уж это Вы, о. Арсений, что-то путаете. Откуда я мог Вас знать?»
«Знали, Александр Павлович. В 1933 году, когда дела церковные круто решались, брата нашего – верующих – сотнями тысяч высылали, церквей видимо-невидимо позакрывали, так я тогда по Вашему ведомству первый раз проходил.
Первый приговор Вы мне утвердили в 1939 году, опять же по Вашей «епархии». Только одну работу в печать сдал, взяли меня по второму разу и сразу приговорили к расстрелу. Спасибо Вам, расстрел «особым» заменили. Вот так и живу по лагерям и ссылкам, все Вас дожидался, ну наконец и встретились.
Бога ради не подумайте, что я хочу упрекнуть Вас в чем-то, во всем воля Божия, и моя жизнь в общем океане жизни – капля воды, которую Вы и запомнить, естественно, в тысячном списке приговоренных не могли. Одному Господу все известно. Судьба людей в Его руках».
Попик
Жизнь и работа в лагерях нечеловеческая, страшная. Каждый день к смерти приближает и часто года вольной жизни стоит, но, зная это, не хотели заключенные, не желали умирать духовно, пытались внутренне бороться за жизнь, сохранить дух, хотя это и не всегда удавалось.
Говорили, спорили о науке, жизни, религии, иногда читали лекции об искусстве, научных открытиях, устраивали маленькие литературные вечера, воспоминания, читали стихи.
На общем фоне жестокости, грубости и сознания близкой неизбежной смерти, голода, крайней степени истощения и постоянного присутствия уголовников это было поразительно.
«Особый» жил страхом, насилием, голодом, но заключенные часто стремились найти друг в друге поддержку, и это помогало жить.
Авсеенков, наблюдая жизнь заключенных, пришел к выводу что в среднем больше двух лет редко кто выживал в «особом», и думал: а сколько еще осталось ему? В зависимости от волны арестов в барак попадали инженеры, военные, церковники, ученые, артисты, колхозники, писатели, агрономы, врачи, и тогда в бараке невольно возникали «землячества», состоящие из людей этих профессий.
Все были забиты, но тем не менее можно было видеть желание этих людей не забыть своего прошлого, своей профессии. Все вспоминалось в совместных разговорах.
Особенно жаркими были споры, возникавшие по любому поводу, люди горячились, старались доказать только свое, при этом каждый говорил так, как будто от его доказательства зависит исход любых событий и решений.
Отец Арсений в спорах не участвовал, ни к кому не примыкал, был со всеми общителен и ровен. Начнется спор, а о. Арсений отойдет к своему лежаку, сядет на него и начнет про себя молиться.
Интеллигенция барака относилась к о. Арсению снисходительно. «Одно слово попик, да еще притом весьма серенький, добрый, услужливый, но культуры внутренней почти никакой нет, потому так и в Бога верит, другого-то ничего нет за душой». Такое мнение было у большинства. Случилось как-то, что собралось в бараке человек десять-двенадцать художников, писателей, искусствоведов, артистов.
Придут, бывало, с работ, в «столовую» сбегают, отдохнут, пройдет поверка, запрут барак, ну и начинаются разговоры: о театре, литературе, медицине, искусстве, – оживятся, спорят.
Как-то зашел разговор о древней русской живописи и архитектуре, и один заключенный высокого роста, сохранивший даже в лагере барственную осанку и манеры, с большим апломбом и жаром рассуждал об этих предметах. Собравшиеся с большим интересом слушали его.