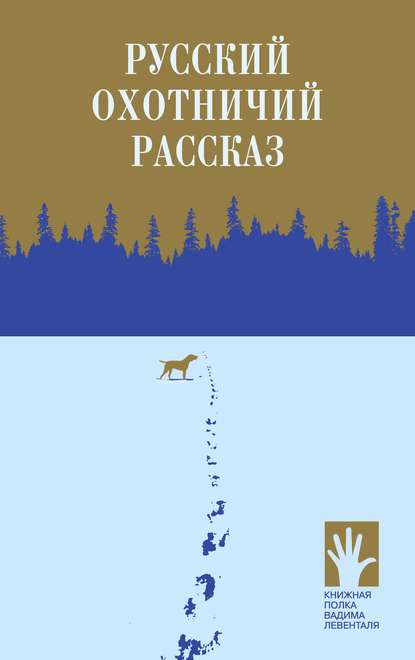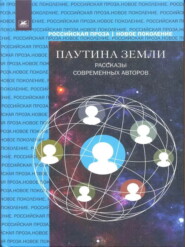По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Русский охотничий рассказ
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А брат у меня сбежал.
– Ну, а у отца твоей первой барыни чем ты был?
– А в разных должностях состоял: сперва в казачках находился, фалетором[8 - Форейтор – при езде четверками или шестерками верховой, сидящий на одной из передних лошадей.] был, садовником, а то и доезжачим[9 - Доезжачий – старший псарь, распоряжающийся борзыми и гончими на псовой охоте.].
– Доезжачим?.. И с собаками ездил?
– Ездил и с собаками, да убился: с лошадью упал и лошадь зашиб. Старый-то барин у нас был престрогий; велел меня выпороть да в ученье отдать в Москву, к сапожнику.
– Как в ученье? Да ты, чай, не ребенком в доезжачие попал?
– Да лет, этак, мне было двадцать с лишком.
– Какое ж тут ученье в двадцать лет?
– Стало быть, ничего, можно, коли барин приказал. Да он, благо, скоро умер, – меня в деревню и вернули.
– Когда же ты поварскому-то мастерству обучился?
Сучок приподнял свое худенькое и желтенькое лицо и усмехнулся.
– Да разве этому учатся?.. Стряпают же бабы!
– Ну, – промолвил я, – видал ты, Кузьма, виды на своем веку! Что ж ты теперь в рыболовах делаешь, коль у вас рыбы нету?
– А я, батюшка, не жалуюсь. И славу богу, что в рыболовы произвели. А то вот другого, такого же, как я, старика – Андрея Пупыря – в бумажную фабрику, в черпальную, барыня приказала поставить. Грешно, говорит, даром хлеб есть… А Пупырь-то еще на милость надеялся: у него двоюродный племянник в барской конторе сидит конторщиком: доложить обещался об нем барыне, напомнить. Вот те и напомнил!.. А Пупырь в моих глазах племяннику-то в ножки кланялся.
– Есть у тебя семейство? Был женат?
– Нет, батюшка, не был. Татьяна Васильевна покойница – царство ей небесное! – никому не позволяла жениться. Сохрани бог! Бывало, говорит: «Ведь живу же я так, в девках, что за баловство! чего им надо?»
– Чем же ты живешь теперь? Жалованье получаешь?
– Какое, батюшка, жалованье!.. Харчи выдаются – и то слава тебе, господи! много доволен. Продли бог века нашей госпоже!
Ермолай вернулся.
– Справлена лодка, – произнес он сурово. – Ступай за шестом – ты!..
Сучок побежал за шестом. Во все время моего разговора с бедным стариком охотник Владимир поглядывал на него с презрительной улыбкой.
– Глупый человек-с, – промолвил он, когда тот ушел, – совершенно необразованный человек, мужик-с, больше ничего-с. Дворовым человеком его назвать нельзя-с… и все хвастал-с… Где ж ему быть актером-с, сами извольте рассудить-с! Напрасно изволили беспокоиться, изволили с ним разговаривать-с!
Через четверть часа мы уже сидели в дощанике Сучка. (Собак мы оставили в избе под надзором кучера Иегудиила.) Нам не очень было ловко, но охотники народ неразборчивый. У тупого, заднего конца стоял Сучок и «пихался»; мы с Владимиром сидели на перекладине лодки; Ермолай поместился спереди, у самого носа. Несмотря на паклю, вода скоро появилась у нас под ногами. К счастью, погода была тихая, и пруд словно заснул.
Мы плыли довольно медленно. Старик с трудом выдергивал из вязкой тины свой длинный шест, весь перепутанный зелеными нитями подводных трав; сплошные круглые листья болотных лилий тоже мешали ходу нашей лодки. Наконец мы добрались до тростников, и пошла потеха. Утки шумно поднимались, «срывались» с пруда, испуганные нашим неожиданным появлением в их владениях, выстрелы дружно раздавались вслед за ними, и весело было видеть, как эти кургузые птицы кувыркались на воздухе, тяжко шлепались об воду. Всех подстреленных уток мы, конечно, не достали: легко подраненные ныряли; иные, убитые наповал, падали в такой густой майер, что даже рысьи глазки Ермолая не могли открыть их; но все-таки к обеду лодка наша через край наполнилась дичью.
Владимир, к великому утешению Ермолая, стрелял вовсе не отлично и после каждого неудачного выстрела удивлялся, осматривал и продувал ружье, недоумевал и, наконец, излагал нам причину, почему он промахнулся. Ермолай стрелял, как всегда, победоносно, я – довольно плохо, по обыкновению. Сучок посматривал на нас глазами человека, смолоду состоявшего на барской службе, изредка кричал: «Вон, вон еще утица!» – и то и дело почесывал спину – не руками, а приведенными в движение плечами. Погода стояла прекрасная: белые круглые облака высоко и тихо неслись над нами, ясно отражаясь в воде; тростник шушукал кругом; пруд местами, как сталь, сверкал на солнце. Мы собирались вернуться в село, как вдруг с нами случилось довольно неприятное происшествие.
Мы уже давно могли заметить, что вода к нам понемногу все набиралась в дощаник. Владимиру было поручено выбрасывать ее вон посредством ковша, похищенного, на всякий случай, моим предусмотрительным охотником у зазевавшейся бабы. Дело шло как следовало, пока Владимир не забывал своей обязанности. Но к концу охоты, словно на прощанье, утки стали подниматься такими стадами, что мы едва успевали заряжать ружья. В пылу перестрелки мы не обращали внимания на состояние нашего дощаника, – как вдруг, от сильного движения Ермолая (он старался достать убитую птицу и всем телом налег на край), наше ветхое судно наклонилось, зачерпнулось и торжественно пошло ко дну, к счастью, не на глубоком месте. Мы вскрикнули, но уже было поздно: через мгновенье мы стояли в воде по горло, окруженные всплывшими телами мертвых уток. Теперь я без хохота вспомнить не могу испуганных и бледных лиц моих товарищей (вероятно, и мое лицо не отличалось тогда румянцем); но в ту минуту, признаюсь, мне и в голову не приходило смеяться. Каждый из нас держал свое ружье над головой, и Сучок, должно быть, по привычке подражать господам, поднял шест свой кверху. Первый нарушил молчание Ермолай.
– Тьфу ты, пропасть! – пробормотал он, плюнув в воду, – какая оказия! А все ты, старый черт! – прибавил он с сердцем, обращаясь к Сучку. – Что это у тебя за лодка?
– Виноват, – пролепетал старик.
– Да и ты хорош, – продолжал мой охотник, повернув голову в направлении Владимира, – чего смотрел? чего не черпал? ты, ты, ты…
Но Владимиру было уж не до возражений: он дрожал, как лист, зуб на зуб не попадал, и совершенно бессмысленно улыбался. Куда девалось его красноречие, его чувство тонкого приличия и собственного достоинства!
Проклятый дощаник слабо колыхался под нашими ногами… В миг кораблекрушения вода нам показалась чрезвычайно холодной, но мы скоро обтерпелись. Когда первый страх прошел, я оглянулся; кругом, в десяти шагах от нас, росли тростники; вдали, над их верхушками, виднелся берег. «Плохо!» – подумал я.
– Как нам быть? – спросил я Ермолая.
– А вот посмотрим: не ночевать же здесь, – ответил он. – На, ты, держи ружье, – сказал он Владимиру.
Владимир беспрекословно повиновался.
– Пойду сыщу брод, – продолжал Ермолай с уверенностью, как будто во всяком пруде непременно должен существовать брод, – взял у Сучка шест и отправился в направлении берега, осторожно выщупывая дно.
– Да ты умеешь ли плавать? – спросил я его.
– Нет, не умею, – раздался его голос из-за тростника.
– Ну, так утонет, – равнодушно заметил Сучок, который и прежде испугался не опасности, а нашего гнева, и теперь, совершенно успокоенный, только изредка отдувался и, казалось, не чувствовал никакой надобности переменить свое положение.
– И без всякой пользы пропадет-с, – жалобно прибавил Владимир.
Ермолай не возвращался более часу. Этот час нам показался вечностью. Сперва мы перекликивались с ним очень усердно; потом он стал реже отвечать на наши возгласы, наконец умолк совершенно. В селе зазвонили к вечерне. Меж собой мы не разговаривали, даже старались не глядеть друг на друга. Утки носились над нашими головами; иные собирались сесть подле нас, но вдруг поднимались кверху, как говорится, «колом», и с криком улетали. Мы начинали костенеть. Сучок хлопал глазами, словно спать располагался.
Наконец, к неописанной нашей радости, Ермолай вернулся.
– Ну, что?
– Был на берегу; брод нашел… Пойдемте.
Мы хотели было тотчас же отправиться; но он сперва достал под водой из кармана веревку, привязал убитых уток за лапки, взял оба конца в зубы и побрел вперед; Владимир за ним, я за Владимиром. Сучок замыкал шествие. До берега было около двухсот шагов, Ермолай шел смело и безостановочно (так хорошо заметил он дорогу), лишь изредка покрикивая: «Левей, – тут направо колдобина!» или: «Правей, – тут налево завязнешь…» Иногда вода доходила нам до горла, и раза два бедный Сучок, будучи ниже всех нас ростом, захлебывался и пускал пузыри: «Ну, ну, ну!» – грозно кричал на него Ермолай, – и Сучок карабкался, болтал ногами, прыгал и таки выбирался на более мелкое место, но даже в крайности не решался хвататься за полу моего сюртука. Измученные, грязные, мокрые, мы достигли, наконец, берега.
Часа два спустя мы уже все сидели, по мере возможности обсушенные, в большом сенном сарае и собирались ужинать. Кучер Иегудиил, человек чрезвычайно медлительный, тяжелый на подъем, рассудительный и заспанный, стоял у ворот и усердно потчевал табаком Сучка. (Я заметил, что кучера в России очень скоро дружатся.) Сучок нюхал с остервенением, до тошноты: плевал, кашлял и, по-видимому, чувствовал большое удовольствие. Владимир принимал томный вид, наклонял головку набок и говорил мало. Ермолай вытирал наши ружья. Собаки с преувеличенной быстротой вертели хвостами в ожидании овсянки; лошади топали и ржали под навесом… Солнце садилось; широкими багровыми полосами разбегались его последние лучи; золотые тучки расстилались по небу все мельче и мельче, словно вымытая, расчесанная волна… На селе раздавались песни.
Егор Дриянский
Записки мелкотравчатого[10 - Мелкотравчатыми, на охотничьем языке, называются те охотники, которые держат не более десяти собак и охотятся с ними без гончих – на хлопки (прим. Е. Дриянского).]
(отрывок)
После обеда между охотниками начался жаркий спор с различными шутками, прибаутками и прочими вариациями. Стерлядкин отпускал остроты насчет Бацова и ловко над ним подтрунивал; последний возражал, горячился, отбранивался, но все это было у него как-то невпопад, как говорят – «не в строку». Меня одолевала дремота, но уснуть не было возможности, потому что волею-неволею я обязан был состоять в роли свидетеля и посредника.
– Ну, ты, скажи, пожалуйста, так ли это все было, как я говорил? – обращался ко мне Атукаев, рассказывая о подвиге Чауса.