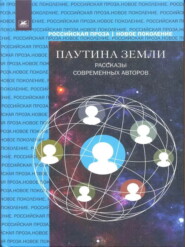По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Сказки о феях и эльфах
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пуффф!!! – негодник тайком
Как стрельнёт табаком,
Сапожник маленький – лепрекон!
Ах, какой же нахал!
Прямо в нос мне попал!
Я чихнул… И ещё, и ещё раз, а он —
Мелькнул в траве – и пропал!
Вильям Аллингем
Ирландия, 1824–1889
Ханс Кристиан Андерсен
Дюймовочка
Датская сказка в переводе П. и А. Ганзен
Жила-была женщина; ей страх как хотелось иметь ребёночка, да где его взять? И вот она отправилась к одной старой колдунье и сказала ей:
– Мне так хочется иметь ребёночка; не скажешь ли ты, где мне его взять?
– Отчего же! – сказала колдунья. – Вот тебе ячменное зерно; это не простое зерно, не из тех, что растут у крестьян на полях или что бросают курам; посади-ка его в цветочный горшок – увидишь, что будет!
– Спасибо! – сказала женщина и дала колдунье двенадцать скиллингов; потом пошла домой, посадила ячменное зерно в цветочный горшок, и вдруг из него вырос большой чудесный цветок вроде тюльпана, но лепестки его были ещё плотно сжаты, точно у нераспустившегося бутона.
– Какой славный цветок! – сказала женщина и поцеловала красивые пёстрые лепестки.
Что-то щёлкнуло, и цветок распустился совсем. Это был точь-в-точь тюльпан, но в самой чашечке на зелёном стульчике сидела крошечная девочка, и за то, что она была такая нежная, маленькая, всего с дюйм ростом, её и прозвали Дюймовочкой.
Блестящая лакированная скорлупка грецкого ореха была её колыбелькой, голубые фиалки – матрацем, а лепесток розы – одеяльцем; в эту колыбельку её укладывали на ночь, а днём она играла на столе. На стол женщина поставила тарелку с водою, а на края тарелки положила венок из цветов; длинные стебли цветов купались в воде, у самого же края плавал большой лепесток тюльпана. На нём Дюймовочка могла переправляться с одной стороны тарелки на другую; вместо вёсел у неё были два белых конских волоса. Всё это было прелесть как мило! Дюймовочка умела и петь, и такого нежного, красивого голоска никто ещё не слыхивал!
Раз ночью, когда она лежала в своей колыбельке, через раскрытое окно пролезла большущая жаба, мокрая, безобразная! Она вспрыгнула прямо на стол, где спала под розовым лепесточком Дюймовочка.
– Вот и жена моему сынку! – сказала жаба, взяла ореховую скорлупу с девочкой и выпрыгнула через окно в сад.
Там протекала большая, широкая река; у самого берега было топко и вязко; здесь-то, в тине, и жила жаба с сыном. У! Какой он был тоже гадкий, противный! Точь-в-точь мамаша.
– Коакс, коакс, брекке-ке-кекс! – только и мог он сказать, когда увидал прелестную крошку в ореховой скорлупке.
– Тише ты! Она ещё проснётся, пожалуй, да убежит от нас, – сказала старуха жаба. – Она ведь легче лебединого пуха! Высадим-ка её посередине реки на широкий лист кувшинки – это ведь целый остров для такой крошки, оттуда она не сбежит, а мы пока разбёрем там, внизу, наше гнёздышко. Вам ведь в нём жить да поживать.
В реке росло множество кувшинок; их широкие зелёные листья плавали по поверхности воды. Самый большой лист был дальше всего от берега; к этому-то листу подплыла жаба и поставила туда ореховую скорлупу с девочкой.
– Вот мой сынок, твой будущий муж!
Вы славно заживёте с ним у нас в тине.
Бедная крошка проснулась рано утром, увидала, куда она попала, и горько заплакала: со всех сторон была вода, и ей никак нельзя было перебраться на сушу!
А старая жаба сидела внизу, в тине, и убирала своё жилище тростником и жёлтыми кувшинками – надо же было приукрасить всё для молодой невестки! Потом она поплыла со своим безобразным сынком к листу, где сидела Дюймовочка, чтобы взять прежде всего её хорошенькую кроватку и поставить в спальне невесты. Старая жаба очень низко присела в воде перед девочкой и сказала:
– Вот мой сынок, твой будущий муж! Вы славно заживёте с ним у нас в тине.
– Коакс, коакс, брекке-ке-кекс! – только и мог сказать сынок.
Они взяли хорошенькую кроватку и уплыли с ней, а девочка осталась одна-одинёшенька на зелёном листе и горько-горько плакала – ей вовсе не хотелось жить у гадкой жабы и выйти замуж за её противного сына. Маленькие рыбки, которые плавали под водой, верно, видели жабу с сынком и слышали, что она говорила, потому что все повысунули из воды головки, чтобы поглядеть на крошку невесту. А как они увидели её, им стало ужасно жалко, что такой миленькой девочке приходится идти жить к старой жабе в тину. Не бывать же этому! Рыбки столпились внизу, у стебля, на котором держался лист, и живо перегрызли его своими зубами; листок с девочкой поплыл по течению, дальше, дальше… Теперь уж жабе ни за что было не догнать крошку!
Дюймовочка плыла мимо разных прелестных местечек, и маленькие птички, которые сидели в кустах, увидав её, пели:
– Какая хорошенькая девочка!
А листок всё плыл да плыл, и вот Дюймовочка попала за границу.
Красивый белый мотылёк всё время порхал вокруг неё и наконец уселся на листок – уж очень ему понравилась Дюймовочка! А она ужасно радовалась: гадкая жаба не могла теперь догнать её, а вокруг всё было так красиво! Солнце так и горело золотом на воде! Дюймовочка сняла с себя пояс, одним концом обвязала мотылька, а другой привязала к своему листку, и листок поплыл ещё быстрее.
Мимо летел майский жук, увидал девочку, обхватил её за тонкую талию лапкой и унёс на дерево, а зелёный листок поплыл дальше, и с ним мотылёк – он ведь был привязан и не мог освободиться.
Ах, как перепугалась бедняжка, когда жук схватил её и полетел с ней на дерево! Особенно ей жаль было хорошенького мотылёчка, которого она привязала к листку: ему придётся теперь умереть с голоду, если не удастся освободиться. Но майскому жуку и горя было мало.
Он уселся с крошкой на самый большой зелёный лист, покормил её сладким цветочным соком и сказал, что она прелесть какая хорошенькая, хоть и совсем не похожа на майского жука.
Потом к ним пришли с визитом другие майские жуки, которые жили на том же дереве. Они оглядывали девочку с головы до ног, и жучки-барышни пожимали щупальцами и говорили:
– У неё только две ножки! Жалко смотреть!
– У неё нет усиков! Какая у неё тонкая талия! Фи! Она совсем как человек! Как некрасиво! – сказали в один голос все жуки женского пола.
А Дюймовочка была премиленькая! Майскому жуку, который принёс её, она тоже очень понравилась сначала, а тут вдруг и он нашёл, что она безобразна, и не захотел больше держать её у себя – пусть идёт, куда знает. Он слетел с нею с дерева и посадил на ромашку. Тут девочка принялась плакать о том, что она такая безобразная: даже майские жуки не захотели держать её у себя! А на самом-то деле она была прелестнейшим созданием в свете: нежная, ясная, точно лепесток розы.
Целое лето прожила Дюймовочка одна-одинёшенька в лесу. Она сплела себе колыбельку и подвесила её под большой лопушиный лист – там дождик не мог достать её. Ела крошка сладкую цветочную пыльцу, а пила росу, которую каждое утро находила на листочках. Так прошли лето и осень; но вот дело пошло к зиме, длинной холодной зиме. Все певуньи птички разлетелись – кусты и цветы увяли, большой лопушиный лист, под которым жила Дюймовочка, пожелтел, весь засох и свернулся в трубочку. Сама крошка мёрзла от холода: платьице её всё разорвалось, а она была такая маленькая, нежная – долго ли тут замёрзнуть! Пошёл снег, и каждая снежинка была для неё то же, что для нас целая лопата снега; мы ведь большие, а она была всего-то с дюйм! Она завернулась было в сухой лист, но он совсем не грел, и бедняжка сама дрожала как лист.
Возле леса, куда она попала, лежало большое поле; хлеб давно был убран, одни голые, сухие стебельки торчали из мёрзлой земли; для Дюймовочки это был целый лес. Ух! Как она дрожала от холода! И вот пришла бедняжка к дверям полевой мыши; дверью была маленькая дырочка, прикрытая сухими стебельками и былинками. Полевая мышь жила в тепле и довольстве: все амбары были битком набиты хлебными зёрнами; кухня и кладовая у неё были на загляденье! Дюймовочка стала у порога, как нищенка, и попросила подать ей кусочек ячменного зерна – она два дня ничего не ела!
– Ах ты бедняжка! – сказала полевая мышь: она была, в сущности, добрая старуха. – Ступай сюда, погрейся да поешь со мною!
Девочка понравилась мыши, и мышь сказала:
– Ты можешь жить у меня всю зиму, только убирай хорошенько мои комнаты да рассказывай мне сказки – я до них большая охотница.
И Дюймовочка стала делать всё, что приказывала ей мышь, и зажила отлично.
– Скоро, пожалуй, у нас будут гости, – сказала как-то полевая мышь. – Мой сосед обычно навещает меня раз в неделю. Он живёт ещё куда лучше меня: у него огромные залы, а ходит он в чудесной бархатной шубе. Вот если бы тебе удалось выйти за него замуж! Ты бы зажила на славу! Беда только, что он слеп и не может видеть тебя; но ты должна рассказать ему самые лучшие сказки, какие только знаешь.
Но девочке мало было дела до всего этого: ей вовсе не хотелось выйти замуж за соседа – ведь это был крот. Он в самом деле скоро пришёл в гости к полевой мыши. Правда, он носил чёрную бархатную шубу, был очень богат и учён; по словам полевой мыши, помещение у него было раз в двадцать просторнее, чем у неё, но он совсем не любил ни солнца, ни прекрасных цветов и отзывался о них очень дурно – он ведь никогда не видел их. Девочке пришлось петь, и она спела две песенки: «Майский жук, лети, лети» и «Бродит по лугам монах», да так мило, что крот совсем в неё влюбился. Но он не сказал ни слова – он был такой степенный и солидный господин.
Крот недавно прорыл под землёй длинную галерею от своего жилья к дверям полевой мыши и позволил мыши и девочке гулять по этой галерее сколько угодно. Крот просил только не пугаться мёртвой птицы, которая лежала там. Это была настоящая птица, с перьями, с клювом; она, должно быть, умерла недавно, в начале зимы, и была зарыта в землю как раз там, где крот прорыл свою галерею.
Крот взял в рот гнилушку – в темноте это ведь всё равно, что свечка, – и пошёл вперёд, освещая длинную тёмную галерею. Когда они дошли до места, где лежала мёртвая птица, крот проткнул своим широким носом в земляном потолке дыру, и в галерею пробился дневной свет. В самой середине галереи лежала мёртвая ласточка; хорошенькие крылья были крепко прижаты к телу, лапки и головка спрятаны в пёрышки; бедная птичка, верно, умерла от холода. Девочке стало ужасно жаль её, она очень любила этих милых птичек, которые целое лето так чудесно пели ей песенки, но крот толкнул птичку своей короткой лапой и сказал: