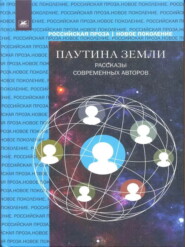По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Литературные раздумья. 220 лет Виктору Гюго
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Курите. – И пока Игнатьев прикуривал, полковник пристально вглядывался в его лицо. – Майор Игнатьев? Четвёртый механизированный корпус? Подо Львовом служили?
– Так точно, товарищ полковник, – удивился Игнатьев, не узнавая говорившего.
Тот, как видно, не спешил представиться и скосил глаза на петлицы:
– А почему старший лейтенант? Что случилось?
– В звании понизили, товарищ полковник.
– Так. Понятно. Ты, майор, – он упорно продолжал называть Игнатьева майором, – меня узнать не пытайся. Важнее то, что я тебя узнал. Ведь ты у нас в корпусе знаменитостью был. Герой Советского Союза. Маневры сорокового года помнишь? Лихо ты в тыл противника зашёл. Генерал Власов тебе тогда личную благодарность вынес. Сам видел, как он приказ о тебе зачитывал перед строем. А здесь что делаешь? За что тебе «шпалы» сняли?
Выслушав недолгий рассказ бывшего майора, полковник задумался. Потом, видимо что-то решив, произнёс:
– Я сейчас на Волховский фронт еду. Назначен во Вторую ударную. Хочешь – возьму тебя с собой. А с головой что? – спросил полковник, указывая на наложенную Эсфирью повязку.
– Да мелочь. Царапнуло.
– Ясно. Ну так как?
– Мне тут велели ждать…
– С ними я договорюсь. Соглашайся, а то не посмотрят, что Герой. Загонят в пекло.
Последнее замечание говорило о том, что полковник либо идеализирует положение Второй ударной армии, либо не имеет о нём ясного представления.
– Я не один, товарищ полковник. Эти, – Игнатьев кивнул на сидевших не шелохнувшись Михаэля и Эсфирь, – со мной.
Полковник заинтересованно посмотрел на Эсфирь:
– Она кто?
– Военврач, товарищ полковник.
– Одобряю выбор, – усмехнулся полковник, пристально глядя на Игнатьева, – а паренёк этот?
– Замполитрука, еврейчик. Но вы не смотрите, товарищ полковник. Медаль у него. Под Москвой, говорят, отличился.
Ещё раз оглянувшись на Михаэля и Эсфирь, полковник отвёл Игнатьева в сторону.
– А я и не смотрю, Игнатьев. Какое мне дело до того, у кого конец обрезан, а у кого – нет. Ладно. Беру всех с собой. Задача у Второй ударной грандиозная: прорыв блокады Ленинграда. Представляешь размах? Да, вот ещё что, – понизил голос полковник, – слух прошёл: генерала Власова на Волховский переводят, так что вместе с нашим командиром воевать скоро будем. Впрочем, я тебе ничего не говорил, а ты ничего не слышал. Возьми у ребят документы и свои давай.
На следующее утро Михаэль, Эсфирь и Игнатьев во главе с полковником выехали во Вторую ударную армию. И никто из них, даже сам полковник, не знал, что Вторая ударная, хотя и добившаяся первоначальных успехов, но измотанная зимними боями в непроходимых новгородских болотах, не способна наступать в направлении Ленинграда. Более того, она оказалась в «мешке». От основных сил фронта её отделял предельно узкий коридор, напоминавший бутылочное горло. Армию следовало немедленно выводить в тыл, но людей продолжали гнать в безнадёжное сражение. Их ожидало грандиозное поле смерти – настоящая долина костей…
* * *
Михаэль хорошо помнил тот вьюжный февральский день, когда в штабе армии, куда он попал вместе с Игнатьевым и Эсфирью, на него обратил внимание случайно оказавшийся рядом батальонный комиссар. Выяснилось, что полковник, с которым они прибыли, назначен на должность командира дивизии, и, получив официальный приказ за подписью командарма, он тут же стал распоряжаться. Игнатьева направил в один из полков своей дивизии командиром батальона, Эсфирь – в медсанбат. При этом полковник сказал старшему лейтенанту:
– Пока присваиваю капитана. Цепляй «шпалу» прямо сейчас. Оформим задним числом. Через пару месяцев вернём тебе майора и на полк поставим.
И только с Михаэлем полковник не знал, что делать. Занятый важными делами, он упустил из виду, что Михаэль был направлен в Первую ударную армию переводчиком. Михаэль не напоминал, и пока полковник думал, Игнатьев заявил:
– Возьму его с собой, товарищ полковник. Найду применение.
Но возникший неизвестно откуда и услышавший слова Игнатьева батальонный комиссар внезапно обратился к полковнику:
– Отдайте мне вашего паренька, товарищ полковник. Нам человек для армейской газеты нужен. Навёл о нём справки: политработник, комсомолец, награждён. Такой подойдёт.
Где комиссар наводил о Михаэле справки, осталось тайной.
– Вот его хозяин, – кивнул полковник на Игнатьева, – не знаю, отдаст ли…
– Возражаю, – нахмурился Игнатьев. – Хоть и… В общем, самому пригодится.
Старший лейтенант, а теперь капитан по привычке хотел сказать: «Хоть и еврей», но, взглянув на Эсфирь и вспомнив реакцию полковника в Крестцах, сдержался.
Полковник пожал плечами, словно демонстрируя свою непричастность, но неожиданно заговорила Эсфирь:
– Правильно, товарищ комиссар! У юноши последствия тяжёлой контузии. После госпиталя годен к нестроевой. Газета – лучшее для него место. Как врач говорю.
– Вот и отлично! Собирайтесь, замполитрука!
* * *
Через полчаса, распрощавшись со спутниками, Михаэль уже сидел в полуторке, на удивление легко катившейся по лесной дороге, благо стихла метель, и отвечал на вопросы батальонного комиссара, оказавшегося редактором газеты. Поездка была недолгой. Редакция размещалась неподалёку, и вскоре Михаэль входил в землянку, где находились свободные от выездных заданий газетчики: литературный редактор Лазарь Борисович – в мирной жизни известный ленинградский филолог; художник, а по призванию скульптор Евгений; девушка-корректор Женя и высокий худощавый юноша с печальным лицом, последним протянувший руку:
– Сева.
– А это, – представил Михаэля редактор, – заместитель политрука Михаил Гольдштейн, наш новый сотрудник.
Все с любопытством разглядывали снявшего в натопленной землянке полушубок Михаэля, причём смотрели куда-то ниже линии подбородка. Михаэль не сразу понял: разглядывают не его – разглядывают медаль, а молоденькая Женя, корректор, просто глаз не сводит.
– Михаил под Москвой воевал, к нам после ранения прибыл, – продолжал батальонный комиссар. – Расскажите нам немного о себе, Миша.
– Извините, товарищ редактор, – деликатно вмешался Лазарь Борисович. – Может, сядем пить чай, отметим прибытие Михаила. Ведь человек с дороги…
И уже через десять минут Михаэль сидел за столом и рассказывал о своём коротком, но насыщенном событиями боевом пути. Особый интерес вызвал морской переход из Таллина в Кронштадт. Присутствующие почти ничего об этом не слышали. К концу застолья Михаэль чувствовал себя так, словно знал этих людей давно. Напряжение спало. Теперь он был рад, что не попал к Игнатьеву. Много говорил, и слушатели переживали вместе с ним трагедию обороны Таллина, ужасались гибели беззащитных перед бомбами и минами кораблей и не знали, что их собственная судьба скоро будет страшней и тяжелее даже таллинской эпопеи.
Михаэль сдружился с новыми сослуживцами, особенно с Севой, и перестал тосковать о Латышской дивизии. О русской литературе он кое-что знал из школьной программы и от матери, о советской – мало, и фамилия Севы, покойный отец которого был очень известным поэтом, ничего не говорила Михаэлю. Севу это задело, и Михаэль долго доказывал новому приятелю, что при режиме президента Ульманиса всё советское находилось в Латвии под запретом. И редактору пришлось объяснять то же самое. Это поставило вопрос о работе Михаэля в газете. С языком у него проблем не было, но не хватало знаний и понимания советской действительности. А тут ещё ответственный секретарь сказал батальонному комиссару:
– Боюсь, Николай Дмитриевич, придётся отчислить Гольдштейна из газеты. Отправим-ка его лучше в политуправление армии. Пусть там решают, как использовать.
– Это ещё почему?
– А разве не ясно? Из буржуазной семьи парень, гимназист. В реалиях наших недостаточно разбирается. Он уроженец Прибалтики, а у нас тут идеологический фронт. Мы же с вами циркуляр насчёт прибалтов читали? Читали.
– Помню, – отозвался редактор, не желая уступать и ища какую-нибудь зацепку. – А как же Латышская дивизия? Доблестно воюют, говорят…
– И всё равно. Воспитание, образование… Ну не советский он.